Читать книгу "Дневники 1862–1910"
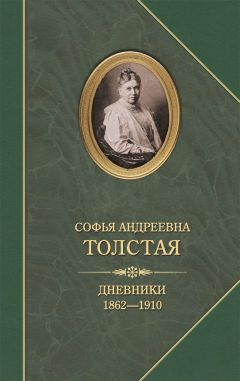
Автор книги: Софья Толстая
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Тут храбрость меня оставила, я вернулась домой и пошла к Ванечке. Он лег уже спать, стал меня ласкать и всё приговаривал: «Мама моя, моя мама!» Помню, когда, бывало, приду к детям после такого настроения, мне дети давали снова смысл жизни, а сегодня, к ужасу своему, я заметила, что, напротив, отчаяние мое стало хуже и дети подействовали грустно, безнадежно как-то.
Потом я легла, сначала в свою постель, потом меня взяло беспокойство об ушедшем Левочке, и я легла на воздухе, в гамаке, прислушиваясь, не возвратился ли он. Все понемногу собрались на террасе, вернулся и Левочка. Все болтали, кричали, смеялись. Левочка был оживлен как ни в чем не бывало; требования его разума, во имя идеи, не затронули его сердца, да и никак. Боль, которую он мне нанес, он столько уж раз наносил! О том, что я так близка была к самоубийству, он никогда не узнает; а узнает, не поверит.
В гамаке я заснула от этого страшного утомления нравственного и физического. Маша искала что-то со свечой и разбудила меня. Я пошла пить чай. Когда все собрались, читали вслух «Странного человека» Лермонтова. Когда разошлись и уехал Гинцбург, Левочка подошел ко мне, поцеловал меня и сказал что-то примирительное. Я просила его напечатать свое заявление и не говорить больше об этом. Он сказал, что не напечатает, пока я не пойму, что так надо. Я сказала, что лгать не умею и не буду, а понять не могу.
Сегодняшнее мое состояние меня подвинуло к смерти: что-то надломилось серьезно, по-старчески, сурово, мрачно. «Пусть бьют! Лишь бы добили скорей». Вот что думается.
И опять, и опять та же «Крейцерова соната» преследует меня. Сегодня я опять объявила ему, что больше жить с ним как жена – не буду. Он уверял, что только этого и желает, и я не поверила ему.
Теперь он спит, а я не могу идти к нему. Завтра именины Маши Кузминской, и дети под моим руководством готовят шараду. Дай бог не помешать им и не расстроить никого.
23 июля. То, что надломилось всей последней неприятностью, не пройдет никогда. Два раза я ходила сказать ему, что прошу напечатать свое заявление об отказе от права собственности на произведения последних годов. Пусть публично заявляет о том несогласии, которое существует в семье, я не боюсь никого, у меня дело только с моей совестью. Те деньги, которые я получаю с его книг, я всецело трачу на его же детей; только я регулирую расходы из моих рук, тогда как дети, если б всё было в их руках, тратили бы бестолково и несправедливо.
Теперь у меня одно чувство: снять с себя еще одно взваленное на меня нарекание, еще одну навязанную мне вину. Столько уж на моих плечах: раздел, навязанный мне против воли, воспитание мальчиков, с которыми придется переехать в Москву, все дела книжные, хозяйственные и вся ответственность нравственная за свою семью. Эти два дня у меня чувство, что я вся согнулась под тяжестью жизни, и если б не летучие муравьи, напавшие на Кузминского и заставившие его вернуться именно этой дорогой, меня не было бы, быть может, уж на свете. Я никогда так спокойно и решительно не шла к этому решению.
И несмотря на этот камень на сердце, вчера я руководила всей шарадой детей. Играли колода-колода. Участвовали Миша, Саня, Вася Кузминские, Борис Нагорнов, Андрюша и Миша. Саша появилась на минутку в виде ангела, и из нее же была картина живая.
Играли все порядочно; я считаю, что подобные развлечения необходимы для развития мальчиков и для занятия их воображения. Оно не принесет вредного направления. Кроме родных и Эрдели, были барышни Зиновьевы и вся прислуга, башкиры, кучера, вся дворня. Успех был большой, и все остались довольны. Когда всё кончилось, я просто качалась от утомления, а камень на сердце всё лежал и теперь лежит.
Вчера решили, что свадьба Маши Кузминской будет в Ясной Поляне 25 августа. Я очень рада; это упрощает и удешевляет мне всё это дело. Не нужно никому ехать в Петербург, и будет всем очень весело.
На дворе всё очень сухо, ветрено, ночи холодные. Огороды, сады, листва на деревьях, цветы, луга – всё посохло. Лева пишет из Самары, что и там так же.
Бюст Гинцбурга готов; он вышел довольно дурен. Но сам Гинцбург – плебей низкой души, и я рада, что он уехал.
Мнение мое о Гинцбурге совершенно изменилось. Он хороший и честный человек[88]88
Последний абзац приписан позднее.
[Закрыть].
26 июля. Вчера умерла на деревне молодая бабенка, жена Петра, сына Филиппа-кучера. Маша всё ходила ее лечить и говорила, что она больна горлом. Наконец объявила, что, по ее мнению, это дифтерит. Тогда я запретила ей ходить. Но если зараза попала – то поздно было запрещать. Очень жаль эту милую бабенку, но очень досадно на Машу, что она рискует заразить две семьи с маленькими детьми. По ее рассказам, это наверное дифтерит, и она с обычной хитростью скрывала это всё время. Теперь у ней нервы расстроены, она жалуется на горло и, видно, струсила. Ничего, ничего кроме горя, беспокойства, досады и жалости не возбуждает во мне эта дочь, посланная мне как крест.
Поправляла весь день корректуру «Азбуки». Ученый комитет не одобрил ее ввиду таких слов, как вши, блохи, черт, клоп, а также потому, что ошибки есть; еще предлагают выкинуть рассказы о лисе и блохах, о глупом мужике и другие, на что Левочка не согласился.
У Вани, Мити, Васи и Левочки – насморк. Шел сильный дождь, и была гроза. Теперь свежо. Левочка ездил вчера верхом в Тулу за доктором каким-то добродетельным; но последний оказался в Москве, а баба, для которой хлопотали, за это время умерла. Таня и Маша Кузминская уехали 24-го в Петербург шить кое-что к свадьбе.
27 июля. Страшно собой недовольна. С утра меня разбудил Левочка страстными поцелуями… Потом я взяла французский роман «Un coeur de femme» Бурже и читала до 11½ часов в постели, чего никогда не делаю. Всё это непростительное пьянство, которому я поддаюсь, и это в мои года! Мне грустно и совестно! Я чувствую себя грешной, несчастной, я не могу ничего сделать, хотя очень стараюсь. И всё это вместо того, чтоб встать раньше, отправить башкиров, которые запоздают на железную дорогу, написать нотариусу и послать за бумагами, посмотреть, что делают дети.
Саша и Ваня долго валялись у меня на постели, играли и смеялись. Я рассказала Ване сказку про Липунюшку, он был очень доволен. У Вани насморк, у Саши расстройство желудка. Потом я учила Мишу музыке, кротко и хорошо. Андрюша делает английский перевод и окончательно бросил музыку. У нас Соня Мамонова и Хохлов. Погода ясная и свежая.
Ах, какой странный человек мой муж! После того как у нас была эта история, на другое утро он страстно объяснялся мне в любви и говорил, что я так завладела им, что он не мог никогда думать, что возможна такая привязанность. И всё это физическое, и вот тайна нашего разлада. Его страстность завладевает и мной, а я не хочу всем своим нравственным существом, и никогда не хотела этого, я сентиментально мечтала и стремилась всю жизнь к отношениям идеальным, к общению всякому, но не тому. И жизнь прожита, и всё хорошее почти убито; идеал, во всяком случае, убит.
Роман Бурже меня завлек тем, что я прочла в нем ту мысль, то чувство, на которое сама была так способна. Женщина светская любит в одно и то же время двух: прежнего, благородного, любящего, прекрасного – почти мужа, хотя не признанного, и нового, красивого, тоже любящего ее. Я знаю, до какой степени возможна эта двойная любовь – и описано верно. Почему всегда одна любовь должна исключать другую? И почему нельзя любить, оставаясь честной?
29 июля. Тут Страхов; как всегда, необыкновенно приятен и умен. Приезжал Базилевич, и приехала какая-то курсистка из Казани, расспрашивать Левочку о разных жизненных и отвлеченных вопросах.
Левочка не совсем здоров желудком, ночью его лихорадило. Таня в Пирогове. Идет дождь и скучно. Беспокоюсь о Леве и Сереже. Написала письма: Тане, Гинцбургу и самарскому приказчику.
12 августа. Левочка поехал верхом в Пирогово. Тяжелая нравственная атмосфера в доме. Всё натянуто от неопределенного положения дел. Левочка объявил сегодня Маше, что остается здесь всю зиму и в Москву не поедет совсем, потому отговаривал ее поступать на фельдшерские курсы, куда она уже хотела посылать прошение о поступлении. На Таню известие это подействовало, очевидно, так же угнетающе, как на меня, но она молчит.
Мое же состояние души – ужасно! Что делать? Вся энергия, все попытки воспитывать детей дома – всё исчерпано. Я не могу больше! Я не знаю, как дальше быть, где учителей взять, будет ли Андрюша заниматься: он спал умственно всю зиму. Не знаю, что будет делать Лева и как я опять оставлю его. Не знаю, как проживу без Левочки и без девочек и они без нас, если я уеду в Москву с мальчиками. Господи, научи меня! С другой стороны, перевезти Левочку в Москву – он будет тосковать и сердиться. Всё равно жизнь наша врозь: я с детьми, он со своими идеями и своим эгоизмом; что разорвано, того не починишь. Надеюсь на Бога; когда придет момент решения, Бог научит меня.
Всё стараюсь развлечься, а то вдруг наплыв опять желания самоубийства, прекратить всю эту двойственную жизнь и всю ответственность решений… И вот сегодня четыре часа бегала с маленькой Сашей за грибами, а третьего дня ездила с Верой Кузминской, Андрюшей и Мишей в концерт Фигнеров. Было много знакомых, пели хорошо, и мне было весело.
От Левы было письмо из Астрахани, он поплывет по Каспийскому морю, но не попадет на Кавказ, в Пятигорск, как хотел, потому что на Военно-Грузинской дороге провал каменный и проезда до 10 сентября не будет. Я часто о нем беспокоюсь и грущу.
Пропасть яблок, страшно много, и большое количество грибов: белых, осиновых, березовых. Сегодня принесли опенки.
14 августа. Была в Туле; Андрюша и Миша примеряли платья у портного, я получала деньги для уплаты долгов Никольского (2000 рублей), Маша Кузминская встречала жениха и привезла его. Больна моя Маша, вся горит; лежит бледная и жалкая.
Получила телеграмму от Левы – запрос, когда свадьба Маши. Писала деловые письма и графине Александре Андреевне. Сбегала на полчаса за рыжиками с Сашей и Ванечкой; но очень мокро от шедшего дождя. Вечер сидела с Машей, а потом говорили о браке, любви, женщинах.
Таня, сестра, говорит: «Непременно ступай в Москву и сиди там; поверь, и муж, и барышни скорехонько соскучатся и приедут».
15 августа. Чудесная погода; соблазнилась с детьми идти за грибами и проходила четыре часа. Как было хорошо! Какой чудесный запах земли, как красивы рыжички мокрые во мху, мохнатые волвянки, крепенькие подберезнички; как успокоительна лесная тишина, как свежа росистая трава, и ясное небо, и дети с веселыми лицами и полными корзинами грибов! Вот это я называю настоящим наслаждением.
Получила письмо от Левы из Владикавказа и телеграмму из Кисловодска. Слава богу, хоть жив и цел. Маше лучше.
Вечером сидела у Кузминских с Таней, Машей и Валечкой Эрдели. Говорили о супружеских отношениях, я им рассказывала, как замуж выходила, и передо мной восстала вся моя прошедшая безотрадная довольно жизнь. Безотрадность эта особенно обнажилась теперь. Если в молодости жили любовной жизнью, то в зрелые годы надо жить дружеской жизнью. А что у нас? Вспышки страсти и продолжительный холод; опять страстность – и опять холод. Иногда является потребность этой тихой, нежной, обоюдной ласковости и дружбы, думаешь, что это всегда не поздно, и всегда так хорошо, и делаешь попытки сближения, простых отношений, участия, обоюдных интересов. И ничего, ничего, кроме сурово, брюзгливо смотрящих глаз, и безучастие, и холод, холод ужасающий. А отговорка, почему вдруг стали мы так далеки, одна: «Я живу христианской жизнью, а ты ее не признаешь; ты портишь детей».
Какая же христианская, когда нет любви ни крошечки ни к детям, ни ко мне, ни к кому решительно, кроме себя. А я – язычница, но я так люблю детей и, к несчастью, еще так люблю и его, холодного христианина, что теперь сердце разрывается от предстоящего вопроса: ехать, не ехать в Москву? Как сделать, чтоб всем было хорошо; потому что, видит Бог, мне тогда только хорошо, когда я могу видеть и устроить счастье вокруг себя.
20 августа. Приезжали два француза – ученый-психолог Рише с родственником; привез их профессор Грот. За Левочкой Маша ездила вчера в Пирогово, а сегодня она слегла, опять жар в 39 и 6. Вчера утром мы ездили на пикник в лес со всеми соседями; дождь несколько раз прерывал веселье детей и молодежи, и рано все разъехались.
Левочка тих и дружелюбен и очень любовен. Очень интересно было слушать сегодня разговоры Левочки, Рише и Грота. Вечером я заговорила об отдаче детей в гимназию и переезде в Москву; Левочка сказал: «Ведь это дело решенное, что ж говорить?» Ничего не решенное, а всё мучительные пока вопросы…
19 сентября. Как всегда бывает, когда жизнь полна событий, нет времени писать дневник, а тут-то бы он и был интересен. Пересчитаю все события.
До 25 августа готовились весело к свадьбе Маши Кузминской. Закупали, делали фонари, украшения на лошадей, флаги и т. д. 25-го утром я благословила Ванечку Эрдели с братом Сашей и повезла его в карете в церковь. Мы оба были растроганы. Мне жаль было этого юного, чистого, нежного мальчика, что он так рано берет на себя обязанности и что он так одинок.
Машу благословили без меня. Говорят, что она очень плакала и отец ее тоже. Потом был обряд, у меня всё время были слезы в горле; и свое прошедшее переживала, и ее будущее, и возможность расстаться с Таней и даже с Машей, которая всегда мне жалка и перед которой всегда чувствую себя виновной в недостаточной любви.
Потом мы обедали на месте крокета. Был ясный, чудесный теплый день; все были веселы, всем было легко и радостно: и своим, и родным, и соседям. Вечером играли в игры, танцевали, пели. Фигнер пел удивительно хорошо в этот вечер. Весь день я следила за Таней, за ее бывшими женихами, то есть людьми, делавшими ей предложение, и за Стаховичем, за которого охотно отдала бы ее замуж. Он оценил бы и любил бы ее наверное.
Разошлись поздно, а я сидела до рассвета с гостями, которые боялись ехать темнотой. Сидели и невестка моя Соня, и Таня, и Стахович, который говорил с Соней жестокие вещи о детях маленьких и тяжести их иметь. Левочка был болен два дня до свадьбы, но в этот день ему уже было лучше. Все мои девять детей опять собрались, и я была очень счастлива и старательно отстраняла от себя всякие заботы и все вопросы.
Ночь молодые провели каждый на старом месте: Маша – с сестрой, Ванечка Эрдели – с Левой. На другое утро всё было по-старому, а к 6 часам вечера мы проводили молодых в Ясенки и очень плакали. Было холодно, дул ветер, на душе мрачно, и жизнь опять пошла по-старому, но приготовила еще новые волнения. До 29-го числа я не поднимала вопроса о переезде в Москву, но время шло, терять его некогда, и вот я вечером 29-го попросила у Левочки позволения пройтись с ним и спросила его решение насчет переезда в Москву и отдачи детей в гимназию.
Я ему говорила, что знаю, до какой степени это тяжело ему, и спрашиваю только, сколько времени из своей жизни он может пожертвовать мне и пожить со мной в Москве. Он говорит: «Я совсем не приеду в Москву». Тогда я сказала: «Ну, и прекрасно, тем и разрешается вопрос, и я в Москву тоже не поеду, и детей не повезу, и буду опять искать учителей». – «Нет, я этого не хочу; ты непременно поезжай и отдай детей, потому что ты считаешь, что так надо и так лучше». – «Да, но ведь это развод, ведь ты ни меня, ни пятерых детей не увидишь всю зиму». – «Детей я и тут мало вижу, а ты будешь ко мне приезжать». – «Я? Ни за что!»
Мне пришло в голову сожаление, что я любила и принадлежала ему одному всю жизнь, что и теперь, когда меня отбрасывают как уже изношенную вещь, я всё еще привязана к нему и не могу его оставить. Мои слезы его смутили. Если в нем есть хоть тень психологического понимания, которое так сильно в книгах, то он должен был понять ту боль и ту силу отчаяния, которые были тогда во мне. «Мне жаль тебя, – сказал он, – я вижу, как ты страдаешь, и не знаю, как тебе помочь». – «А я знаю; я считаю безнравственным разорвать семью пополам, без всякой причины, я жертвую детьми, Левой и Андрюшей, их образованием и судьбой, и я остаюсь с тобой и дочерьми в деревне». – «Вот ты говоришь о жертве детей, ты будешь этим упрекать». – «Так что же делать, скажи, что делать?» Он помолчал. «Я не могу теперь, дай я подумаю до завтра».
Мы расстались на Грумонтском поле; он пошел к больному в Грумонт, я – домой. Какой непоправимый, глубокий надрез был сделан в моем сердце этим новым циничным, бессердечным выбрасыванием меня из своей жизни! Стало смеркаться. Я шла дорогой и рыдала всё время. Это были новые похороны моего счастья. Ехали мужики и бабы и с удивлением посмотрели на меня. Лесом идти было жутко.
Дома было светло, пили чай, дети бросились ко мне. На другой день Левочка спокойным голосом сказал мне: «Поезжай в Москву, вези детей, разумеется, я сделаю всё, что ты хочешь». Хочешь?! Мне было дико это слово. Давно я ничего для себя не хочу, только их же счастья, радости, здоровья.
Вечером я уложила вещи детей, свои, собрала бумаги, и 1 сентября, в воскресенье вечером привезла мальчиков в Москву. Сомнение и страх, хорошо ли я сделала, останутся навсегда. Но я думала сделать должное. Перед самым отъездом я услыхала от Левы страшную историю о падении Миши Кузминского с кормилицей Митечки и о том, что всё это подробно известно моим мальчикам. Удар на удар. Отвращение, горе за сестру, боль за невинность моих мальчиков – всё это переполнило мое сердце.
Так и уехала, так и жила в Москве с этой болью. Но материальные заботы, поддержка нравственная мальчикам на новом поприще – всё это меня немного успокоило.
Потом приехал Лева и рассказал мне об отчаянии сестры Тани и о том, как тяжело она вынесла это известие. Мне уже так давно было горько, что я тупее отнеслась к этому; я прежде это чувствовала, и Таня огорчилась, что я холодно и не довольно сочувственно отнеслась к ней. Но это несправедливо. Уставшее отношение к делу не менее сочувственно, чем энергическое, горячее, которое может быть только непосредственно после того, как оно постигнет людей, и не может длиться две недели.
В Москву приехал и Лева. Он будет держать свой запоздалый экзамен с 1-го на 2-й курс. Лева слишком уж хорош. Он и деликатен, и чист, и талантлив, и добр с детьми. Сейчас же он принял участие в их уроках, в их жизни; повторял с Андрюшей уроки, внушал им нравственные вопросы по поводу истории Миши Кузминского и ободрял их.
В Москве я прожила с ними две недели, кое-что покрасила, оклеила, перестроила в доме, обила мебель, наладила жизнь детей и уехала. Остались там три сына, т. Borei, Алексей Митрофаныч и теперь Фомич.
Домой я приехала 15-го утром. Левочка упрекнул меня, что я свезла детей в омут. Опять обострился разговор, но скоро обошелся. Ссор пока быть не могло. Тане я высказала свое негодование на Мишу и упомянула о возможности нашей разлуки на будущее лето. Лева меня так убеждал, что это необходимо для детей, но мне это было страшно тяжело; так же это подействовало на Таню. Она покраснела и сказала: «Довольно, Соня, ты мне всё сердце растерзала!» Вопрос этот оставлен до весны и до того, как Миша заявит себя до весны. Потом мы с Левочкой переговорили о письме, которое он послал 16-го в газеты, об отказе от своих прав на статьи. Всё один и тот же источник всего в этом роде: тщеславие и желание новой и новой славы, чтоб как можно больше говорить о нем. И в этом меня никто не разубедит.
Письмо послано. К вечеру пришло письмо от Лескова с вырезкой из газеты «Новое время». Вырезка эта озаглавлена: «Л.Н.Толстой о голоде». Лесков дал напечатать из письма Льва Николаевича к нему то, что Левочка ему писал о голоде. Левочкино письмо нескладно, местами крайне, и во всяком случае не для печати.
Его взволновало, что напечатали, он не спал ночь и на другое утро говорит, что голод не дает ему покоя; что надо устроить народные столовые, куда могли бы приходить голодные питаться; что нужно приложить, главное, личный труд; что он надеется, что я дам денег (а сам только что снес на почту письмо с отречением от прав на XII и XIII том, чтоб не получать денег; вот и пойми его!); что едет немедленно в Пирогово и начнет это дело и напечатает о нем. Но писать и печатать, чего не испытал на деле, – нельзя, и вот нужно с помощью брата и тамошних помещиков устроить две-три столовые, чтоб о них напечатать.
Он сказал мне перед отъездом: «Но не думай, пожалуйста, что я это делаю для того, чтоб заговорили обо мне, а просто жить нельзя спокойно». Да, если б он это сделал потому, что сердце кровью обливается от боли при мысли о голодающих, я упала бы перед ним на колена и отдала бы многое. Но я не слыхала и не слышу его сердца. Пусть своим пером и умением расшевелит хоть сердца других!
Мы живем тихо, Таня, я, Маша, Вера, Вася, Ваня, Саша, Митя. Погода удивительная, ясная, тихая. От мальчиков хорошие письма. Я рада уединению, отдыху; сосредоточилась на своей внутренней жизни, читаю, думаю, пишу и молюсь. Вчера еще я была обуреваема страстями, которые разбудил во мне муж; сегодня мне всё ясно, свято, тихо и хорошо. Чистота и ясность – вот идеал.
21 сентября. Получила письма от Левы и Миши. Вчера и сегодня ходила на дальнюю прогулку; вчера с Сашей, сегодня еще с Верой и Лидой. Красота этих дней поразительна. Тепло так, что в летних платьях жарко ходить. Сделала несколько букетов, написала в Москву детям письма и рада жить в этой освежающей тишине и отдохнуть душой и телом. Ничего не хочется делать.
Прочла сразу всю книгу Рода «Три сердца». Нехорошо и мрачно, хотя увлекательно. Читать серьезное не могу, слишком расшаталась морально и материально за это время. Вчера написала длинный план повести, которую очень хотелось бы написать, да не сумею. О Левочке и Тане ничего не знаю и скучаю, особенно по Тане.
Как странно, Левочка своим первым отказом ехать самому и уговариванием меня ехать в Москву и расстаться с ним на всю зиму – до такой степени надрубил мое чувство привязанности к нему, что мне теперь разлука с ним уже не так страшна, как казалась прежде. Да, надо привыкать. Когда он отживет совсем свою любовную жизнь со мной, он просто, цинично и безжалостно выбросит меня из своей жизни. И это скоро будет. Надо беречь свое сердце от этого удара и любить других, то есть детей своих, больше мужа. Слава Богу, их так много и такие многие из них хорошие.
Очень сокрушаюсь эти дни, что мои три сына в Москве, а я так наслаждаюсь погодой, природой и тишиной. Но мы все выросли в городе, и пришло наше время отдыха.
8 октября. Я не выдержала и ездила в Москву за мальчиками. Случилось это так: с сестрой Таней после истории Миши Кузминского всё было не совсем дружелюбно. Она требовала большей жалости и участия к ней, я же была строга к Мише и сердилась, что Миша развращал своими рассказами моих мальчиков. И вот я решилась проводить Таню до Москвы. У нас были все здоровы, и гостили Лиза Оболенская с Машей.
26 сентября мы поехали в отдельном, прицепленном для нас в Туле вагоне; нас провожал Зиновьев, и нам открыли царские комнаты. В Москве я поехала с Васей к тетушке Вере Александровне, и туда приехали с выставки веселые и оживленные мои три сына. Они ждали Таню, и Миша долго вглядывался и не узнавал меня. Наконец закричал: «Мама!»
Мы провели все вместе очень хороший вечер; на другой день я побыла с ними и в субботу, 28-го, взяла детей и поехала с ними в Ясную. С нами поехали Лиза и Миша Олсуфьевы. Это меня очень взволновало за Таню, и все дети, особенно девочки, были страшно взволнованы. Лева не поехал, он очень усердно занят своими лекциями и музыкой и не хотел развлекаться.
На другой день (воскресенье) приехали еще гости: Зиновьев и Давыдов с дочерьми и Миша Стахович. Собрались те два Михаила, к которым обоим, как мне кажется, примеривалась Таня, думая о замужестве. Но, как я ни наблюдала, ни один не показал ей ничего особенного; только в их отношениях взаимных чувствовалось что-то враждебное, какой-то молчаливый поединок. В понедельник уже все уехали; у Андрюши сделался жар; а в среду я проводила Андрюшу и Мишу от Ясенок до Тулы, где Зиновьев их взял до Москвы на свое попечение. Из Тулы мы ехали опять до Ясенок с Машей и Сережей и обсуждали дела Таниного замужества.
Когда уехали опять дети, меня опять взяла тоска. Три ночи они спали около моей спальни, я их слышала, не тревожилась о них, а их отъезд навел на меня уныние. От Левочки ни участия, ни ласкового слова, душевного, настоящего – никогда нет. Все мои сердечные нервы так были измучены последнее время, что у меня сделалась одышка и невралгия в виске. Ночи я вовсе не спала. Не могла ни говорить, ни радоваться, ни заниматься делами – ничего. Я уходила куда-нибудь и плакала часами; плакала при каждом случае, оплакивала вновь отжитый период своей жизни. И если меня спросили бы, где главный стержень моего горя, я сказала бы, что это отсутствие всякой любви со стороны Левочки, который не только теперь меня совершенно игнорирует и только мучает, но который никогда не любил меня. Это видно во всем: в его равнодушии к семье, к детям, к нашим интересам, к их жизни и воспитанию.
Сейчас мы говорили о письмах, кто какие написал. Он начал пересчитывать свои – к темным. Я спросила, где Попов, где Золотарев и где Хохлов. Первый – отставной офицер восточного типа, вторые два – молодые из купцов. Все считаются последователями Льва Николаевича. «Попов у матери, она того желала. Хохлов в техническом училище, отец желал. Золотарев на юге, у старовера-отца в каком-то заштатном городе, ему так тяжело!»
И о всяком было сказано, что им так тяжело жить при родителях, но так хотят родители. Я спросила: «А где же не тяжело?» Я знаю, что Попов, у которого крайне развратная мать, нашел, что с прекрасной, доброй женой жить тяжело, и разошелся с ней; он жил у Черткова, и Чертков его не выносил, там было тяжело, и он живет с матерью, и опять тяжело. Знаю, что и Левочке со мной тяжело – вообще, странные принципы, с которыми везде и со всеми тяжело. Было много общин этих толстовцев, и было так всем тяжело, что все распались.
Так и кончился неприятно наш разговор, и Левочка уехал на Козловку, а я опять почувствовала эту спазму в груди, опять слезы начали меня душить, но я скорей начала себя успокаивать. Нельзя мне ни болеть, ни падать духом. У меня столько дела и обязанностей! Или действовать и жить для семьи бодро, или – если не выдержу – совсем не жить.
Сейчас посмотрела дневник, предшествующий этому. Я писала, когда Левочка с Таней ездили в Пирогово и дальше, исследовать голодные местности. В Пирогове Сережа-брат встретил их очень недружелюбно, говорил, что они учить его приехали, что вы, мол, богаче меня, вы помогайте, а я сам нищий и т. п. Тогда Левочка и Таня поехали к Бибиковым, переписали там голодающих; Таня осталась у Бибикова, а Левочка поехал дальше, к какой-то помещице и к Свечину. У Бибикова и у помещицы мысль о столовых для голодающих была принята очень холодно. Ни у кого лишних денег нет, все своим заняты. У Свечина выразили больше сочувствия.
На пятый день Левочка и Таня вернулись, а 23-го, в день нашей свадьбы (29 лет), Левочка поехал уже с Машей в Епифанский уезд по железной дороге. Они остановились у Р.А.Писарева и оттуда исследовали голодающие деревни. Туда же приехал Раевский, обсуждали вопросы о столовых для голодающих. Левочка сейчас же решил, что на всю зиму переселится к Раевскому с двумя дочерьми и будет устраивать столовые, и отдал на покупку картофеля и свеклы 100 рублей, которые взял еще у меня дома.
Когда они приехали и объявили мне, что в Москву не поедут, а будут жить в степи, я пришла в ужас. Всю зиму врозь, да еще 30 верст от станции, Левочка с его припадками желудочной и кишечной боли, девочкам в этом уединении, а мне с вечным беспокойством о них. Меня это до того поразило! Едва один вопрос кое-как, с болью, разрешился – во имя того, чтоб Левочке не так трудно было жить в Москве, я согласилась на напечатание его заявления о XII и XIII томе сочинений, – и опять новый вопрос, новое решение! Я заболела от этого.
С другой стороны, Лева написал, не зная еще о решении ехать к Раевскому, чтоб мы все оставались в Ясной, что мой приезд в Москву помешает им троим учиться, что я совсем не нужна. Это был новый предлог моему горю. 29 лет жила я только для семьи; отреклась от всего, что составляет радость и полноту жизни всякого молодого существа, и стала никому не нужна. Сколько я плакала всё это время! Видно, я очень плоха; но как же я так много любила, а любовь считается хорошим чувством…
Вечером сегодня читала с Сашей, играла с ней и Ванечкой, рассказывала им картинки и истории. Днем сажали за Чепыжем 2000 елочек, завтра будут сажать 4000 берез. Еще я взяла Никиту и Митю и сажала в саду кое-что: сосны, ели, лиственницы, березы и зубчатые ольхи. Завтра буду еще сажать. В Москву собираюсь 20-го. Страшно не хочется ехать! Не знаю, что будут делать Левочка и девочки, совсем не знаю. Вопрос о столовых для меня сомнителен. Ходить будут здоровые, сильные, свободные люди. Дети, роженицы, старики, бабы с малыми детьми ходить не могут, а их-то и надо кормить.
Когда Левочка не печатал еще своего заявления о праве всех на XII и XIII тома, я хотела дать 2000 на голодающих, предполагая где-нибудь, избрав местность, выдавать на бедные семьи по столько-то в месяц пудов муки, хлеба или картофеля на дом. Теперь я не знаю, что буду делать. По чужой инициативе и с палками в колесах (заявление) действовать нельзя. Если дам денег, то в распоряжение Сережи: он секретарь Красного Креста в их местности. Его прямое дело – служить делу голода, он свободен, честен и молод, и он там на месте.
16 октября. Была в Туле, окончила раздел с Соколовой, женой священника; не знаю, утвердит ли старший нотариус. Еще хлопотала о нашем семейном разделе у нотариуса Белобородова. Всё это крайне скучно и тяжело. Выпал с утра снег, ездила на розвальнях, парой, приехала, было 80 мороза. У границы раскинуты шатры и стоят цыгане: дети, куры, поросята, штук 40 лошадей и толпа людей. Девочки пошли к ним, привести их в кухню флигеля.
Вчера ночью Левочка отослал статью «О голоде» в журнал Грота «Вопросы философии и психологии». Сейчас Саша и Ваня вынимали жребий: за Сашу – она сама, ей достался левый участок Бистрома; за Андрюшу и Мишу вынимал Ванечка. Мише достался Тучковский участок, а Андрюше – правый Бистрома и…
Ездила я к Сереже и Илье 13-го числа. Первый день провела с Соней, вечером приехал Илья. Тяжелое они на меня произвели впечатление. Любви между ними мало, интересы низменные, хозяйство плохо. Илья имеет подавленный и несчастный вид, его очень жаль. Кто из них виноват, бог знает, но счастья у них мало. Хуже же всего – маленький Николай. Он прямо заброшен и заморен матерью: она дурная мать и не любящая – это бросается в глаза. Анночка удивительно мила. А Николай маленький умрет или будет урод, и это мне как камень на сердце.









































