Читать книгу "Дневники 1862–1910"
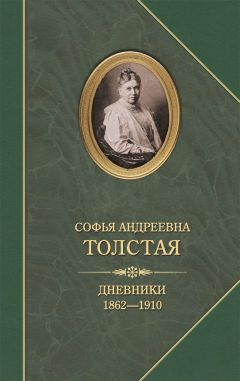
Автор книги: Софья Толстая
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
К вечеру он имел вид усталый. Приезжал Миролюбов, редактор «Журнала для всех», просил своей подписью участвовать в Комитете в память двухсотлетия печати. Лев Николаевич отказал, но много с ним беседовал. Ночь спал.
На другое утро, 5 декабря, часов в 12 и раньше, его стало знобить, он укутался в халат, но всё сидел за своими бумагами и ничего с утра не ел. К вечеру он слег, температура дошла уже до 38 и 8. К ночи появились сильные боли под ложечкой; я всю ночь была при нем, клала горячее на живот. К вечеру температура была 39 и 4. Но вдруг Маша прибежала вне себя, говорит: «Температура 40 и 9». Мы все посмотрели градусник, так и было. Я до сих пор не уверена, что что-нибудь было с ртутью, мы все растерялись. Сделали обтирание спиртом с водой, померили градусник, через час опять 39 и 3.
Но сегодня всю ночь он горел, метался, стонал, не спал. При нем был доктор Никитин и я. Клали на живот компресс с камфарным спиртом из воды – ничто не облегчало. К утру опять температура 39, мучительная тоска, слабые, жалкие глаза, эти милые, любимые, умные глаза, которые смотрят на меня страдальчески, а я ничем не могу помочь, хотя жизнь отдала бы свою с радостью, чтобы ему опять было хорошо и чтоб он жил!
Мучительно преследует меня мысль, что Бог не захотел продлить его жизнь за ту легенду о дьяволах, которую он написал. Что-то будет! Боже мой! Я третий день не сплю и не ем, что-то распухло, окоченело в груди моей; креплюсь, чтоб ходить за ним, – а там и мне хочется за ним и с ним… Сорок лет прожили вместе, и чем бы и как бы я ни жила, смело могу сказать, что Левочка был всегда, во всем на первом плане и самый любимый… Разве только Ванечка… но это другое чувство… Ребенок!..
Опять иду к Левочке, опять эти стоны, страданья за него… Милый, прости меня и помилуй тебя Бог!
8 декабря. Температура стала низкая, обильный пот разрешил болезнь, но осталась слабость сердца, и еще страх у всех докторов – воспаления в легких, которое может произойти от бактерий инфлюэнцы, определенной докторами.
Приехали сегодня утром милые и бескорыстные доктора, всегда веселые, бодрые, ласковые: сердечный Павел Сергеевич [Усов] и бодрый Владимир Андреевич [Щуровский]. Ночевал тульский доктор Чекан, и очень старался и умно действовал наш домашний врач Никитин.
Вчера приехали Сережа и Андрюша с женой, сегодня Илья. Еще вчера приехала Лиза Оболенская, сегодня Буланже. До пяти часов утра за Львом Николаевичем ходила я, потом Сережа. Доктора тоже сменялись: сначала Никитин, потом Чекан.
Сегодня у меня нехорошее чувство сожаления о даром тратившихся силах на уход за Львом Николаевичем. Сколько внимания, любви, сердца, времени кладешь, чтоб всякую минуту жизни следить за тем, чтоб сохранить ее. И вот, как 4-го, на мои ласковые заботы я встретила суровый протест, точно на зло, какой-то страх, что лишают его свободы, – и вот опять даром потраченные силы и еще шаг к смерти. Зачем? Если б он ее желал, а то нет, он ее не приветствует и не хочет. И нехорошо его настроение, мне грустно – но оно не духовно.
9 декабря. Сейчас шесть часов утра 12 декабря. Опять я просидела всю ночь у постели Левочки, и я вижу, что он уходит из жизни. Пульс частый, 120 ударов в минуту и больше, неровный… Ах, какой он жалкий, когда он сидит, понуря свою седую, похудевшую голову, и думаешь – все равны перед страданием, смертью. А весь мир поклоняется этой жалкой голове, которую я держу в своих руках и целую, прощаясь с тем, кто был для меня гораздо больше, чем я сама.
И вот наступит безотрадная жизнь, не к кому будет, как теперь, спешить утром, когда проснешься, наденешь халат и бежишь узнать, что и как. Хорошо ли спал, прошелся ли, в каком настроении? И всегда как будто он рад, что я вошла, и спросит обо мне, и продолжает что-то писать. Успокоишься и идешь к своим занятиям…
Сегодня сказал в первый раз с такой искренней тоской: «Вот уж искренно могу сказать, что желал бы умереть». Я говорю: «Отчего? Устал и надоело страдать?» – «Да, всё надоело!»
Не спится… Не живется… Длинные ночи без сна, с мучительной болью в сердце, со страхом перед жизнью и с неохотой оставаться жить без Левочки. Сорок лет жили вместе! Почти вся моя жизнь сознательная. Не позволяю себе ни раскаиваться, ни сожалеть о чем бы то ни было, а то с ума можно сойти!..
Когда я сейчас уходила, он мне так отчетливо и значительно сказал: «Прощай, Соня». Я поцеловала его и его руку и тоже ему сказала: «Прощай». Он думает, что можно спать, когда он умирает… Нет, он ничего не думает, он всё понимает, и ему тяжело… Дай Бог ему просветлеть душой… Сегодня он лучше, спокойнее и, видно, думает больше о смерти, чем о жизни…
13 декабря. Вечер. К жизни опять вернулся Левочка. Ему лучше: и пульс, и температура, и аппетит – всё понемногу устанавливается. Надолго ли? Буланже читал ему вслух «Записки» Кропоткина.
Сегодня в «Русских Ведомостях» следующее заявление Льва Николаевича.
«Мы получили от графа Льва Николаевича Толстого следующее письмо:
Милостивый государь, г. редактор.
По моим годам и перенесенным, оставившим следы, болезням я, очевидно, не могу быть вполне здоров и, естественно, будут повторяться ухудшения моего положения. Думаю, что подробные сведения об этих ухудшениях хотя и могут быть интересны для некоторых – и то в двух самых противоположных смыслах, – но печатание этих сведений мне неприятно. И потому я бы просил редакции газет не печатать сведений о моих болезнях.
Лев Толстой.
Ясная Поляна. 9 декабря 1902 года».
Я вполне понимаю это чувство Льва Николаевича и сама бы не стала о нем извещать, если б не скука и труд отвечать на бесчисленные запросы, письма, телеграммы желающих знать о состоянии его здоровья.
Сегодня мне нездоровится и постыдно жаль себя. Сколько силы, энергии, здоровья тратится на уход за Л. Н., который из какого-то протеста, задорного упрямства пойдет шесть верст зимой по снегу или объестся сырниками и потом страдает и мучает всех нас!..
Сегодня в Москве второй концерт Никиша, это была моя самая счастливая мечта быть на этих двух концертах – и, как всегда, я лишена этого невинного удовольствия, и мне грустно и досадно на судьбу.
Еще меня мучает и мне больно вспоминать мой последний разговор, ровно месяц тому назад, с Сергеем Ивановичем. Нужно бы разъяснить многое, и нет случая…
15 декабря. Лев Николаевич всё еще в постели. Он сидит, читает, записывает, но слаб еще очень… Читала сначала «Ткачей» Гауптмана и думала: все мы, богатые люди – и фабриканты, и помещики – живем в этой исключительной роскоши, и часто я не иду в деревню, чтобы не испытывать неловкости, даже стыда от своего исключительного, богатого положения и их бедности. И, право, удивляешься еще их кротости и незлобивости относительно нас.
Потом прочла стихотворения Хомякова. Много в них все-таки настоящего поэтического и много чувства. Как хороши «Заря», «Звезды», «Вдохновение», «К детям», «На сон грядущий»!.. «К детям» – это прямо вылилось из сердца правдиво и горячо. У кого не было детей, тот не знает этого чувства родителей, особенно матерей.
Войдешь ночью в детскую, стоят три, четыре кроватки, оглянешь их, чувствуешь какую-то полноту, гордость, богатство… Нагнешься над каждой из них, вглядишься в эти невинные, прелестные личики, повеет от них какой-то чистотой, святостью, надеждой. Перекрестишь их рукой или сердцем, помолишься над ними о них же и отойдешь с умиленной душой, и ничего от Бога не просишь – жизнь полна.
И вот все выросли и ушли… И не пустые кроватки наводят грусть, а разочарования в судьбе и в свойствах любимых детей, и так долго не хочется их видеть и им верить. И не детей просишь молиться о себе, а опять молишься за них, за просветление их душ, за внутреннее их счастье.
Сегодня концерт Гофмана, последний. Как мне хотелось его слышать – и опять не судьба. Собираюсь по делам уж теперь – в Москву. Уеду ли нынче?
Все эти дни срисовывала акварелью портреты отца Льва Николаевича. Я не училась никогда акварели, и очень трудилась; вышло посредственно, но было очень весело и интересно рисовать и самой добиваться, как рисуют акварелью.
27 декабря. Опять давно не писала. Была три дня в Москве: 19-го, 20-го, 21-го; принимала отчет продажи книг у артельщика, делала покупки и доставила радость теми подарками, которые успела приобрести для детей, прислуги и проч. Один вечер провела у Муромцевой, приехавшей из Парижа, с Марусей Маклаковой, с двумя старшими сыновьями и еще с Федор Иванычем [Масловым], Цуриковым и Танеевым. С ним холодно, сухо и чуждо.
Без меня Льву Николаевичу стало еще лучше, он вставал, выходил в соседнюю комнату, занимался. В день Рождества ему вдруг стало хуже. Боли под ложечкой и в печени с шести часов утра; желудок раздуло, сердце стало слабеть, перебои, удары 130 в минуту. Он ничего не ел, давали строфант, кофеин, доктор явно смутился. Вчера стало опять гораздо лучше.
Когда в день Рождества Льву Николаевичу было плохо, он полушутя сказал Маше: «Ангел смерти приходил за мной, но Бог его отозвал к другим делам. Теперь он отделался и опять пришел».
Всякое ухудшение здоровья Льва Николаевича вызывает во мне страдание всё сильнейшее, и всё более и более страшно и жаль мне потерять его. В Гаспре я не чувствовала такого глубокого горя и такой нежности к Левочке, как теперь здесь. Так мучительно мне видеть его страждущим, слабым, гаснущим и угнетенным духом и телом! Возьмешь его голову в обе руки или его исхудавшие руки, поцелуешь с нежной, бережной лаской, а он посмотрит безучастно.
Что-то в нем происходит? Что он думает?
Приезжал Андрюша и его семья. Маленькая, миленькая Сонюшка, прощаясь с Львом Николаевичем, сама взяла его руку, поцеловала и сказала: «Прощай, дединька!» Я рада им, особенно на праздниках и когда грустно.
29 декабря. Льву Николаевичу то лучше, то хуже. Сегодня днем он мне говорит: «Боюсь, что я долго вас промучаю». Вероятно, он думает, что уже не выздоровеет от своей болезни печени, но что теперь хронически и постепенно она будет вести его к концу. И я это всё чаще и чаще, с болью в сердце, думаю. Позвал он Павла Александровича Буланже к себе и хвалил ему книгу барона Таубе, находил в ней христианские идеи, хвалил конец, заключение, в котором Таубе говорит, что люди бурской и китайской войной доказали, что пришли к новому варварству[148]148
М.Таубе. «История зарождения современного международного права».
[Закрыть]. А Л. Н. высказывал, что только религия, и именно христианская, может вывести людей из их теперешнего дикого, варварского состояния.
Еще говорили об англичанах. Два англичанина из спиритической общины в одних пиджаках и открытых башмаках пошли в Лондон, а оттуда без копейки денег приехали в Россию с целью увидать Толстого и спросить у него разъяснения во многих сомнениях религиозных. Они жили у Дунаева, а мы им послали шубы и шапки Л. Н., чтоб они не замерзли.
30 декабря. Сижу дни и ночи у больного Л. Н. и вспоминаю всю свою жизнь. И вдруг ясно поняла я, что прожила ее почти бессознательно. Все ли так? Мне никогда не было времени вперед, разумно обдумать свои поступки, и не было времени после их обсудить. Я жила по теченью жизни, подчиняясь обстоятельствам, поступала не по своей воле и выбору, а в силу необходимости.
Идти против чего – не умела и не имела сил. Да разве и возможно это было с моим мужем и в моей жизни? И по уму, и по возрасту, и по имущественному положению – по всему муж мой был властен надо мной… И вот прожито сорок лет… Много недочетов в нашей жизни; ну, да теперь не о них горевать… Слава Богу и за то, что было.
1903
1 января. Печально встреченный Новый год. Вчера было от Тани письмо, что младенец опять перестал в ней жить и она в страшном отчаянии… Л. Н. первый прочел ее письмо и, когда я вошла к нему утром, сказал мне: «Ты знаешь, у Тани всё кончено». Губа его затряслась, и он всхлипнул, и исхудавшее, больное лицо его выразило такую глубокую печаль. Безумно жаль Таню, и мучительно больно смотреть на уходящего из жизни Левочку. Эти два существа в моей семье самые любимые и самые лучшие.
Сегодня Домна, бедная баба с деревни, приходила просить бутылку молока в день, чтоб прикармливать своих двоешек-девочек.
Встречали вчера Новый год. Тут мои две невестки: Ольга и Соня с детьми. Илюша и Андрюша приехали ночью. Народу очень много: с домашними всех 19 человек. Приехали еще два молодых англичанина, какие-то шальные спириты из средне-интеллигентно-рабочего класса. Предлагают, взяв Льва Николаевича за руки, молиться о его исцелении, и уверены, что это его спасет.
Всю ночь до половины пятого провела с Л. Н. Он совсем не спал, всё ныло, всё болело. Я терла ему ноги, успокаивала, бодрила его, но всё напрасно. Утихнет на минуту, благодарит меня, потом опять мечется. К утру пульс стал плох, с перебоями, и ему впрыснули морфий, и теперь весь день он спит.
В пять часов утра я пошла в свою спальню, подняла штору, открыла форточку. Белый лунный свет так и разлился по всей природе, в липовых аллеях сада и проник в мою комнату. На деревне стали петь петухи, такое странное впечатление!
Сегодня ходила далеко гулять, лесом, на купальную дорогу и назад. Тишина, одиночество, природа – хорошо! Вечером играл Гольденвейзер, хорошо.
2 января. Известие от Тани, она родила вчера двух мертвых мальчиков! Мы все поражены, но, слава богу, хоть роды прошли благополучно; что-то будет дальше.
Л.Н. спал хорошо, пульс хорош, но он очень сегодня слаб и вял. Пасмурно, 12° мороза.
15 января. Вернулась сегодня из Москвы, где заказала еще в другой типографии работу. В продаже нет сейчас ни одного экземпляра Полного собрания и ни одного экземпляра «Войны и мира».
В Москве слышала много музыки: Аренский играл свою сюиту с Зилоти, дирижировал свою музыкальную поэму, и всё это было прелестно. Вчера было потрясающее объяснение с Сергеем Ивановичем, после которого я поняла, за что я его так ценила и любила. Это удивительно добрый и благородный человек.
Гольденвейзер противен своим вторжением в нашу интимную жизнь. Л. Н. лучше, слава богу. Он занят подбором философских выражений для составления календаря; это началось в его болезнь, так как ничего серьезного он не мог писать.
Тепло, тихо, 1° мороза. Хороша тишина и природа, и в ней Бог, и хочется скорее слиться с природой и уйти к Богу. Вместо того чтоб читать корректуру, сижу и весь день плачу. Помоги, Господи!
21 января. На днях Сережа-сын был груб со мной за то, что я заговорила с Сашей во время игры в винт и помешала им. Я заплакала, ушла в свою комнату и легла. Через несколько времени, когда я уже успокоилась тем, что легче быть обиженной, чем обижать других, – вошел Л. Н. с палочкой, еще слабый и худой, и ласково и сочувственно отнесся ко мне, сказав, что он сделал Сереже выговор.
Меня это так тронуло, такое я почувствовала к нему благоговение и нежность, что опять разрыдалась, целуя его руки, чувствуя и ту виноватость свою невольную перед ним, которая последнее время роковым путем ведет меня куда-то.
Вечером. Л. Н. сегодня в первый раз выходил два раза на воздух и, разумеется, переутомился; пульс слабый и с перебоями. Дали вечером строфант.
На точке замерзания, ветер, и, может быть, погода влияет на нервы, а нервы – на сердце.
22 января. Л. Н. после прогулки совсем расхворался: температура поднялась до 38 и 2, боли в желудке, грипп небольшой.
27 января. Моя Дуняша говорит часто: «Господь милосерд, знает, что делает». И вот со мной он был милосерд. Душевный разлад мой дошел до последней степени мучения и желанья опять увидеться и поговорить с любимым человеком. И я заболела, со мной сделалось дурно, я упала и весь вечер не могла стать на ноги. Мне прикладывали к голове лед, и всю ночь я лежала со льдом на голове, и всё стало напряженно, тяжело, и физически я совсем перестала жить. И вот сегодня (третий день) мне легче душевно, болезнь перебила тоску и душевный разлад. И опять прошу Бога, чтоб в тот момент, когда я ослабею, помочь мне или без греха и стыда взять меня в ту область, где «мертвые срама не имут».
Сегодня думала о пословице: «Без пятна платья и без стыда лица не износить». И вот когда для меня наступил «стыд» перед собой, перед Богом и совестью. Только бы пережить всю бурю в душе и ничем, как до сих пор, не ослабеть в поступках…
7 февраля. Была опять в Москве. Был квартетный концерт, играли квартет Танеева, его видела мельком; квинтет Моцарта с кларнетом, прелестно, наслаждение получила большое, и секстет Чайковского (воспоминание о Флоренции). Спокойно и счастливо я чувствовала себя после этого вечера.
На другой день собрались у меня старушки, дядя Костя и Сергей Иванович. Читали Льва Николаевича «Разрушение и восстановление ада» (о дьяволах), и опять и на меня, и на слушателей эта вещь произвела нехорошее впечатление. Задорно спорила с Сергеем Ивановичем Екатерина Ивановна Баратынская, защищая статью против логически умных доводов Сергея Ивановича. Он был оживлен, и я радовалась на него.
Была в концерте Гофмана, чудесный концерт с оркестром Шопена. Очень много было дела с исканием корректора, с печатаньем, переплетом и прочим. Многое не кончила. Занялась и Сашиными денежными делами… Но какое душевное усилие и сколько трат! Напечатано в «Новом времени» мое письмо против Андреева по поводу статьи Буренина: в № 7 февраля 1903 года[149]149
В этом письме С.А. высказывала свое отрицательное отношение к рассказу Леонида Андреева «Бездна» и присоединялась к мнению В. П. Буренина.
[Закрыть].
15 февраля. У Льва Николаевича сидит старичок, николаевских времен солдат, сражавшийся на Кавказе, и рассказывает ему, что помнит. Л. Н. сегодня и вчера катался по лесу, а утром сидел на верхнем балконе. Он здоров и спокоен. Занялась немного его корреспонденцией: всё больше просительские письма и просящие автографа.
Что было за это время? 1) Родился у Андрюши сын Илья в ночь на 4 февраля. Ездила я на него взглянуть и поздравить Ольгу. 2) Уехали за границу Маша с Колей, и без них очень опустело, но мне стало легче. Это были почти единственные наши гости. Был на Масленице Давыдов, прочел отрывок из своей повести. Были Буланже, Дунаев, и гостила Зося Стахович. Умная, живая девушка, но я испугалась как-то последние дни за мою откровенность с ней.
Саша была в Петербурге и огорчила меня известием о продолжающейся болезни Доры и о нервности Левы.
Теперь нас осталось здесь мало: Саша, Юлия Ивановна, доктор Гедгофт и Наташа Оболенская. Теплая, сырая зима: 2° тепла, вода в лощинах, солнце на небе и снегу почти нигде нет. Сегодня посвежей, 2° мороза и пасмурно.
Очень уж уединенно живем, и я рада опять съездить в Москву. Неестественна наша жизнь помещичья – единицы среди сельского населения. У нас нет общения ни с народом, оно было бы фальшиво, ни с равным себе образованным классом.
Получаю много писем по поводу моего письма. Многие обвиняют Льва Николаевича как начинателя грязной литературы во «Власти тьмы», в «Крейцеровой сонате» и в «Воскресении». Но это недомыслие, непонимание. Многие восхищаются и благодарят меня за письмо, особенно от лица матерей. Но есть и заступники Андреева. А на меня всё это производит такое впечатление, что я посыпала персидским порошком на клопов и они расползлись во все стороны. Я написала письмо в газету – и поднялись письма, статьи, статейки, заметки, карикатуры и проч. Обрадовалась бездарная наша пресса скандалу и пошла чесать всякую чепуху.
Надоело, и тоска у меня эти дни… Одно утешенье – музыка, и другое – исполнение долга ухода и облегчения жизни Льву Николаевичу.
21 февраля. У Миши родилась дочь Таня.
6 марта. Была в Москве – тяжелая болезнь Андрюши, проверка продажи книг, пломбирование зубов, покупки, заказы; концерты: филармонический – кантата Танеева и проч., симфонический – Манфред, увертюра «Фрейшютца» и проч., квартеты Бетховена и Моцарта, пианист Буюкли – As-duf ный полонез Шопена.
Ездила в Петербург. Трогательные Лева и Дора и миленькие мальчики; сестра Таня жалкая безденежьем, брат Вячеслав с некрасивой женой, чуткий и милый. Пробыла один день, две ночи в вагоне. В Москве опять беготня, гости, больной Андрюша, и бессилие тоски и неудовлетворенности среди нервной, безумной траты сил физических и духовных.
В Ясной Поляне лучше. Красота ясных дней, блеск солнца в ледяных, зеркальных, гладких пространствах замерзшей воды, синее небо, неподвижность в природе и щебетанье птиц – предчувствие весны.
Ездили кататься по лесам с Л. Н. Его нежная забота обо мне, хорошо ли, весело ли мне кататься. Ездили в трех санках все. Вечером, когда я его покрывала и прощалась с ним на ночь, Л. Н. нежно гладил меня по щекам, как ребенка, и я радовалась его отеческой любви…
Были скучные, некрасивые Розановы[150]150
Литературный критик Василий Васильевич Розанов и его жена.
[Закрыть]. Кончила корректуру «Анны Карениной». Проследив шаг за шагом за состоянием ее души, я поняла себя, и мне стало страшно… Но не оттого лишают себя жизни, чтоб кому-то отомстить] нет, лишают себя жизни оттого, что нет больше сил жить… Сначала борьба, потом молитва, потом смирение, потом отчаяние и последнее – бессилие и смерть. И я вдруг ясно себе представила Льва Николаевича, плачущего старческими слезами и говорящего, что никто не видел, что во мне происходило, и никто не помог мне… А как помочь? Пустить, пригласить опять к нам Сергея Ивановича и помочь мне перейти с ним к дружеским, спокойным, старческим отношениям. Чтоб не осталось на мне виноватости моего чувства, чтоб мне простили его.
7 марта. Лев Николаевич здоров. Прекрасно катались сегодня по Засеке, всё лесными дорожками, но уже всё тает. Л. Н. ехал с Сашей, я с Левой, а доктор – с Наташей и Юлией Ивановной. Потом я пересела к Льву Николаевичу. Сердце мое прыгало от радости, что он здоров, едет и правит: сколько раз я считала его жизнь конченой, и вот опять он к ней возвращен! И эта радость его здоровья не излечивает моего сердечного недуга; как войду в свою комнату, опять охватывает меня какая-то злая таинственность моего внутреннего состояния, хочется плакать, хочется видеть того человека, который составляет теперь центральную точку моего безумия, постыдного, несвоевременного. Но да не поднимется ничья рука на меня, потому что я мучительно исстрадалась и боюсь за себя. А надо жить, надо беречь мужа, детей, надо не выдавать, не показывать своего безумия и не видеть того, кого болезненно любишь. И вот молишься об исцелении этого недуга, и только.
18 марта. Мне часто кажется, что в жизни моей я была мало виновата перед моими детьми – я слишком их любила, и осуждение их, а иногда и грубость невыносимо больно действуют на мою душу.
Сегодня пошла в библиотеку за книгой. Лева спал; и у меня такое нежное до слез умиление было, когда я посмотрела на его плешивенькую, с черными редкими волосами маленькую голову, на его немного оттопыренные губы и всю худую фигуру его. И так жалко мне стало его, что он храбрится перед жизнью, которая разлучила его теперь с семьей – больной, милой женой и двумя мальчиками. И чем-то кончится болезнь Доры! И так же умиленно я смотрю и на часто мрачно озабоченного Сережу, и на спутавшегося старого ребенка – Илюшу, и на закрывающего на всё разумное глаза легкомысленного, но ласкового Андрюшу, и на любимую Таню, и на больную Машу, и на пока счастливого, но еще бессознательного Мишу, и на такую же Сашу. Так всегда одного хочется: чтоб все были счастливы и хороши морально!
Еду сегодня в Москву, и тяжело, и что-то страшно… Стоит месяц уже солнечная погода, Л. Н. здоров, всё у нас хорошо. Работа во мне идет внутренняя со страшной силой, всё молюсь, особенно по ночам, на коленях перед старинным образом, и так и хочется, чтоб поднятая рука Спасителя наконец поднялась бы надо мной и благословила мою душу на мирное, спокойное настроение.
1 июля. Не писала всю весну и лето; жила чисто с природой, пользуясь прелестной солнечной погодой. Такого жаркого, красивого во всех отношениях лета и такой блестящей весны – не запомню. Не хотелось ни думать, ни писать, ни углубляться в себя. Да и зачем? «Взрывая, возмутишь ключи…»[151]151
Строка из стихотворения Тютчева «Silentium».
[Закрыть]. Жили мирно, спокойно, даже радостно.
Сегодня отвратительный разговор за обедом. Л. Н. с наивной усмешкой, при большом обществе, начал обычно бранить медицину и докторов. Мне было противно (теперь он здоров), но после Крыма и девяти докторов, которые самоотверженно, умно, внимательно, бескорыстно восстановили его жизнь, нельзя порядочному и честному человеку относиться так к тому, что его спасло. Я бы молчала, но тут Л. Н. прибавил, что Руссо сказал, что доктора в заговоре с женщинами; итак, и я была в заговоре с докторами. Тут меня взорвало. Мне надоело играть вечно роль ширмы, за которой прячется мой муж. Если он не верил в лечение, зачем он звал, ждал, покорялся докторам?
Наш тяжелый разговор 1 июля 1903 года не есть случайность, а есть следствие той лжи и одиночества, в которых я жила. Я обвиняюсь своим мужем во всем: сочинения его продаются против его воли; Ясная Поляна держится и управляется против его воли; прислуга служит против его воли; доктора призываются против его воли… Всего не пересчитать… А между тем я непосильно работаю на всех и вся моя жизнь не по мне.
Так вот я отстраняюсь от всего, я измучена вечными упреками и трудом. Пусть Л. Н. хоть остальную свою жизнь живет по своим убеждениям и по своей воле. А я устала служить ширмами и выйду из этой навязанной мне роли.
5 июля. Есть что-то в моем муже, что недоступно моему жалкому, может быть, пониманию. Я должна помнить и понять, что назначение его – учить людей, писать, проповедовать. Жизнь его, наша, всех близких должна служить этой цели, и потому его жизнь должна быть обставлена наилучшим образом. Надо закрывать глаза на всякие компромиссы, несоответствия, противоречия и видеть только в Льве Николаевиче великого писателя, проповедника и учителя.
9 июля. Вернулись из-за границы все дети: Оболенские – Маша с Колей 6-го, Андрюша – 7-го, Лева – 8-го. Андрюша очень худ, слаб и жалок, но очень приятен. Лева, бедный, измучен душевно, очень мне жалок и дорог. Маша поправилась и по-прежнему чужда.
Сегодня Л. Н. почувствовал стеснение в груди и перед завтраком пульс был правильный, 78, а когда он поел картофеля и хлеба с медом, удушья усилились, пульс стал частый и путаный; вчера еще и все последние дни он жаловался на слабость и ночь провел плохую.
Очень я испугалась, и опять ужас перед пустотой в жизни, если не станет Льва Николаевича раньше меня.
10 июля. К вечеру вчера Л. Н. уже стало лучше. Он последние дни слишком много тратился, и верхом, и пешком, а кроме того, поел тяжело. Приезжали вечером молодой кавалергард Адлерберг с огромной, полной женой. Л. Н. его позвал к себе и много расспрашивал о военных действиях: «Что такое развод? Когда на смотру государь садится на лошадь? Кто подводит лошадь?» и проч., и проч. Л. Н. очень занят историей Николая I и собирает и читает много материалов. Это включится в «Хаджи-Мурата».
12 июля. Что-то хотела записать хорошее, но зачиталась и теперь устала. Вчера ездила к имениннице Ольге в Таптыково. Андрюша больной, очень жалок своим грустным и крайне похудевшим видом. Ольга часто мне непонятна. В чем ее суть и жизнь? Ехали с Левой. И этот сын не радует. Жена умирает в Швеции в нефрите; он делает планы, хочет поступать на медицинский факультет, жить в Москве; и какое-то в нем неспокойствие. Льву Николаевичу что-то нездоровится: стеснения в груди, неровный пульс. Изменилась погода, страшный ветер и 11° тепла. Вечером Л. Н. с Машей, Колей, Сашей и Никитиным играли оживленно в винт.
Много сижу одна, в своей комнате. Буланже говорит, что моя комната похожа на комнату молодой девушки. Странно, что теперь, когда я живу одна и никогда мужской глаз или мужское прикосновение не касается больше меня, у меня часто девичье чувство чистоты, способности долго, на коленях молиться перед большим образом Спасителя или перед маленьким – Божьей матери (благословение тетеньки Татьяны Александровны Льву Николаевичу, когда он уезжал на войну). И мечты иногда не женские, а девичьи, чистые…
13 июля. Большая суета с самого утра. Приехали к Л. Н. два итальянца: один аббат, которого больше интересовала русская жизнь и наша, чем разговоры; другой – профессор теологии, человек мысли, энергичный, – отстаивал перед Л. Н. свои убеждения[152]152
Патер Семерц и профессор теологии Моноччи по пути из Рима в Маньчжурию посетили Ясную Поляну.
[Закрыть], состоявшие, главное, в том, что надо проповедовать истины, которые познал в религии и нравственности, не сразу разрушая существующие формы. Л. Н. говорил, что формы все не нужны, что религия – это истина, а церковь и формы есть ложь, путающая людей и затемняющая христианские истины. Очень интересно было слушать эти разговоры.
Потом приехали сыновья Лева и Андрюша, еще позднее – Стахович с дочерью и сын Миша. Разговоры, крики детей, суета еды и питья ужасно утомительны. Приезжали отец старик и жена приговоренного за богохульство Афанасия, очень были жалки, но помочь им уж, кажется, нельзя. Л. Н. просил об этом Афанасии государя, которому писал письмо, переданное графом Александром Васильевичем Олсуфьевым[153]153
Крестьянин Афанасий Агеев в январе 1903 года был приговорен к ссылке на поселение в Сибирь за богохульство.
[Закрыть].
Маша с Колей уехали, и как приезд их, так и отъезд остались незаметны у нас в доме.
10 августа. Обыкновенно говорят, что мужа с женой никто, кроме Бога, рассудить не может. Так пусть же письмо, которое я перепишу здесь, не даст никогда повода к осуждению кого бы то ни было. Но оно во многом перевернуло мою жизнь и поколебало мое отношение, доверчивое и любовное, к моему мужу. То есть не письмо, а повод, по которому я его написала.
Это было в год смерти моего любимого маленького сына Ванечки, умершего 23 февраля 1895 года. Ему было семь лет, и смерть его была самым большим горем в моей жизни. Всей душой я прильнула к Льву Николаевичу, в нем искала утешения, смысла жизни. Я служила, писала ему, и раз, когда он уехал в Тулу и я нашла его комнату плохо убранной, я стала наводить в ней чистоту и порядок.
Дальнейшее объяснит всё… Сколько слез я пролила, когда я писала это письмо!
Вот оно; я нашла его сегодня, 10 августа, в моих бумагах. Это черновое.
«12 октября 1895 года.
Все эти дни ходила с камнем на сердце, но не решалась говорить с тобой, боясь и тебя расстроить, и себя довести до того состояния, в котором была в Москве до смерти Ванечки. Но я не могу (в последний раз… постараюсь, чтоб это было в последний) не сказать тебе того, что заставляет меня так сильно страдать.
Зачем ты в дневниках своих всегда, упоминая мое имя, относишься ко мне так злобно? Зачем ты хочешь, чтоб все будущие поколения поносили имя мое как легкомысленной, злой, делающей тебя несчастным жены? Если б ты меня просто бранил или бил за то, что находишь дурным во мне, ведь это было бы несравненно добрей (то проходяще), чем делать то, что ты делаешь.
После смерти Ванечки… – вспомни его слова: “Папа, никогда не обижай мою маму”, – ты обещал мне вычеркнуть эти злые слова из дневников своих. Но ты этого не сделал; напротив. Или ты боишься, что слава твоя посмертная будет меньше, если ты не выставишь меня мучительницей, а себя мучеником?









































