Читать книгу "Дневники 1862–1910"
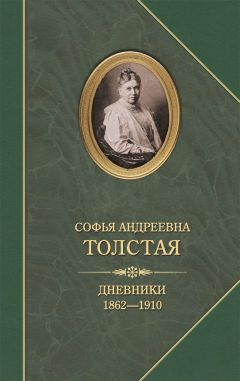
Автор книги: Софья Толстая
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
12 января. Вчера ездила в Тулу, продала купоны, подала прошение о входе во владение Гриневкой, уплатила по книгам деньги, а главное, измучилась с женой священника с делом по разделу земли в Овсянникове, находящейся у нас с ней в общем владении. Четыре раза я переходила из окружного суда в губернское правление, и меня одно учреждение отсылало в другое, говоря, что оно не подлежит их обсуждению. Так и уехала, не сделав ничего. Давно я не испытывала такой тоски, как вчера, сидя в камере прокурора и дожидаясь присяжного поверенного, который долго не шел. Трудно и тоскливо делать дела, легче сказать: я христианин и ничего делать не могу, это не в моих правилах! Теперь возьму настоящего дельца, а сама ездить беспрестанно в Тулу не могу. Устала, ветер был страшный, просто буря.
Была у Давыдовых на минутку, там [княгиня] Челокаева, приятна своей жизненностью и умом. Дома, вечером, именинник Миша – Ванечка так обрадовался, обедать меня ждали. Ночью Ванечка в 3 часа горел и сильно кашлял, не хотелось вставать, но пошла, походила с ним, успокоила его. Сегодня встала поздно, именины Тани, но мы учили детей, Андрюша играл порядочно, Миша насупил брови и был упрям.
Приехал Лева с Верой Толстой из Пирогова. Приехали Ваня и Петя Раевские во время обеда. Немножко похоже на именины; играли в игры с детьми, и Ванечка был в восторге. Он с рук не сходит весь день; горит и кашляет, но не унывает. Потом все поехали на Козловку провожать Колечку Те. Привезли письмо от Вари Нагорновой и корректуру «Крейцеровой сонаты». Дело идет к развязке, что-то будет? Запретят или нет, и что я буду делать?
Времени ни на что не хватает: ни читать, ни работать; завтра корректуру и белье кроить. На душе пусто и одиноко.
13 января. Ванечка болен; в полдень уже не встал, и к 2 часам было 39 и 4. Вечером, в 9 часов, опять то же. Ночью кашель, мокрота клейкая залепила горлышко, и он задыхался и горел. Насморк всё время, и сегодня ушко стреляло. Так его жаль и утомительно.
В свободное от Ванечки время очень много поправила корректур 13-й части, в том числе «Крейцеровой сонаты». Маша Кузминская помогла. Уехала Вера Толстая, и девочки ее проводили. Левочка с Левой ездили вечером на Козловку. 24° мороза. Прошлую ночь, когда Ванечку душило, я побежала спросить Машу, нет ли рвотного. Она спала и мгновенно проснулась. С добротой и готовностью она вскочила, чтоб найти ипекакуану[79]79
Рвотный корень.
[Закрыть], и когда, вставая, повернула ко мне свое лицо, оно показалось мне такое тоненькое, доброе, трогательное, что первое мое движение было ее обнять и поцеловать. Как она удивилась бы! Сегодня я весь день вижу в ней это доброе выражение и люблю ее. Если б я могла навсегда поддержать в себе это чувство к ней, как я была бы счастлива! Я постараюсь.
14 января. Ванечке лучше; температура поднялась днем до 38 и 5, но потом спала, и кашель мягкий, и он повеселел. Уехал Лева в Москву. Приехал Клопский. Он противен ужасно, какой-то темный. Написала письмо Мише Стаховичу, в ответ на его, и Варе Нагорновой, тоже ответ. Немного переписывала, учила Андрюшу (литургия) и Мишу (тайная вечеря). После обеда с Ванечкой переписывала дневник Левочки, уже перешла на 1854 год, сидела внизу с девочками. Ум мой совсем спит.
Вечером снаряжали Митроху в Москву, и Андрюша с Мишей очень хлопотали, дали ему своих денег по 50 копеек и пальто. Морозы страшные. Левочка что-то недобр и раздражителен. Как я боюсь всегда его беспощадной язвительности. Она наболела у меня до самой крайней чувствительности.
15 января. Какая подчас идет тяжелая борьба. Сегодня утром дети учатся внизу, а там этот Клопский. И говорит он Андрюше: «Зачем вы учитесь, губите свою душу? Ведь отец ваш этого не желает?» Девочки сейчас же подхватили, что готовы пожать его благородную руку за эти речи. Мальчики прибежали и мне всё рассказали. Пришлось горячо им внушать, что умственный труд всегда оправдывает нашу барскую жизнь, что если не труд настоящий мужика, то останется без умственного труда одна голая праздность; что воспитываю их я одна и вот если они будут плохи, то стыд падет весь на меня и мне будет больно, что труды мои пропадут.
16 января. Была в Туле опять по делам; бегала, хлопотала ужасно, видела много народа и очень много говорила. Дела: вход во владение Гриневкой, раздел с женой священника в Овсянникове, продажа дров; выправила, кстати, паспорт [повара] Петра Васильевича. Была у Раевской, у Зиновьевой – обедала. Маленькая Маня похожа на Ванечку, сидела у меня на коленах и целовала меня в щеку.
Домой ехала, всё молилась и вспоминала своих врагов. Решила написать Бирюкову доброе письмо – и написала. Решила миролюбиво делиться с женой священника – и тоже написала. Еще ответила баронессе Икскуль на ее просьбу печатать «Холстомера» и «Поликушку» для народа. Первое отказала, на второе согласилась. Писала Сереже и послала исполнительный лист на ввод во владение Гриневкой. Дома все были веселы, всё по обычному порядку. Еще решила помогать через Машу семейству тех мужиков, которых посадят за порубку.
17 января. Встала поздно и лениво. Вчерашняя поездка утомила. Писала Леве письмо, переписывала дневник Левочки и кончила тетрадь кавказских дневников. Учила Андрюшу богослужению и два часа музыке обоих. Учились хорошо и дружно. После обеда опять переписывала, занималась с Ванечкой, у него ухо стреляло, он плакал. Читали вслух французский роман, довольно скучный.
За обедом был шуточный разговор о том, чтоб господам всем поменяться на неделю положением с прислугой. Левочка нахмурился, ушел вниз; я пошла к нему и спросила, что с ним. Он ответил: «Глупый разговор о священном деле; мне и так мучительно, что мы окружены прислугой, а из этого делают шутки, и мне это больно, особенно при детях». Я старалась его успокоить. А сейчас он раздражительно спорил с Алексеем Митрофановичем, защищая Страхова.
18 января. Нездорова; все мускулы живота внутри и снаружи сильно болят, и маленький жар. Была страшная неприятность с няней; она грубит со вчерашнего дня, ребенком не занимается совсем и сегодня довела меня до крайности, так как я сама больна, и я ей сказала, что не позволю всякой развратной женщине мне грубить. Тут она разразилась такой ужасной грубостью, что, не имей я глупой, слабой привязанности к Ванечке, я ее отпустила бы немедленно. А он, бедненький, почувствовал, что что-то неладно, взялся за ее юбку и не отходил от нее, а про меня говорил: «Мама пай». Если бы все были как дети!
Учила Мишу, переписывала, охала, ничего не ела, но не слегла. Дневники Левочки очень интересны, время войны и Севастополя. Один вырванный листок меня поразил грубым цинизмом разврата. Да, никак не могут ужиться эти два понятия: брак женщины и разврат мужчины. И брак не может быть счастлив после разврата мужа. Еще удивительно, как это мы прожили такую брачную жизнь. Помогло нашему счастью мое детское неведение и чувство самосохранения. Я инстинктивно закрыла глаза на его прошедшее и умышленно, бережа себя, не читала всех его дневников и не расспрашивала о прошедшем. А то погибли бы мы оба. И он не знает того, что погибли бы и что моя чистота спасла нас. А это наверное так. Этот спокойный разврат и точка зрения на него, картины этой сладострастной жизни заражают, как яд, и могли бы вредно повлиять на женщину, немного увлеченную кем-нибудь. «Ты такой был, и ты осквернил меня своим прошедшим, так вот же тебе за это!» Вот что могло возбудиться в женщине чтением этих дневников.
19 января. Всё больна: живот и лихорадочное состояние. Едва, как во сне, учила детей два часа музыке и поправляла длинную корректуру «Крейцеровой сонаты». Как я могу много и хорошо работать! Как жаль, что этой способности не пришлось приложить к чему-нибудь более возвышенному и достойному, чем механический труд. Если б я могла писать – повести или картины – как я была бы счастлива! От Левы было прекрасное письмо; но, боже мой, какой он впечатлительный и мрачный! Нет жизнерадостности – не будет цельности, гармонии ни в жизни его, ни в трудах, а жаль!
Какая видимая нить связывает старые дневники Левочки с его «Крейцеровой сонатой»! А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь.
20 января. Здоровье лучше, но насморк. Миша заболел гриппом, а Саше и Ване получше. Приехал Эрдели; его мать не соглашается на его брак с Машей еще почти на три года. Маша ужасно расстроена, он, по-видимому, тоже. Все мы плакали, очень их жаль, но не договорились ни до чего. Он жалкий, слабый мальчик.
Дети играли, девочки писали, и я тоже – все после обеда. До обеда читала Спинозу, но я еще не вникла и не полюбила его, хотя объяснение бога у него вполне удовлетворяет меня и согласно с моим пониманием. Читали немного французский роман. Привезли корректуру конца «Крейцеровой сонаты», и я прочла, слава богу, без прежнего волнения – одни раз и поправила. Левочка плохо спит, писать не может. Утром было теплее, 1½ мороза, теперь опять 7.
23 января. Три дня не писала журнал. Были третьего дня гости: Раевская, Эрдели, Александр Александрович Берс. День прошел пусто, и я была глупо оживлена. Вчера Левочка ушел в Тулу пешком; было тепло, Раевский утром дошел до нас пешком, встречая жену, и это соблазнило Левочку. Он обедал у Зиновьевых (его нет), а вечер провел у Раевских. Вернулся с поездом вместе с Алексеем Митрофановичем.
В Туле был и Сережа, приехал сегодня к нам; друг другу всё рассказывали, сидели втроем: он, Таня и я, и о многом рассуждали: дела, супружеская жизнь, дело Маши Кузминской с Эрдели. После обеда он уехал, я шила на машине белье. Глаза, голова – всё болит от страшного насморка. Грипп у всех поголовно. Я тупа на всё от нездоровья.
25 января. Утром рано встала, насморк, нездоровилось. Поехала в Тулу, было ясно, тепло. У мостика встретила Левочку, уже возвращающегося с прогулки, веселого и такого ясного; и мне всегда везде приятно его увидать, особенно неожиданно. В Туле дела разные: деньги получила за дрова, со священником Овсянникова пришла, уступая всё, почти к соглашению насчет раздела. Была у Раевской, Свербеевых и Зиновьевой, где встретила Арсеньева – губернского предводителя дворянства. Второй год я стала замечать, что ко мне стали относиться как к старой женщине. Это непривычно, но мало меня огорчает. Как сильна эта привычка, что ты чувствуешь, как в твоей власти то, что отнесутся все к тебе с некоторой симпатией, если не сказать – любованием! Теперь же больше хочется уважения и ласковости от людей.
Поправляя «Крейцерову сонату» (корректуру), вечером мне пришло в голову, что женщина в молодости любит прямо сердцем и отдается охотно любимому человеку, потому что видит, какое это для него наслажденье. Женщина в зрелых летах вдруг поймет, оглянувшись назад, что мужчина любил ее всегда только тогда, когда она ему была нужна, и вдруг из ласкового тона переходил в строго-суровый или брюзгливый, немедленно после удовлетворения.
И тут уже, когда женщина, закрывавшая долго на всё это глаза, сама начинает испытывать эту потребность, та сердечная, сентиментальная любовь проходит, и она делается такою же, то есть в известные периоды относится страстно к мужу и требует от него удовлетворения. Горе ей, если он разлюбил ее к тому времени; и горе ему, если он не в состоянии уже удовлетворить ее требованиям. Вот отчего все семейные драмы и разводы столь неожиданные в старости и столь некрасивые. Там только останется счастье, где дух и воля поборют тело и страсти. И неверна «Крейцерова соната» во всем, что касается женщины в ее молодых годах. У молодой женщины нет этой половой страсти, особенно у женщины рожающей и кормящей. Ведь она женщина-то только в два года раз! Страсть просыпается к 30 годам.
Вернулась я из Тулы часов в шесть и обедала одна. Левочка выходил меня встречать, но не встретил, что мне было очень жаль. Он стал ласковее последнее время, но хотя опять и опять хочется поддаваться прежнему обману, но я не могу уже не думать, что это всё оттого же – оттого, что он стал здоровее и проснулась прежняя, привычная страстность.
Весь вечер усиленно работала над корректурой «Крейцеровой сонаты», «Послесловия» и занималась счетами. Записывала всё в Москву: семена, покупки, дела.
26 января. Встала в 10 часов. Ванечка взошел, его одели, повели гулять. Просмотрела вчерашнюю корректуру еще раз, кончила ее; еще просмотрела каталог семян и кое-что записала. Учила Андрюшу и Мишу музыке. Андрюша страшно упрям и неприятен во время урока; и теперь тон такой взял, трудно отвыкнуть.
Приехали дети Свербеевы с англичанкой, два Раевских и Бергер Сережа.
Играли в разные игры, ходили кататься с горы. Я проведала Ивана Александровича, он жалок своей слабостью при страдании, как дети. Пошла к Левочке прочесть вместе письмо старика Ге и стала ему говорить, что из его последователей люблю сына Ге, Николая Николаевича, и князя Хилкова. Но прибавила, что это люди, еще воспитанные университетом и старыми традициями, и в этом их и сила, и прелесть, и вся подкладка, а вот увидим, как их дети вырастут и что с ними будет.
Левочка немедленно принял брюзгливый и раздражительный тон, разговор перешел в неприятный, я ему тихо это заметила, но ушла с дурным чувством на него. Если б кто знал, как мало в нем нежной, истинной доброты и как много деланной по принципу, а не по сердцу.
Все разошлись спать, иду и я. Спаси Бог эту ночь от тех грешных снов, которые сегодня утром разбудили меня.
4 февраля. Много пережила я всё это время. 27-го в ночь поехала я в Москву по делам. Похождения мои там мало интересны. Обедала первый день у Мамоновых, вечер была с Урусовым, Таней и Левой в концерте. Играли Крейцерову сонату (Гржимали и Познанская), и весь концерт был на фортепьяно Познанской. Крайне было утомительно, жарко, за игрой я следить не могла, хотя и чувствовала, что играли хорошо.
На другой день утром выкупила Гриневку за 7600 рублей в Московском банке, подала заявление заложить в Дворянский банк. Обедала у Фета и много лишнего болтала, главное, глупо и дурно жаловалась на недостаточную любовь Левочки ко мне. Вечером дома застала Дунаева, и вместе сводили счеты с артельщиком. Дядя Костя сказал раз про Дунаева: «Этот, который по тебе вздыхает», и мне это испортило раз навсегда Дунаева, хотя он такой простодушный и добрый человек.
Утром во вторник приезжали Кузминский с Машей; они из Ясной, и я рада была узнать о доме. Мы часа три сидели, весело болтали, завтракали, смеялись. Были тут еще Таня, Лева, Вера Петровна с Лили Оболенской и я. Потом пришел и Урусов, и мы отправились к Шидловским.
В среду была у Северцевых, там дядя Костя, Мещериновы, и разговор о браке и любви. Потом в четверг была у Дьякова, где Лиза, Варя, Маша Колокольцева – и мне было очень там хорошо и просто, дружественно, как дома. Дела я окончила успешно, но не люди, не дела меня волновали, а Лева, весь, какой он есть, со своей сложной умственной жизнью, со своими попытками писательства и всё нерадостным отношением к жизни. Он прочел мне свой рассказ «Монтекристо», очень трогательный и сильно действующий на чувство – рассказ полудетский. Другой он послал в «Неделю», где Гайдебуров обещает его напечатать в мартовской книге. Это секрет, о котором он просил никому не говорить.
Мне стала вдруг так радостна мысль, что то, чем я привыкла жить всю свою жизнь, – эта художественная и умственная атмосфера, окружавшая меня, – не уничтожится, если я переживу Левочку, а я буду в сыне продолжать интересоваться и следить за тем, что наполняло так интересно и хорошо мое существование. Я в нем буду продолжать любить и его, и из-за него и свою жизнь, и его отца. Но что-то еще Бог даст!
Другое взволновавшее меня обстоятельство то, что когда я вернулась домой и застала Мишу Стаховича, я впервые выслушала от него довольно неожиданную исповедь о том, как он всегда восхищался Таней: «Я долго старался заслужить Татьяну Львовну, но она никогда не подавала мне надежды». Мы всегда думали, что он целится в Машу, и когда я рассказала Тане это обстоятельство, то видела, что ее это сильно взволновало. Я счастлива бы была, если б она вышла за Мишу Стаховича. Я его очень люблю, он мне нравится так, как ни один из молодых людей, которых я знаю, и кому же могу я желать моего любимца, как не любимой дочери?
Мы все были очень веселы эти дни: приезжали еще Керн с женой, мальчики Раевские, Дунаев с Алмазовым; но всё веселье вносил один Стахович. Дети катались эти два праздника, 2-е и воскресенье, на скамейках по всей деревне, я ходила проведать слепую Евланью, мать Митрохи, и всё ей про него рассказывала; мне радостно было ей сделать этим удовольствие.
Сегодня учила детей; Андрюша в мое отсутствие не делал ничего и уроков не знал. Я вышла из себя и прогнала его. Боже! Как он меня мучает и огорчает! Левочка не очень свеж, но ездил сегодня верхом в Ясенки, а после обеда разыгрывал Шопена, и ничья игра меня не трогает больше игры Левочки; удивительно много чувства у него и именно всегда то выражение, которое должно быть. Он говорил Тане, что задумывает художественное и большое сочинение. То же он подтвердил и Стаховичу.
Маша вдруг решительно собралась в Пирогово, но холодно, и я не пускаю, потому что она охрипла, а 15° мороза. Не огорчило ли ее известие о том, что Стахович любит Таню больше нее? Ей так давно внушают обратное.
Таня была в Туле с miss Lidia и переснималась; для Стаховича она поспешила, так как он просил ее карточку. Она взволнована, это верно. Но опять и тут… что Бог даст!
6 февраля. Встала в десятом часу, видела во сне Петю своего покойного маленького, что Маша его откуда-то привезла разбитого и растерзанного, он уже большой, как Миша, и похож на него. Мы друг другу обрадовались, и весь день я его вижу в той полутьме, в которой он лежал больной.
Весь день кроила, шила и ладила панталоны Андрюше и Мише и кончила к вечеру обе пары. Вечером читал Левочка «Дон Карлоса» Шиллера, я вязала. Теперь одиннадцатый час, он уехал на Козловку верхом за письмами. Девочки ушли спать, они обе взволнованы и даже несчастливы со времени известия о чувствах Стаховича.
Читаю «Physiologie de Pamour moderne» [Поля Бурже] и еще не пойму в чем дело, только начала, но мне не нравится.
Левочка любуется на Ванечку и возится с ним. Нынче вечером он его и Сашу поочередно клал в пустую корзинку, закрывал крышу и таскал по комнатам, с Андрюшей и Мишей. Он забавляется детьми, но совсем не занимается ими.
7 февраля. Таня больна, у нее жар 39 и 3, ломит ноги, болят спина и живот. Много было уроков с Андрюшей и Мишей. У Миши всё голова болит, и это меня тревожит. От Левы что-то нет известий, это очень грустно: не болен ли он. Письмо от Манечки Стахович, а ждала от Миши.
Второй вечер хотелось проехаться на Козловку с Левочкой, а он всё ездит верхом, точно нарочно. Он опять суров, ненатурален и неприятен. Вчера вечером я так сердилась молча на него! До двух часов ночи он всё не давал мне спать. Сначала был внизу и мылся долго, я уж думала, что заболел. Мытье для него – событие. Я стараюсь всеми силами видеть только его духовную сторону и достигаю, когда он бывает добр.
9 февраля. Вчера вечером наконец исполнилась моя мечта – прокатиться в санках, при лунном свете, на Козловку. Мы ездили с Левочкой вдвоем на Козловку. Но писем не было, и от Левы известий нет. Тане как будто лучше, хотя всё еще был жар 38 и 6. Заболел и мой миленький Ванечка: тоже жар. Погода – ветер и 1° мороза.
Сегодня я ленива и грустна. Сшила Ване матросский костюм, два часа учила музыке, читала брошюру Бекетова «О настоящем и будущем питании человека». Он предсказывает всемирное вегетарианство, и он, пожалуй, прав. Ванечка кашляет, и мне больно его слушать.
10 февраля. Таня с утра стонала до обеда от страшной головной боли, потом опять был жар 38 и 5. Ванечка с утра горит, утром было 39 и 3. Странная, неопределенная болезнь! Не могу сказать, чтоб я очень тревожилась, но жалко своих больных. Самой тоже не совсем здоровится, всю ночь не спала. Переписывала дневники севастопольские Левочки, очень интересно; вязала и с больными сидела. Андрюшу спросила урок, который он не знал на неделе. У Маши в том доме школа из разного сброда[80]80
После закрытия школы в каменном домике у входа в усадьбу (по доносу священника), занятия происходили в «том доме».
[Закрыть], и все дети туда бегают. Саша, по случаю болезни Тани, тоже ходит туда учиться.
У Миши новые часы, и он страшно доволен, как только дети умеют быть. Левочку видела мало. Он пишет опять о науке и искусстве. Показал мне сегодня статью в «Open Court», где поминают, что он говорит одно, а живет по-другому, ссылаясь на то, что состояние взяла жена: «Знаем мы, как относятся люди вообще, а русские в особенности, к женам, – пишут там. – Жены воли не имеют». Левочке было неприятно, а мне всё равно: я обстреляна.
11 февраля. Заболел еще Андрюша; Ванечке днем было лучше, теперь, ночью, опять жар. Приехала Анненкова. Тане гораздо лучше. Письмо короткое от Левы. Много переписала сегодня интересного из Севастопольской войны в дневнике Левочки.
Работала, учила детей.
12 февраля. Весь день все дети нездоровы; у кого что: у Маши боли в животе, у Тани желудочные боли, у Миши зубы, у Ванечки сыпь, у Андрюши жар, рвота; одна Саша весела и здорова. Переписывала дневник Левочки; он взял вечером свой дневник и начал читать. Несколько раз он говорил мне, что ему неприятно, что я их переписываю, а я себе думала: «Ну и терпи, что неприятно, если жил так безобразно». Сегодня же он поднял целую историю, начал говорить, что я ему делаю больно и не чувствую этого, что он хотел даже уничтожить эти дневники, упрекал меня, спрашивал, приятно ли бы мне было, если б мне напоминали то, что меня мучает как дурной поступок, и многое другое.
Я ему на это сказала, что если ему больно, мне не жаль его; что если он хочет жечь дневники, пусть жжет, я не дорожу своими трудами; а если считаться, кто кому больно делает, то он своей последней повестью перед лицом всего мира так больно мне сделал, что счесться нам трудно. Его орудия сильнее и вернее. Ему бы хотелось перед лицом всего мира остаться на том пьедестале, который он себе воздвиг страшными усилиями, а дневники его прежние ввергают его в ту грязь, в которой он жил, и ему досадно.
Не знаю, как и почему связали «Крейцерову сонату» с нашей замужней жизнью, но это факт, и всякий, начиная с государя и кончая братом Льва Николаевича и его приятелем лучшим – Дьяковым, все пожалели меня. Да что искать в других – я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами. И всё это не быв виноватой перед мужем ни в одном движении, ни в одном взгляде на кого бы то ни было во всю мою замужнюю жизнь! Была ли в сердце моем возможность любить другого, была ли борьба – это вопрос другой – это дело только мое, это моя святая святых, и до нее коснуться не имеет права никто в мире, если я осталась чиста.
Не знаю, почему именно сегодня в первый раз я высказала Льву Николаевичу свои чувства относительно «Крейцеровой сонаты». Она так давно написана. Но рано или поздно он должен был их знать, а сказала я по поводу упреков, будто я ему больно делаю. Вот я ему и показала свою боль.
Рожденье Маши. Как было тяжелое, так и нынче, через 20 лет, тяжелое.
13 февраля. Вчерашний разговор, перевернувший мне душу, заключился спокойным договором доживать вместе жизнь как можно дружнее и спокойнее.
Дети всё еще нездоровы: у Андрюши весь день жар, Таня и Маша слабы и головы болят, у Миши невралгия. Сидела весь день с детьми и Анненковой и работала. Скроила Андрюше халат, чинила чулки, сшила наволоку. Вечером Левочка читал нам «Дон Карлоса» и кончил. Получили письма: я – от Левы, Левочка – от графини Александры Андреевны Толстой, оба хорошие. Таня что-то странна и истерична. Моя обыденная жизнь, заботы, дети, болезни опять как бы парализовали всю мою духовную сторону, и я мучительно сплю душой.
15 февраля. Левочка почти запретил мне переписывать свои дневники – и мне досадно: я так много уже переписала и так мало осталось той тетради, из которой я переписывала теперь. Тихонько от него продолжаю писать – и кончу непременно; слишком я давно и твердо решила, что это нужно.
Дети все здоровы. От Левы телеграмма, что завтра он не едет в Гриневку, есть дело в Москве. От Миши Стаховича письмо о дуэли [гвардейских офицеров] Ломоносова и Вадбольского, и его рассуждения по поводу этому совершенно верны, что это убийство, как и всякое другое. Еще он меня вызывает в Петербург для переговоров с государем о цензурном отношении к Левочке и возлагает на мой приезд и мой разговор с государем огромные надежды. Если б я могла быть спокойна о доме и детях, если б я любила «Крейцерову сонату», если б я верила в будущую художественную работу Левочки – я бы поехала. А теперь – где взять энергию, где взять тот подъем духа, которым можно умно, с властью и убеждением повлиять на довольно устойчивого в своих убеждениях государя? Не чувствую я больше этой личной власти над людьми, которую еще недавно так сильно чувствовала.
Ездили на Козловку за письмами: Левочка верхом, Таня, Маша, Иван Александрович и я в санях. Чудная лунная ночь, снег блестит гладкий, ровный, дорога чудесная, мороз и тишина. У нас 12° мороза, в поле всегда больше. Ехала домой и с ужасом думала о городской жизни. Как опять жить без этой красоты природы, без простора и досуга, которыми так балуешься в деревне?
16 февраля. Однако письмо Стаховича меня смутило, так как всё видела во сне царя и императрицу и всё думаю о поездке в Петербург. Тщеславие играет самую главную роль, и я не попадусь на это и не поеду. Левочка хотел ехать с Машей в Пирогово и остался. Я знаю, почему он остался, я чувствую это по всему его тону со мной.
Весь день усиленно кроила и шила на машине белье. Читаю всё «Physiologie de l’amour moderne», и меня заинтересовал этот анализ чувственной любви. Учила детей музыке; двигаемся тихими шагами, но двигаемся;
Андрюша играет сонату Бетховена, Миша – Гайдна. У Миши несравненно больше способности. Маша, Андрюша и Алексей Митрофанович учили девок и наших горничных вечером, в том доме; Маша бледна, жалка, худа, но есть в ней что-то трогательное. Таня расстроена, неспокойна и чего-то ждет.
17 февраля. От Левы письмо: он заболел, у него в Москве сделалось, видно, то же, что было у детей здесь, в Ясной. А может быть, и другое что. Во всяком случае, не могу уже быть спокойна, хоть пишет он сам, и по тону правдиво и не опасно. Илья тоже в Москве, продавал клевер.
Написала письма Леве, Тане-сестре и Стаховичу. Все плохие письма. Приехал Николай Николаевич Ге, с женой, привез свою новую картину: Иуда Предатель смотрит на удаляющуюся группу. Лунный свет хорош, мысль и сюжет хороши, но исполнение бедно и не удовлетворяет совсем, точно одно полотно, а не картина. При сильном освещении лучше.
Весь день провела с Анной Петровной Ге и утомилась без своих обычных занятий. Левочка ездил верхом в Тулу, вернулся очень скоро, не застав дома Давыдовых и пригласив через человека посмотреть картину. Он бодр, но на него нашла тревога. То в Пирогово, то в Тулу; то суп мясной перестал опять есть, то кофе надо пить овсяный – видно, наскучило быть здоровым. А мне эта суетливость страшна и неприятна. Всё говорит, что не пишется.
У Маши был опять вечерний класс, и она учила одна и утомилась.
18 февраля. От Левы известия плохие. Телеграмма – доктор сказал, что у него обычное его лихорадочное нездоровье, как было два года назад; письмо – что лучше, а по словам приехавшего из Москвы Ильи – у Левы то же нездоровье, которое было у всех в Ясной. Дай бог, чтоб не затянулось. Таня едет к нему завтра, а я еду в Тулу по делу раздела с овсянниковским попом. Страшно неприятно и надоело.
Читали вслух с Ге и Буткевичем рассказ «Часы» какого-то малоизвестного писателя. С Ильей неприятные хозяйственные и имущественные разговоры. Маша вянет и беспокоит меня, и очень ее жаль. Дни проходят бесцветно и беспокойно. Учила сегодня Закон Божий, идет плохо, вышивала полосы одеяла и сидела с Анной Петровной.
Ветер страшный, жутко слушать.
19 февраля. Была в Туле; кроме лавок, нотариуса, попа, улицы и губернского правления – никого и ничего не видала. Шли с попом разговоры о разделе, но ничем не кончили. Иван Александрович ездил со мной. Таня уехала в Москву ходить за больным Левой, я рада за него и что-то мало беспокоюсь, мне кажется, что ему сегодня будет лучше. Я так его люблю, что о плохом не могу думать.
Вышивала, ела, тупо разговаривала, вообще глупа. Был Раевский, смотрел картину Те. На улице, на минутку, видела Давыдова, и было очень приятно его видеть; он один из тех, которые мне особенно симпатичны; да он и действительно особенный, из немногих.
20 февраля. Сейчас проводили стариков Те на Козловку. Получила два письма: от Тани и от Левы карандашом, ему лучше, утром 37, вечером 38 и 6°. Была и телеграмма. Меня встревожило то, что с Мишей во время ученья делается иногда вроде истерики: и смех, и слезы, но скоро проходит. И правда, но слишком ли их много учим? Андрюша тоже вял.
Ездили на Козловку: Левочка, Маша и я; тепло и ветер. Вечером между нами четырьмя – Левочкой, двумя Те и мной – были больные разговоры о наших супружеских отношениях и о болях, которые испытывают мужья, когда их не понимают жены. Левочка говорил: «Тут, как ребенок, со страданиями рождается в тебе новая мысль, целая душевная перемена, а тебе же в упрек ставят твою боль и знать не хотят ее». А я говорила, что пока рождаются все эти вымышленные ими самими духовные дети, у нас рождаются с реальной болью живые дети, которых надо и кормить, и воспитывать, и имущества охранять, когда же еще и как ломать свою сложную жизнь для тех душевных перемен мужей, за которыми поспеть невозможно и о которых можно только жалеть?
Впрочем, мы многое говорили, чтоб упрекать друг друга, а в душе всякий желал одного, по крайней мере я этого теперь всегда желаю – чтоб не бить по старым больным местам и жить как можно дружнее. А что люди, не только любимые мужья, говорят и делают хорошо и с добром, то всегда встретит сочувствие, и не может быть иначе, хотя медленно, со временем – если это действительно добро.
23 февраля. У нас Горбунов, и приехала Анненкова. Больна Саша, жар и кашель; я особенно старательно ухаживаю за ней, и мне за нее страшно. Анненкова говорила, что видела в Москве Леву и Таню; Лева выздоровел, но боится еще выехать. Получили письмо от Полонского и стихотворение «Вечерний звон». Левочка шил вечером сапоги и жаловался, что его знобит. На дворе просто буря, такой страшный ветер. Весь день ухаживала за Сашей, возилась с Ванечкой, дала два часа урока музыки Андрюше и Мише и вышивала одеяло.









































