Читать книгу "Дневники 1862–1910"
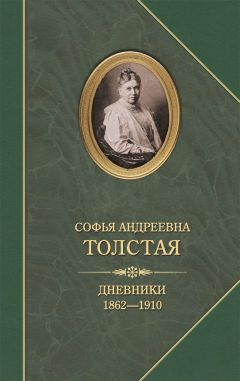
Автор книги: Софья Толстая
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
На днях Л. Н. сказал: «Всё болит, вся машина разладилась. Нос вытащишь, хвост увязнет, хвост вытащишь, нос увязнет». А сегодня утром, утомленный, говорит: «Как тяжко, умирать не умираешь и не выздоравливаешь». Что-то будет!
Вчера был ясный день, и ему было лучше. Сегодня опять снег идет и темно, серо, на точке замерзания, а вчера было 3° мороза.
Еще вечером вчера опять диктовал Л. Н. Павлу Александровичу Буланже свои мысли.
10 февраля. Опять сегодня ясный день и 3° тепла, и потому наш дорогой больной опять ночь спал хорошо и менее тоски днем, хотя слабость страшная, температура дошла до 36 и 3. Он ничего сегодня не говорит, ничем не интересуется, тихо лежит, пил три раза понемногу кофе, раз шампанского спросил, впрыскивали два раза камфару. Он спокоен, и на меня нашло спокойствие.
Перечитываю сочинение Льва Николаевича «Христианское учение», и мне кажется всё время, что я это всё давно, давно, с детства знаю и сама передумала двадцать раз.
«Цель жизни человеческой в желании блага себе и всему существующему. Достичь этого можно только единением людей между собой…» А кто из нас в раннем еще детстве не испытывал этого чувства, чтоб всем было весело и хорошо? Мама веселая, папа смеялся, няне подарили платье, собачку накормили, с Мишей помирится – и так всё весело, хорошо, потому что всем хорошо. И вот живешь, вырастаешь. Везде страдания, всем не хорошо. На днях газету пересматриваю: в Шемахе землетрясение, погибли в страшных мучениях тысячи людей… Англичане (солдаты) сделали из живых женщин и детей вал и им себя защитили, стреляя в буров, то есть в отцов, мужей, братьев, сыновей этих самых женщин. И уж не веришь, что мое горячее детское желание, чтоб всем было хорошо, имело бы какое-нибудь значение, и руки опускаются. Конечно, это не мешает духу стремиться всё к тому же, к любви, к Богу.
Вечер. Весь день почти Л. Н. спал, вечером подозвал Машу и меня и велел написать Леве, который очень мучился, что огорчил отца своим романом и рекламой, сделанной редактором журнала о том, что роман написан против толстовцев, следующие слова: «Жалею, что сказал слово, которое огорчило тебя. Человек не может быть чужд другому, особенно когда так близко связан, как я с тобой. О прощении речи не может быть… конечно».
Взволновали мою маленькую душу разные объявления о концертах, об исполнении вещей сочинения Сергея Ивановича, и я, как голодный хочет пищи, вдруг страстно захотела музыки, и музыки Танеева, которая своей глубиной так сильно на меня действовала.
12 февраля. Эти дни Л. Н. очень соплив, слаб и мало говорит. Вчера спросил у доктора Волкова, как лечат в простонародье таких стариков, как он, впрыскивают ли им камфару, кто их поднимает, чем питают. Волков ему всё рассказывал, говорил, что лечат так же, но что поднимают и помогают домашние, а часто соседи.
Вернулся Щуровский, привез свою дочку. Саша больна. Стало теплей. Измучилась я и физически и душевно, но Бог дает силы, и то благодарю Его.
13 февраля. Опять плохо проведенная ночь. Вчера весь день температура держалась около 37; сегодня держится на 36 и 5. Но сегодня большая слабость и сонливость весь день, даже не умывался и сонный едва проглотил две маленькие чашечки кофе, два яйца и один стаканчик молока. Утро я спала, весь день сижу с Левочкой и шью разные подушечки, подстилочки и т. п.
Кончила сегодня перечитывать «Христианское учение». Очень хорошо о молитве и будущей жизни.
14 февраля. Ночь тревожная. Давно я не была так слаба и утомлена, как сегодня. Опять сердце мое слабеет, и я задыхаюсь. Читала вчера детям, Варе Нагорновой и барышням свой детский рассказец, еще не конченный, «Скелетцы», и, кажется, понравилось.
Относительно Левочки не знаю, что думать: он всё меньше и меньше ест, всё хуже и хуже проводит ночи, всё тише и тише разговаривает. Ослабление это временное или уже окончательное – не пойму, всё надеюсь, но сегодня опять напало уныние.
Как бы мне хотелось до конца с нежностью и терпением ходить за ним, не считаясь со старыми сердечными страданиями, которые он мне причинял в жизни! А вместе с тем сегодня я горько плакала от уязвленной вечно любви моей и заботы о Льве Николаевиче: спросил он овсянки протертой, я сбегала в кухню, заказала и села около него; он заснул. Овсянка поспела, и когда Л. Н. проснулся, я тихо положила на блюдечко и предложила ему. Он рассердился и сказал, что сам спросит и во всю болезнь пищу, лекарства, питье принимает от других, а не от меня. Когда же надо его поднимать, не спать, оказывать интимные услуги, перевязывать компрессы – он всё меня заставляет делать без жалости. И вот с овсянкой я употребила хитрость: позвала к нему Лизу, А сама села рядом в комнате, и как только я ушла – он спросил овсянку и стал есть, а я стала плакать.
Этот маленький эпизод характеризует всю мою трудную с ним жизнь. Труд этот состоял в вечной борьбе с его духом противоречия. Самые разумные, нежные мои заботы о нем и советы всегда встречались протестом.
15 февраля. Третий день Левочка слабеет и отказывается принимать пищу. Сегодня осложнилось сильной болью в желчном пузыре. Я надела с Машей ему компресс из масла с хлороформом и вместе согревающий; сейчас полегче. Ноги и руки холодеют… Доктора всё дают надежду, но сердце болит невыносимо и плохо надеется.
Сегодня ночь спал довольно много и хорошо, я дежурила до пяти часов утра, потом меня сменила Лиза. Когда Левочка страдал от колючей боли в правом боку, я нагнулась, поцеловала его в лоб и руки, говорю, что мне так жаль его, что он опять страдает. Он слабо взглянул на меня полными слез глазами и тихо сказал: «Ничего, душенька, это хорошо». И я рада, что сегодня в первый раз увидала в нем не мрачное желание ожить, а покорное смирение. Помоги ему Бог, так легче и страдать и умирать.
Больна Саша. Уж и за нее стало страшно. Боже мой, какую мы переживаем мрачную зиму! Два мертворожденных внука, болезнь тяжкая Льва Николаевича – и что еще впереди! Сегодня у Л. Н. температура 36 и 2, а пульс – 100. Впрыскивали опять камфару.
Вечером. Получила письмо от петербургского митрополита Антония, увещевающего меня убедить Льва Николаевича вернуться к церкви, примириться с церковью и помочь ему умереть христианином. Я сказала Левочке об этом письме, и он мне сказал было написать Антонию, что его дело теперь с Богом, что «моя последняя молитва такова: “От тебя изошел, к тебе иду. Да будет воля твоя”». А когда я сказала, что если Бог пошлет смерть, то надо умирать, примирившись со всем земным, и с церковью тоже, на это Л. Н. мне сказал: «О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом?» Потом Л. Н. прислал мне Таню сказать, чтоб я ничего не писала Антонию.
Сейчас у него усилились боли в правом боку, воспаление держится, и завтра поставят мушку.
Туман, свежо; перед Гаспрой стоит в море пароход, и сирены жалобно кричат. Видно, пароходы стоят на якоре и боятся пускаться в туман.
16 февраля. Сегодня Льву Николаевичу немного лучше: он не страдает ничем, лежит тихо, спал и ночью, и днем лучше. Боюсь радоваться. Уехал Щуровский, приезжает Сливицкий, бывший земским врачом у Сухотиных, человек немолодой, хороший. С утра погода была ясная, теплая, теперь опять заволокло.
Читала, сидя при спящем Льве Николаевиче, о последних годах жизни Байрона. Много незнакомых имен, эпизодов, много специального, но очень интересно. Какой был сильный, значительный человек и поэт! Как правильно относился ко многим вопросам, и теперь еще не дозревшим в обществе. Трогательна кончина и друга его Шелли, утонувшего в море, и его самого, преследующего в Греции цель общего умиротворения.
Удивительно, как бескорыстны доктора: ни Щуровский, ни Альтшуллер, ни бедный, но лучший по доброте из трех – земский врач Волков, никто не берет денег, а все отдают и время, и труд, и убытки, и бессонные ночи. Сегодня поставили мушку к правому боку.
Вечером разломило мой затылок, голова совсем не держится, я прилегла на диване в комнате, где лежит Лев Николаевич, он меня кликнул. Я встала, подошла. «Зачем ты лежишь, я тебя так не позову», – сказал он. «У меня затылок болит, отчего же ты не позовешь, ведь ночью ты же зовешь меня?» И я села на стул. Он опять кликнул. «Поди в ту комнату, ляг, зачем ты сидишь?» – «Да ведь нет никого, как же я уйду?» Пришел в волнение, а у меня чуть не истерика, так я устала.
Пришла Маша, я ушла, но захватила дела со всех сторон: бумаги деловые от артельщика из Москвы, повестки, переводы. Всё надо было вписать в книгу, подписать и отправить. Потом Саше компресс, потом прачке и повару деньги, записки в Ялту…
19 февраля. Несколько дней не записывала, очень труден уход, времени остается мало, едва на хозяйство и нужные дела и письма.
Бедный мой Левочка всё лежит слабенький, всё томится продолжительной болезнью. Приехал 17-го вечером Сливицкий, доктор, жить пока постоянно. Приезжают всякий день Волков и Альтшуллер; впрыскивают ежедневно камфару, дают Nux Vomica[143]143
Чилибуха, рвотный орех, гомеопатическое средство.
[Закрыть]. Пьет Л. Н. очень охотно, до четырех сегодня полубутылочек кефира. Находят доктора, что очень туго разрешается воспаление правого легкого. Но меня больше всего смущает ежедневная лихорадка. Утром температура 36 и 1, к шести часам вечера – уже 37 и 5. Так было вчера и сегодня.
Татарин пришел на поклон, с желанием здоровья, принес феску и чадру в подарок; и Л. Н. даже померил феску.
А третьего дня ночью опять позвал Буланже и диктовал ему свои мысли. Какая потребность умственной работы!
Лиза Оболенская не уезжает, остается ухаживать за Львом Николаевичем, и меня это тронуло.
20 февраля. Вчера было лучше, температура дошла только до 37 и 1, сам Л. Н. бодрее. Говорит доктору Волкову: «Видно, опять жить надо». Я спрашиваю: «А что, скучно?» Он оживленно вдруг сказал: «Как скучно? Совсем нет, очень хорошо».
22 февраля. Льву Николаевичу лучше, температура утром 36 и 1, вечером – 36 и 6. Впрыскивают камфару и мышьяк второе утро. Уехал сегодня Буланже, с неохотой возвращаясь к семье. Какое это несчастье иметь и не любить семью. Остаются один трудности.
Продолжаю сидеть ежедневно, до пятого часа утра, а потом от утомления и спать не могу. Весь день сижу, шью в комнате больного, которого всякий малейший шорох раздражает. Хозяйство здесь трудно и скучно по дороговизне. Написала несколько слов в ответ на письмо митрополита Антония. Больна всё Саша, острый перепончатый колит; кроме того, ухо и зубы болят. Холодно, снег шел.
Получила от Бутенева письмо с предложением отказаться от звания попечительницы приюта, так как отсутствую и не могу быть полезна приюту. Посмотрим, кого выберут и как поведут свои дела.
23 февраля. Опять плохая ночь. К вечеру поднялась температура до 37 и 4, а пульс доходил до 107, но скоро перешел на 88, 89. Ночью позвал меня: «Соня?» Я подошла. «Сейчас видел во сне, что мы с тобой едем в санках в Никольское».
Утром он мне сказал, что я очень хорошо за ним ночью ходила.
25 февраля. Первый день Великого поста. Так и хочется этого настроения спокойствия, молитвы, лишений, ожидания весны и детских воспоминаний, которые возникали в Москве и в Ясной с наступлением Великого поста. А здесь всё чуждо, всё безразлично.
Лев Николаевич приблизительно всё в том же положении. Сам он пободрей, спал ночью от 12 до 3 в первый раз без просыпаний; в 5 часов утра я ушла спать, и он плохо провел остальную ночь. Утром читал газеты и интересовался полученными письмами, но неинтересными. Двое увещевают вернуться к церкви и причаститься – и раньше были такие письма, – двое просят сочинения даром, два иностранца выражают чувства восторга и уважения. Получила и я письмо от княжны Марии Дондуковой-Корсаковой с просьбой обратить Л. Н. к церкви и причастить. Вывели, помогли выйти ему из церкви эти владыки духовные, а теперь ко мне подсылают, чтобы я его вернула. Какое недомыслие!
Серо, холодно, ветер. Отвратительный весь февраль, да и вообще климат очень нездоровый и дурной. Саше лучше.
27 февраля. Вчера ничего не писала, с утра уже заметила ухудшение в состоянии Льва Николаевича. Он плохо накануне спал, вчера день весь мало ел, посреди дня поднялась температура до 37 и 5, а к ночи стала 38 и 3. И опять ужас напал на меня: когда я считала этот ужасный, быстрый, до 108 ударов в минуту, с перебоями пульс, со мной чуть дурно не сделалось от этой сердечной angoisse[144]144
Тоска (франц.).
[Закрыть], которую я уже столько раз переживала за эту зиму.
Но ночь спал Л. Н. недурно, к трем часам температура стала опять 37 и 5, а к утру сегодняшнего дня дошла до 36 и 1. Опять явились бодрость, аппетит. Он читал даже газету, пил опять охотно кефир, три раза поел.
Сережа удивительно бодро, кротко и старательно ходил за отцом всю ночь. Лев Николаевич мне говорил: «Вот удивительно, никак не ожидал, что Сережа будет так чуток, так внимателен», и голос его дрожал от слез. Сегодня он мне говорит: «Теперь я решил ничего больше не ждать, я всё ждал выздоровления, а теперь, что есть сейчас, то и есть, а вперед не заглядывать». Сам напоминает дать ему дигиталис или спросит градусник померить температуру. Пьет опять шампанское, позволяет себе впрыскивать камфару.
28 февраля. Сейчас половина одиннадцатого часов вечера, у Льва Николаевича опять жар, 38, и пульс плох, с перебоями, и опять страшно. Сегодня он Тане говорил: «Хороша продолжительная болезнь, есть время к смерти приготовиться». Еще он сегодня же ей сказал: «Я на всё готов; и жить готов, и умирать готов». Вечером гладил мои руки и благодарил меня. Когда я ему меняла одеяло, он вдруг рассердился, ему холодно показалось. После пожалел меня. С утра ел, просмотрел газету, к вечеру же очень ослабел.
Страшная буря, 1° мороза, ветер стучит, воет, трясет рамы.
Пролила чернила и всё испачкала.
4 марта. Льву Николаевичу день ото дня лучше. Слушали доктора, нашли еще крупные хрипы. Диктовал мне вчера вечером ответное письмо Бертенсону и ежедневно диктует кому-нибудь письма открытые Буланже. Прекрасный человек этот Буланже, ходил за Л. Н. как сын, а какое-то у меня к нему было брезгливое чувство, прямо почти физическое, отталкивающее. Вообще редко мужчины бывают симпатичны.
5 марта. Льву Николаевичу лучше; температура утром 35 и 7, вечером – 36 и 7. Доктора находят всё еще какие-то хрипы, а так, если не знать о них, то всё нормально. Аппетит такой огромный, что Лев Николаевич никак не дождется, когда ему время обеда, завтрака и проч. Кефиру он выпил за сутки три бутылочки. Сегодня просил повернуть кровать к окну и смотрел на море. Очень он худ и слаб еще. Ночи плохо спит и очень требователен: раз пять в час позовет, то подушку поправить, то ногу прикрыть, то часы не так стоят, то кефиру дай, то спину освежи, посидеть, за руки подержись… Только приляжешь на кушетку, опять зовет.
Ясный день, лунные ночи, а я мертвая, как мертва здешняя каменная природа и скучное море. Птички всё пели у окна, и почему-то ни птицы, ни жужжащая у окна муха, ни луна не принадлежат Крыму, а всё же напоминают яснополянскую или московскую весну, а муха – жаркое лето в рабочую пору, а луна – наш хамовнический сад и мои возвращения с концертов…
6 марта. Ужасно проведенная прошлая ночь. Тоска в теле, в ногах, в душе, и всё не по нем, а главное, что меня огорчило в Льве Николаевиче, это то, что он – оговариваясь, что это дурно, – роптал на то, что выздоровел. «Я всё думаю, зачем я выздоровел, лучше бы уж умер».
День он провел в апатии, я всё так же сижу при нем весь день, только ушла во флигель в первый раз поиграть немного свои любимые вещи… Но нет, и этого уж не могу.
7 марта. Испугались сегодня ужасно, пульс вдруг среди дня забил 108 ударов в минуту, а сам Лев Николаевич в апатии с утра, не сидел, не умывался и почти не обедал, только утром поел с аппетитом. Температура выше 36 и 8 не поднималась, к вечеру было даже меньше. Заболела печень, положили компресс и на живот, и на легкие.
Погода эти три дня ясная, но воздух холодный. С утра было 4–5° тепла и ветер. Но солнце жжет, почки надулись, птицы поют.
8 марта. С утра встала совсем больная: болит под ложечкой, спина, хотя Л. Н. сегодня ночь провел очень хорошую, спал больше других ночей.
Тяжелая сцена с Сережей. Ужасный у него характер: вздорный, крикливый, так и лезет, чтоб поссориться. Я сегодня взяла кофе и ушла в гостиную, а то опять со мной сделалась бы истерика, как было на днях, потому что Сережа кричит до тех пор на человека, пока тот не выдержит. Всё вышло из-за кресла Льву Николаевичу: Сережа говорит, что надо в Одессу телеграфировать, но куда и кому – он не знает. Я говорила, что надо прежде знать, какое кресло, и подробно написать об этом в Москву. И он на это разозлился и стал кричать.
10 марта. В первый раз вышла погулять, и сразу меня поразила совершенная весна. Трава – как у нас в России в мае. Примулы цветут пестрые, одуванчики и глухая крапива кое-где. На деревьях готовится цвет и почки. Яркое солнце, синее небо и море, и птицы, эти милые создания, везде поют.
Льву Николаевичу с хорошей погодой стало значительно лучше. Температура сегодня 35 и 9, пульс 88. Аппетит огромный, и кефир пьет всё с наслаждением день и ночь. Читает газеты и письма, но что-то не весел.
Вчера уехали Лиза Оболенская и доктор Сливицкий. Ночевал у Л. Н. доктор, армянин, сосланный, и я опять до пол вины пятого, потом Таня.
11 марта. Лев Николаевич поправляется. Была в Ялте, ясно, небо и море голубые, птицы поют, трава лезет всюду; деревья еще голы, только кое-где миндаль цветет.
Вечером сидела с Л. Н., он говорит: «Я всё стихи сочинял, перефразировал
Всё мое, сказало злато…
а я говорил:
Всё сломлю, сказала сила,
Всё взращу, сказала мысль».
Обтерли всё тело спиртом с теплой водой, уложили спать в десять часов.
12 марта. Льву Николаевичу медленно, но лучше. Сегодня он читал «Вестник Европы», газеты, интересовался московскими новостями от приехавшего из Москвы Левы Сухотина. Был доктор Альтшуллер и думает еще мушку поставить.
Сидела упорно весь день дома и шила, вставая только для услуг Льву Николаевичу. С утра я его всегда сама умываю, кормлю завтраком, причесываю. Сегодня к вечеру температура 36 и 8, но он хорошо ел и скоро заснул. Поправляется он несомненно, но пульс всё от 89–88 до 92.
13 марта. Стало тепло, 13° тепла в тени, и шел теплый дождь. Льву Николаевичу всё лучше и лучше. Всё продолжаю свое дежурство до 5 часов утра; вчера сменяла Саша, сегодня сменит Таня.
Прочла вчера вечером поздно перевод статьи Эмерсона «Высшая душа». Мало нового я нашла в этом сочинении, всё давно сказано и лучше у древних философов. Между прочим, рассуждение, что всякий гений гораздо ближе в общении с умершими философами, чем с живущими близкими семейного очага. Довольно наивное заключение. Разумеется, когда отпадает земная, материальная жизнь, то остаются после умерших философов только их записанные мысли. Так не только гении, но мы все, простые смертные, читая эти мысли, приходим в общение с умершими мыслителями гораздо ближе, чем даже с гениями, но живущими. Живые гении, пока они не сбросили с себя материальную оболочку и не перешли своими произведениями в историю, созданы для того, чтоб поглощать всё существование этих, якобы не понимающих их близких домашнего очага.
Гению надо создать мирную, веселую, удобную обстановку, гения надо накормить, умыть, одеть, надо переписать его произведения бессчетное число раз, надо его любить, не дать поводов к ревности, чтоб он был спокоен, надо вскормить и воспитать бесчисленных детей, которых гений родит, но с которыми ему возиться скучно и нет времени, так как надо общаться с Эпиктетами, Сократами, Буддами и т. п., и надо самому стремиться быть ими.
И когда близкие домашнего очага отдадут молодость, силы, красоту, всё на служение этих гениев, тогда их упрекают, что они не довольно понимали гениев, а сами гении и спасибо никогда не скажут, что им принесли в жертву не только свою молодую, чистую жизнь материальную, но атрофировали и все душевные и умственные способности, которые не могли ни развиваться, ни питаться за неимением досуга, спокойствия и сил.
Служила и я, сорок лет скоро, гению и знаю, как сотни раз поднималась во мне умственная жизнь, всякие желания, энергия, стремление к развитию, любовь к искусствам, к музыке… И все эти порывы я подавляла и глушила и опять, и опять, и теперь, и так до конца жизни буду так или иначе служить своему гению.
Всякий спросит: «Но для чего тебе, ничтожной женщине, нужна была эта умственная или художественная жизнь?» И на этот вопрос я могу одно ответить: «Я не знаю, но вечно подавлять ее, чтоб материально служить гению, – большое страдание». Как бы ни любить того человека, которого люди признали гением, но вечно родить, кормить, шить, заказывать обед, ставить компрессы и клистиры, тупо сидеть молча и ждать требований – это мучительно, а за это ровно ничего, даже простой благодарности не будет, а еще найдется многое, за что будут упрекать. Несла и несу я этот непосильный труд – и устала.
Вся эта тирада у меня вылилась с досады на Эмерсона и на всех тех, кто со времен Сократа и Ксантиппы писали и говорили об этом. Когда между женой гения и ним существует настоящая любовь, как было между нами с Львом Николаевичем, то не нужно жене большого ума для понимания, нужен инстинкт сердца, чутье любви – и всё будет понято, и оба будут счастливы, как были мы. Я не замечала всю жизнь своего труда – служения гениальному мужу, и я почувствовала больше этот труд, когда после чтения дневников мужа увидала, что для большей своей славы он всюду бранил меня; ему нужно было оправдать как-нибудь свою жизнь в роскоши (относительно) со мной. Это было в год смерти моего Ванечки, когда я огорченной душой больше примкнула к мужу – и жестоко разбилась сердцем и разочарованием в нем.
15 марта. Прошлую ночь провел Л. Н. без сна, тоска в ногах, в животе. Температура утром была 36 и 1, вечером 36 и 5. Пульс 86. День он был вял, просматривал газеты и письма, диктовал письмо Лизе Оболенской, мало разговаривал.
Ездила с Машей и Колей от моря, туда пришла с Юлией Ивановной. Волны, прибой, зеленые оттенки. Невесело, ничто не трогает. Никакой весны тут не чувствуешь. То ли дело наша русская, торжественная весна, тронутся снега и льды, взломаются реки, потекут потоки, прилетят птицы, и вдруг всё, точно чудом, зазеленеет, зацветет, заживет… Здесь же немного теплей, чуть-чуть позеленей в парках, а то всё те же камни, те же корявые деревья, безжизненная почва и волнующее море.
Шила опять много.
19 марта. Жизнь так однообразна, что нечего записывать. Болезнь Л. Н. почти прошла, осталась слабость и иногда маленькое повышение до 37° температуры. Пульс утром 80, после еды 92–96. Аппетит большой, но ночи тревожные.
Относительно его расположения духа одно очевидно, что он мрачно молчалив. Беспрестанно застаю его сосредоточенно считающим удары пульса. Сегодня, бедненький, смотрел в окно на солнце и всё просил меня хоть на минутку отворить дверь террасы, но я не решилась, боюсь.
5 апреля. Еще прошло много времени с малыми событиями. Уехали 30 марта Таня и ее семья; 24-го приехал Андрюша. Здоровье Л. Н. почти в том же положении, только пульс очень учащен эти последние три дня. Лечения всякого – без конца. Ночи – вначале все тревожные, болят живот и ноги. И вот приходится растирать ноги, и это мне очень тяжело: спина болит, кровь к лицу приливает и делается истерическое состояние. Вообще всё отрицалось, когда здоровье было хорошо, а при первой серьезной болезни – всё пущено в ход. По три доктора собираются почти через день; уход трудный, и много нас, и все утомлены и заняты, и жизнь личная всех нас поглощена болезнью Л. Н. Он прежде всего писатель, излагатель мыслей, но на деле и в жизни – слабый человек, много слабее нас, простых смертных. Меня бы мучило то, что я писала и говорила одно, а живу и поступаю совершенно по-другому; а его это, кажется, не очень тревожит. Лишь бы не страдать, лишь бы жить, выздороветь… Какое внимание ко времени приемов лекарств, перемены компресса, какое старание питаться, спать, утолять боль!
Убийство министра внутренних дел Сипягина очень взволновало Л. Н.[145]145
Министр был убит С.В.Балмашевым 2 апреля 1902 года.
[Закрыть] Зло родит зло, и это действительно ужасно. Сегодня Л. Н. долго писал письмо великому князю Николаю Михайловичу и опять излагал ему, как и в письме государю, свои мысли о земельной собственности. Писал ему и о том, что убийство Сипягина может повлечь дальнейшее зло и надо прекратить его, переменив систему управления Россией.
Вчера и сегодня играла во флигеле, одна, очень приятно, часа два с лишком.
Погода отвратительная: буря, холодный ветер, все эти дни 4° тепла днем. Сегодня 7°. Из дома не выхожу, шью, читаю, глаза плохи.
13 апреля. Суббота, вечер накануне Светлого Христова воскресения, и, боже мой, какая невыносимая тоска. Сижу одинокая наверху, в своей спальне, рядом внучка Сонюшка спит. А внизу, в столовой, идет языческая, несимпатичная мне сутолока. Играют в винт, выкатили туда в кресле Льва Николаевича, и он с азартом следит за Сашиной игрой.
Я очень одинока. Дети мои еще деспотичнее и грубо настоятельнее, чем их отец. А отец так умеет неотразимо убеждать в парадоксах и лживых идеях, что я, не имея ни его ума, ни его prestige'а, совершенно бессильна во всех своих требованиях. Он меня крайне огорчает своим настроением. С утра, весь день и всю ночь, он внимательно, час за часом выхаживает свое тело и заботится о нем. Духовного же настроения я не усматриваю никакого решительно. Бывало, он говорил о смерти, о молитве, об отношении своем к Богу, к вечной жизни. Теперь же я с ужасом присматриваюсь к нему и вижу, что следа не осталось религиозности. Со мной он требователен и неласков. Если я от усталости что неловко сделаю, он сердито и брюзгливо на меня крикнет.
11 мая. Мне совестно, что я как бы с недобрым чувством к Левочке и к своим семейным писала свой последний дневник. Мне было досадно за отношение к Страстной неделе всех моих, и я, вместо того чтоб помнить только себя в смысле греховности, перенесла досаду на близких. «Даждь мне зрети прегрешения мои и не осуждати брата моего…»
Сколько прошло уже с тех пор времени, и как тяжело, ужасно опять то, что мы переживаем! После своей последней болезни, воспаления в легких, Л. Н. начал поправляться, ходил с палочкой по комнатам, отлично питался, и варил желудок.
Маша мне предложила поехать по делам в Ясную и Москву, так как очень нужно это было. Подумав, я решила ехать на возможно короткий срок и выехала 22 апреля утром.
Поездка моя вполне была успешна и приятна. Пробыла я день в Ясной Поляне, куда приезжал и Андрюша. Погода была прелестная, я так люблю раннюю весну с нежной зеленью, с надеждой на что-то хорошее, свежее, новое… Усердно занялась счетами, записями, прошлась с инструктором по всем яблочным садам, посмотрела скотину и на заходе солнца пошла в Чепыж. Медунчики, фиалки цвели, птицы пели, солнце за срубленный лес садилось, и природа, чистая, не зависящая от людских жизней и тревог природа доставила мне огромное наслаждение.
В Москве порадовало меня отношение ко мне людей. Такое дружеское, радостное, точно все мне друзья. Даже в магазинах, банках и везде меня приветствовали хорошо после долгого отсутствия. Устроила успешно дела, побывала на передвижной выставке и на выставке петербургских художников; побывала на экзаменационном спектакле и слушала Моцарта, веселую музыку оперетки [ «Все они таковы, или Школа влюбленных»]. Повидала много друзей, собрала в воскресенье свой маленький любимый кружок: Масловы, Маруся, дядя Костя, Миша Сухотин, Сергей Иванович, который мне играл Аренского мелкие вещи, сонату Шумана и свою прелестную симфонию, она больше всего мне доставила удовольствия.
Удовлетворенная, успокоенная, я поехала обратно в Гаспру, надеясь и судя по ежедневным телеграммам, что всё там благополучно. Мне казалось таким удовольствием прожить еще месяц май в Крыму, радуясь на поправление Льва Николаевича. И вдруг, возвратившись 1 мая вечером в Гаспру, я узнаю, что у Л. Н. жар второй или третий день по вечерам. И вот пошло ухудшение со дня на день. Жар ежедневно повышался, и наконец обнаружился брюшной тиф.
Все эти дни и ночи – сплошное для всех страдание, страх, беспокойство. До сих пор сердце хорошо выдерживало болезнь; но прошлую ночь, на 11-е, при температуре, доходившей раньше до 39°, а сегодня 38 и 6, пульс вдруг стал путаться, ударов счесть невозможно, что-то ползучее, беспрестанно останавливающееся было в слабом, едва слышном пульсе. Я сидела у постели Левочки всю ночь, Колечка Ге приходил и уходил, отказываясь неуменьем следить за пульсом. В два часа ночи я позвала живущего у нас доктора Никитина. Он дал строфант, побыл и ушел спать. В четыре часа ночи я ощупала опять пульс, и улучшения не было. Тогда дала кофе с двумя чайными ложками коньяку и впрыснули камфару. К утру пульс стал получше, сделала обтирание, температура упала до 36 и 7.
Теперь Лев Николаевич тихо лежит тут же, в этой большой мрачной гостиной, а я пишу за столом. В доме мрачно, тихо, зловеще.
Состояние духа Л. Н. слезливое, угнетенное; умирать ему страшно не хочется. Вчера он сказал на мой вопрос, каково его внутреннее настроение: «Устал, устал ужасно и желаю смерти». Но он усиленно лечится и сам следит за пульсом и лечением. По утрам, когда легче, он читает газеты, просматривает письма и присылаемые книги.
Сегодня приезжает из Москвы доктор Щуровский, из Кочетов – дочь Таня; Сережа, Те, Игумнова и Наташа Оболенская и Саша – все ухаживают за больным. Сережа недобр ко мне и тяжел.
13 мая. Льву Николаевичу, слава богу, лучше. Температура равномерно падает, пульс стал лучше. Щуровский уехал вчера. Приехал сегодня сын Илья, приехал Буланже. Колечка Те уезжает завтра. В доме суета довольно тяжелая. Сережа невыносим; он выдумывает, на что бы сердиться на меня, и придумал вперед упрекать, что я будто бы хочу везти отца будущей зимой в Москву. Как неразумно, зло и бесцельно! Еще Л. Н. не встал от тяжкой болезни, а Сережа уже задумывает, что будет осенью. А какие мои желанья? Я совсем не знаю. Впечатлительность, яркое освещение и понимание жизни, желание покоя и счастья – всё это повышенно живет во мне. А жизнь дает одни страданья – и под ними склоняешься. Живешь сегодняшним только днем, и если всё хорошо, ну и довольно. Играла сегодня часа два одна во флигеле, пока Л. Н. спал.
15 мая. Неприятность с Сережей не прошла даром. Вчера у меня сделались такие страшные боли во всем животе, что я думала, что умираю. Сегодня лучше.









































