Читать книгу "Дневники 1862–1910"
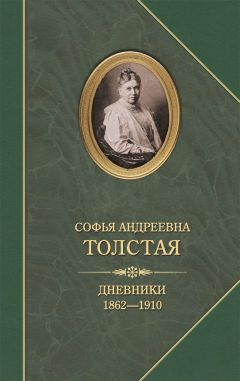
Автор книги: Софья Толстая
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Всё сделала, вчера уж было лучше: 38 и 6, сегодня – 37 и 5; Лев Николаевич еще слаб, но уже болезнь уступила. Он ел, я ему в три часа снесла Эмс, а в 3½ – овсяный суп, пюре. Он говорит: «Как ты умна, что догадалась принести мне суп, я ослаб немного». Потом он с нами обедал; нас было мало: мы, старики, Сережа, Таня и Саша. Еще Саша Берс и m-lle Aubert. Но дружно, тихо и хорошо было, и Сережа, бедный, такой грустный это время! Перед обедом дети катались на коньках и смотрели зверей в Зоологическом саду, Л. Н. спал, а я играла, упражняясь усердно.
Получили анонимное письмо. Вот копия:
Граф Лев Николаевич!
Бесспорно, что секта Ваша растет и глубоко пускает корни. Как ни беспочвенна она, но при помощи дьявола и по глупости людей Вам вполне удалось оскорбить Господа нашего Иисуса Христа, который должен быть нами отмщен. Для подпольной борьбы с Вами, подпольными же, мы образовали тайное общество «Вторых крестоносцев», цель которых – убить Вас и всех последователей – вожаков секты Вашей. Сознаем вполне, что дело это не христианское, но да простит Господь и да рассудит нас за гробом! Как ни жаль бывает «своей» руки, но раз заражена она гангреной – приходится ею пожертвовать, жаль и Вас, как брата во Христе, но с уничтожением Вас зло должно ослабнуть!
Жребий пал на меня недостойного: я должен убить Вас! Назначаю для Вас этот день: 3 апреля будущего, 1898 года. Делаю это для того, что миссия моя – во имя великого святого и Вы можете приготовиться для перехода в загробную жизнь.
Легко, может быть, Вы поставите мне логично вопрос: почему агитация эта только против Вашей секты? Правда, все секты – «мерзость пред Господом!», но законоположники их – жалкие недоумки – не чета, граф, Вам; во-вторых: Вы – враг нашего Царя и Отечества!.. Итак до «3 апреля».
Второй крестоносец жребьевой. Жребий 1-й.
Декабрь 1897 г. Село Смелое.
На печати сургучом ЕС и дворянская корона. Штемпель из Павлограда 20 декабря.
Письмо это меня так беспокоит, что я ни минуты не могу его забыть. Думаю о нем сообщить екатеринославскому губернатору и здешнему обер-полицмейстеру Трепову, чтоб приняли какие-нибудь меры. Если захотят, разыщут опасных людей. Лев Николаевич не выразил беспокойства и говорит, что предупредить ничего нельзя и на всё воля Бога.
Вечером пришли Колокольцевы, Бутенев, Вера Северцева. У Льва Николаевича 38 и 5, и он слаб.
26 декабря. Проводила утром Таню и Сашу в Гриневку и Никольское. Сережа уехал вчера вечером. Спешили, укладывали ящики. Я послала всё на елку внукам, потом подарки и фрукты Доре и ящик с серебром и шубу своей Маше. Всё это с Таней; и им корзиночку уложила с едой и фруктами на дорогу. Остались мы с Львом Николаевичем вдвоем; тихо и ничего, хорошо. Ему гораздо лучше, утром 36 и 9, вечером 37 и 5; он спросил вечером суп, печеное яблоко, бодрей и веселей. Меня преследует вчерашнее письмо.
Весь день провела за фортепьяно. Эта бессловесная музыкальная беседа то с Бетховеном, то с Мендельсоном, Рубинштейном и проч., и проч. даже при моем плохом исполнении доставляет мне огромное удовольствие. Прерывали Митя Олсуфьев, и с ним мы откровенно, просто и дружно беседовали; потом моя холодная, благоразумная и красивая кузина Ольга Северцева и живая (с темпераментом), умная и талантливая Марья Николаевна Муромцева. У ней много недостатков, но мне с ней всегда весело.
Получила четыре приглашения себе и детям: к Треповым, к Глебовым, к брату Саше и к Муромцевой с Кони и музыкантами. Она говорила, что зовет и С.И., но я знаю, что он уехал в «Скит» работать.
Вечером приходила Анна Левицкая; потом я проявляла и испортила группу, которую вчера сняла у нас в саду. Завтра симфонический, и я радуюсь.
27 декабря. Была в симфоническом, играли все новые вещи для меня: Франка симфонию, Делиба «Le roi s’amuse», Глазунова в первый раз «Стеньку Разина» и проч. Новые вещи меня интересуют, но не радуют.
Льву Николаевичу лучше, сегодня он выходил в сад и охотно ел. Трудно его, вегетарианца, кормить больного. Придумываешь усиленно кушанья. Сегодня дала ему на грибном бульоне суп с рисом, спаржу и артишок, кашку на миндальном молоке манную с рублеными орехами и грушу вареную.
Был у нас Давыдов Николай Васильевич; я ему говорила об анонимном письме, он один посмотрел на это довольно серьезно. Принимала разные светские визиты: Голицыну, Самарину, Ховриных и т. д. Вечером приятно разговаривала с молодой девушкой, Соней Кашкиной. Приходили Анненкова, Дунаев, Сергеенко, Цингер, Попов; сидели с Л. Н., пока я была в концерте.
Л.Н. сегодня рассказывал, что в день, когда ему заболеть, он шел по Пречистенке и на него вскочила вдруг неожиданно серая кошка и, пробежав по пальто, села на плечо. Л. Н., по-видимому, видит в этом дурное предзнаменование.
От Маши телеграмма, благодарит за шубу и серебро. Тепло, 2°, мокрый снег.
29 декабря. С утра занималась фотографией. Немного играла, упражнялась. После обеда играли с Львом Николаевичем в четыре руки Шуберта «Трагическую симфонию». Сначала он говорил, что это глупости, мертвое дело – музыка. Потом играл с увлечением, но скоро устал. Он слаб после болезни, всё под ложечкой болит, и похудел он, так мне нынче больно было на него смотреть. Вечером часа на два уезжала в концерт пианиста Габриловича. Играл он, конечно, хорошо, удивительно piano выделывает. Но я всё время вижу его старание и умысел, и потому он меня не увлекал. Никого нет лучше Гофмана и Танеева. Какое томление желать – и, может быть, никогда его больше не услыхать!
Вернулись Андрюша и Миша из деревни. Андрюша кашляет и меня тревожит. Вчера мы с Л. Н. ездили к брату Саше: Л. Н. играл в винт, а я слушала, как мне играла одна пианистка. Сыграла она и тот полонез Шопена, который нам играл летом С.И. Так меня всю и перевернуло от воспоминаний его чудесной игры и его милого общества. И всё это кончено – навсегда!
Была вчера у Столыпина, старика. У него молодежь разная собирается, и поют «Норму». Живой старик, а ему 76 лет!
Думала о том, что Л. Н., находя в церкви много лишнего, суеверного, даже вредного, отверг всю церковь. Так же в музыке, слушая разную чепуху, встречающуюся в последнее время у новых музыкантов, он отверг всю музыку. Это большая ошибка. Как десятками лет отбросили всё лишнее, весь музыкальный сор, и остались настоящие таланты, так и из теперешней музыки новой отбросят всё лишнее и останутся единицы; в числе их будет наверное Танеев.
1898
1 января. Вчера встретили Новый год – Лев Николаевич, Андрюша, Миша, Митя Дьяков, два мальчика Данилевские и я. Случилось, что Данилевская заболела, и, вместо того чтоб у них была встреча Нового года, пришлось мальчикам быть у нас. Очень было приятно, дружно, тихо и хорошо. Мы пили русское донское шампанское, Лев Николаевич – чай с миндальным молоком.
Сегодня с утра играла и стерегла Мишу, чтоб он учился. Потом ездила к старой тетеньке Вере Александровне, болтала с ней и кузинами своими; еще была у Истоминых. Обедали вдвоем с Львом Николаевичем. Он всё не может справиться здоровьем, мало ел, только суп грибной с рисом и манную кашку на миндальном молоке, и пил кофе. Он вял и скучен, потому что не привык быть болен и слаб. Как ему трудна будет дальнейшая слабость и потеря сил! Как ему хочется еще – и жизни, и бодрости. А скоро 70 лет, в нынешнем уже году в августе, то есть через полгода. Он всё читает один, в своем кабинете наверху, пишет немного писем; сегодня ходил к больному обожающему его Русанову. На диване, в его кабинете, лежит черный пудель, недавно полученный Таней в подарок от графини Зубовой. Этого пуделя он и гулять брал.
Завтра приезжает наша Маша посоветоваться с доктором. Таня и Саша всё еще в деревне; завтра они поедут, вероятно, в Ясную Поляну к Леве и Доре. Мне тоже хочется съездить в Ясную. Как я ее люблю, и как много хорошего я там пережила!
3 января. Вчера с утра приехали: Стасов, скульптор Гинцбург, молодой художник и Верещагин (плохой писатель).
Стасов, пользуясь своими 74 годами, бросился меня целовать, приговаривая: «Какая вы розовая и какая стройная!» Я сконфузилась и не знала, как от него отделаться. Пошли наверх, в гостиную, разговаривали о статье Льва Николаевича «Об искусстве». Стасов говорил, что Л. Н. всё вверх дном поставил. Я это и без Стасова знала, ведь он на то и бил!
Была неприятная короткая стычка у нас с Л. Н. по поводу моего упрека, что публика должна записаться на «Журнал философии и психологии» на два года, чтоб прочесть статью Л. Н., помещаемую в книге ноябрь – декабрь и в книге февраль – март; а что если б его вещи печатала я при его Полном собрании сочинений, то продавала бы за 50 копеек и все могли бы читать. Л. Н. начал при всех кричать: «Я не даю! Я всем даю!.. Мне упрекают с тех пор, как я всё даром отдаю!» А ничего он мне не дает: «Хозяина и работника» тайком послал в «Северный Вестник»; тоже тайком теперь послал свое «Введение», которое вернул, и статью об искусстве старательно охранял от меня – бог с ним! Он прав, его произведения – его неотъемлемая собственность; но не кричи уж на меня.
Приехала вчера вечером Маша с Колей. Она всецело отдалась мужу, и для нее мы уже мало существуем; да и она для нас не очень много. Я рада была ее видеть; жаль, что она так худа; рада, что она живет любовью, это большое счастье! Я тоже жила долго этой простой, без рассуждений и критики, любовью. Мне жаль, что я прозрела и разочаровалась во многом. Лучше я бы осталась слепа и глупо любящая до конца моей жизни. То, что я старалась принимать от мужа за любовь, была чувственность, которая то падала, обращаясь в суровую, брюзгливую строгость, то поднималась с требованиями, ревностью, но и нежностью. Теперь мне хотелось бы тихой, доброй дружбы; хотелось бы путешествия с тихим, ласковым другом, участия, спокойствия…
Вечером была в опере «Садко». Красивая, занимательная опера, музыка местами хорошая, талантливая. Автора безумно вызывали, овации были большие. Мне было приятно, но опять-таки лучше бы и музыку слушать, если б рядом со мной, как у многих, был тихий, добрый друг – муж.
Езжу и принимаю визиты без конца и очень этим тягощусь…
Вечер. Обедали у нас Стасов, Касаткин, Гинцбург и Матэ – один скульптор, другой гравер. После обеда приехала Муромцева в желтом атласном платье и цветах, но в нетрезвом виде, и на меня навела ужас, как всегда, когда я вижу людей не в своем виде. Позднее приехали Римский-Корсаков с женой, а Муромцева уехала.
Были разговоры об искусстве, очень горячие и громкие. Стасов молчал, Л. Н. кричал, а Римский-Корсаков горячился, отстаивая красоту в искусстве и развитие для понимания его. Всё это написано в статье Л. Н. Мы никто не соглашались с ним в том, что он отрицал и красоту, и известное развитие для понимания искусства. Корсаковы несколько раз поминали Сергея Ивановича и с таким же уважением и любовью, как и все к нему относятся, кроме моего свирепого мужа. Как он сегодня шумел в разговоре! Я всегда боюсь, что он кого-нибудь оскорбит резкостью.
Устала от целого дня общения с людьми… Мальчики танцуют у Лугининых.
5 января. Вчера была на танцевальном утре в доме Щербатова, где собралось всё так называемое общество Москвы. Поехала для Саши, которая утром вернулась с Таней от братьев из деревни, и посмотреть, как танцуют мои сыновья. Очень было веселое утро и такое стройное, ничего не оскорбляло.
Вечером поздно поехала на вечер к Муромцевой, чтоб ее не обидеть, и там меня очень почетно принимали; были пенье, музыка, и это было приятно. Но в этом хаосе общественной жизни я совсем одуреваю. Кроме того, больны все три дочери: у Маши страшная головная боль с истерическими припадками, у Саши нарыв в ухе был, очень болел и лопнул, у Тани флюс, лихорадочное состояние и мысли о Сухотине, который завтра приезжает.
Лев Николаевич опять здоров, гуляет и со мной ласков. Сегодня ходила пешком на ученическую выставку, ужасно плоха и только некоторые пейзажи недурны и напоминают лето, лес и воду. Обедал у нас сегодня Репин и провел весь день до вечера. И, кроме него, было много гостей.
6 января. Ездила на Патриаршие пруды кататься на коньках и много каталась с Маклаковыми и Наташей Колокольцевой. Оттепель и шел дождь. Очень весело и здорово это катанье на коньках. Вечером читала, сидела с Сашей и слушала музыку неизвестного юноши Поля из Киева, который играл Льву Николаевичу и нам свои сочинения и очень талантливо. Л. Н. невесел, потому что ему всё еще не работается. Он тоже катался на коньках в каком-то приюте малолетних детей; это уже не в первый раз.
С утра плакала, вспомнив живого Ванечку, а к вечеру опять взяла тоска по многому, чего хочется в жизни и чего нет и никогда не будет… Л. Н. всё читает материалы кавказской жизни, природы, всего, что касается Кавказа[114]114
В этот период Толстой работал над повестью «Хаджи-Мурат».
[Закрыть].
8 января. Вчера обедал у нас Репин, всё просил Льва Николаевича задать ему тему для картины. Он говорил, что хотел бы свои последние силы в жизни употребить на хорошее произведение искусства, чтоб стоило того работать. Лев Николаевич еще ничего ему не посоветовал, но думает. Самому ему не работается. Погода ужасная: ветер страшнейший, везде вода – больше, чем весной бывает в Москве; 3° тепла и темнота.
Вчера прочла отзыв хвалебный Кашкина об опере «Садко», которая мне страшно нравится, и так захотелось поехать! Л. Н. меня уговаривал с добротой такой, чтоб я ехала, что я еще больше почувствовала себя виноватой от своего легкомыслия. Если б я не нашла билета, то даже обрадовалась бы. Но надо же такой случай: мой билет был последний в кассе. Это был 3-й ряд кресел, а мне хотелось балкон. Пошла наверх, попросила кого-нибудь мне обменять: внизу слишком громко, а у меня ухо болит. Кто-то меня окликнул: это была учительница Саши Кашкина, милая девушка. Она послала брата вниз, а меня посадила между собой и матерью.
В антракте еще меня окликнула Маслова. Она была тут же, в балконе бельэтажа, но дальше меня, с кузиной и с Сергеем Ивановичем. Я так и обмерла, вспомнив доброе уговаривание Л. Н. Со мной судьба всегда играет такие шутки. В театре 3000 человек; я страшно близорука, никого не вижу в двух шагах; увидать с партера сидящих во втором ряду балкона – нет возможности, и я все-таки очутилась там, где могла видеть Сергея Ивановича. Когда мы искали свои шубы, он со мной сказал два слова, что кончил симфонию свою для оркестра и что на днях приедет.
Вернувшись домой, я хотела сказать Л. Н., что видела Сергея Ивановича, и никак не могла. Когда я вошла к нему, мне показалось лицо его такое худое, грустное; мне хотелось броситься к нему и сказать, что я не могу никого любить больше него, что я всё на свете готова сделать, чтоб он был спокоен и счастлив; но это было бы дико, и потом, кто поручился бы, что он, как Маша, не думал бы дурное про меня, подумал бы, что я что-нибудь знала, подстроила, сговорилась…
Больна Саша; у ней нарыв в ухе, и очень мне жаль юную подружку моей теперешней жизни. Таню по-старому горячо люблю, жалею и слежу с болью за ее сердечной борьбой. Андрюша уехал в Тверь, Миша в лицее. Л. Н. сейчас хотел проехаться верхом, но лошадь хромает, и он ушел пешком.
10 января. Была с Марусей Маклаковой на периодической выставке картин, и хотя мало хороших, но я люблю искусство. Кстати об искусстве: вчера Алексей Стахович, адъютант великого князя Сергея Александровича, рассказывал, что читали у великого князя статью Льва Николаевича «Об искусстве» и говорили с соболезнованием, как «жаль, что это вышло из-под гениального пера Льва Толстого». Еще говорили о нашей семье, и великий князь, встретивший меня у Глебовой в среду, сказал Стаховичу, что был поражен моей необыкновенной моложавостью. Я так к этому привыкла и так дешева эта похвала, что я уж ей не придаю никакой цены. Если б я хоть что-нибудь была больше, чем моложавая жена Льва Толстого, как я была бы рада! Говорю в смысле духовных качеств.
Л.Н. спокоен, здоров, но всё не может работать. Мы дружны, и просты наши отношения, как давно не были. Я так рада! Но надолго ли?
13 января. Вчера именины Тани. Готовили с утра вечер. Таня начала звать к себе гостей, я продолжала. Это долг светским отношениям. Днем разбираю картон, в утренней кофточке, растрепанная, ничего не слышу, вдруг передо мной Сергей Иванович и Юша Померанцев. Я так взволновалась, вся вспыхнула и ничего не могла сказать. Не велела никого принимать, а их пустили почему-то. Сидели почти час, говорили о «Садко», о Римском-Корсакове и др. Когда ушел Сергей Иванович, какое-то мучительно тоскливое чувство, что я, чтоб успокоить Л. Н., должна ненавидеть этого человека или по крайней мере относиться к нему как к чужому совсем – а это невозможно.
Вечер был с пением Муромцевой-Климентовой, Стаховича, с игрой Игумнова и Гольденвейзера, с освещением, угощением, ужином, генералом, княгинями, барышнями, и было не весело, но и не скучно. Трудно было. Л. Н. играл в винт со Столыпиным, братом Сашей и др.
Сегодня уехали Маша и Коля.
14 января. Лев Николаевич стал бодрей эти два дня. Саша, слава богу, выздоровела и начала ученье. Миша сегодня тоже занимался и уехал в Малый театр смотреть пьесу «Борцы» [Модеста] Чайковского.
Живу старательно, но часто с глубоким отчаянием в душе… Помоги, Господи!
16 января. Таня собирается в Петербург. Я намекнула было, что мне хотелось бы съездить на представления опер Вагнера в Петербург, но Лев Николаевич излил на меня за это такой злобный поток упреков, так язвительно говорил о моем сумасшествии касательно любви к музыке, о моей неспособности, глупости и т. д., что мне теперь и охоту отбило что-либо желать.
Весь день провела за счетами с артельщиком, очень внимательно привела в порядок свои книжные, детские и домашние дела, но очень устала и голова болит. Вечером поздно пошла прогуляться с Львом Николаевичем, проводили домой Марусю Маклакову, и с нами были Степа-брат и Дунаев.
Приехали Сережа и Илюша. Поздно вечером тяжелый разговор с Львом Николаевичем. Он всё более и более делается тяжел своими подозрениями, ревностью и деспотизмом. Его сердит каждый мой самостоятельный шаг, каждое мое самое невинное удовольствие, каждый час, проведенный за фортепьяно.
Сегодня наша Таня и Маруся Маклакова пересматривали фотографии разных мужчин и переговаривались, за кого бы они пошли замуж. Когда дошли до портрета Льва Николаевича – обе закричали: «Ни за что, ни за что!» Да, трудно очень жить под деспотизмом вообще, а под ревнивым – ужасно!
17 января. До поздней ночи меня пилил Л. Н., говоря, что просит отпустить его в деревню, что он мне не нужен, что жизнь в Москве для него убийство, и всё в этом роде. Слово отпустить не имеет значения, я его держать не могу. Если я желала, чтоб он приехал в Москву, то потому, что мне естественно и радостно жить с мужем, которого я привыкла любить, о котором привыкла заботиться. Чтоб он не мучился ревностью – я всё сделала и все-таки не заслужила его доверия. Если б он уехал в деревню, то еще больше бы мучился; уехать всем нам – как же быть с Мишей и Сашей, не учить их? Думаешь, думаешь…
А равнодушие и бездействие Льва Николаевича в воспитании детей всегда мне тяжело, и я ему ставлю это в упрек. Сколько отцов не только воспитывают сами детей, но еще и кормят их своим трудом, как мой отец. А Л. Н. считает, что даже жить с семьей для него убийство.
Ходила утром по делам в банк и за покупками. Ветер страшный, 6° мороза. Приехал Илюша на собачью выставку и за деньгами; тут Сережа. Степа-брат уехал, приехала к нам Соня Мамонова.
Сегодня в банке, дожидаясь, читала газету, и до слез меня огорчает дело убийства рабочих взрывом газа на Макеевских шахтах в Харьковской губернии. Описание похорон, горе родных, убитые лошади, искалеченные люди – всё это ужасно! Убиты те, кто без света, без радости, в вечной работе вели тяжелую трудовую жизнь под землей! А рядом пишут и кричат о деле Дрейфуса в Париже! Как оно мне показалось ничтожно в сравнении с русской катастрофой!
18 января. Лев Николаевич чистил снег и поливал каток в саду и написал много писем. Он очень молчалив, необщителен и, верно, обидев меня, в письмах жалуется друзьям на меня же.
20 января. Вчера Саша утром собирала складчину для маленького сына отошедшего от нас лакея Ивана. Этого мальчика Леню обварили самоваром, и он лежит в больнице.
Как вышло удивительно третьего дня. Сыновья мои ушли в театр, Сережа смотрел «Садко» в театре Солодовникова. Напал на меня страх, что сгорит театр, и я говорю Льву Николаевичу, что предчувствую пожар. И действительно, в ту ночь, когда разошлась публика, сгорел театр и обрушилась крыша.
Сегодня ездила с Сашей покупать ей башмаки и корсет. Потом разметала снег в саду на катке; Лев Николаевич присоединился ко мне, и мы вместе мели снег, а потом он стал кататься на коньках, а я села играть и упражнялась часа полтора.
Вечером было большое удовольствие. Мария Николаевна Муромцева привезла нам молодого пианиста Габриловича, и он нам играл целый вечер превосходно: балладу Шопена, ноктюрн его же, Impromptu Шуберта, Rondo Бетховена. Пришли Миша Олсуфьев, Маруся Маклакова. Лев Николаевич очень наслаждался музыкой и благодарил этого веселого, добродушного и талантливого двадцатилетнего мальчика.
Прочли с Соней Мамоновой, которая гостит у нас, разбор статьи Л. Н. «Об искусстве». Все критики сдержанно отзываются об этой статье.
21 января. Хотела и начала читать корректуру нового издания «Детства и отрочества», и оказалось, что не тем шрифтом набрано, и я отослала в типографию и велела набирать вновь.
Вечером разучивала усердно сонату Бетховена. Потом устала, пошла наверх ко Льву Николаевичу, а у него фабричный, солдат и еще какой-то темный. Скууу-чно мне стало от этой вечной стены различных посетителей (да еще таких) между мной и мужем.
Весь день идут у нас с Соней Мамоновой и Львом Николаевичем разговоры о деревенской газете для народа. Цель газеты – дать интересное чтение народу. События вроде крушения поездов, столкновения пароходов, несчастий в шахтах, приезд китайских, абиссинских и других заморских гостей; описания метеорологические, агрономические, исторические; сведения о царе и царской фамилии, краткое описание праздников и фельетоны – легкое чтение. Лев Николаевич так увлекся этой мыслью, что выписал Сытина (издателя народных книг и картин), чтоб поговорить о материальной стороне дела. Главное, Л. Н. меня хочет вовлечь в эту газету. Я очень сочувствую мысли, но с ним я бы не могла вести дело, мы слишком разных направлений, а своей непрактичностью Л. Н. испортил бы мне всё дело. Не как редактора, а только как сотрудника по беллетристике я взяла бы себе Льва Николаевича.
Устала, тоскливо, иду спать и жить душою и мыслями, той жизнью, которой не живу в действительности. Я сплю мало, но зато думаю, думаю, вспоминаю, даже еще о будущем думаю и чего-то жду от него.
Сегодня Миша выдержал греческий экзамен полугодовой.
22 января. Играла на фортепьяно целое утро, нервна до последней крайности, не спала всю прошлую ночь и лежала с открытыми глазами в темноте, боясь разбудить и потревожить мужа. Сижу я сегодня за фортепьяно и вдруг подумала, что Л. Н. может умереть, что его обещали убить, и расплакалась… Как ни строг он со мной, еще много у меня в сердце любви к нему.
Вечером была в концерте – квартет венских профессоров консерватории.
Л.Н. утром гулял с Таниным черным пуделем по саду: каток его растаял. Потом он получил письмо от дамы из Воронежской губернии о том, что там голод и она просит помощи и совета. Л. Н. написал письмо в «Русские Ведомости» о голоде, но вряд ли напечатают. Вечером он был у больного Русанова. Приходил Попов, он едет к Бирюкову и везет ему кое-что от Л. Н. Бирюков из Бауска едет в Англию. Туда же вчера уехала Винер, бывшая сожительница князя Хилкова, тоже сосланного[115]115
Последователи Толстого.
[Закрыть].
26 января. Все эти дни я была больна. Сначала была сильная невралгия в правой стороне головы, потом сильный жар, потом горло. Ездил доктор, молодой Усов, боялся дифтерита, но, по исследованиям, его не оказалось. Удивительные эти молодые доктора: Малютин лечил Сашу – денег не взял, и Усов не взял. Я им послала сочинения Л. Н. с его подписью.
Таня всё в Петербурге, и Л. Н. очень трогательно мне смазывал горло, так старательно и неловко. Он испугался моей болезни и вдруг стал такой унылый и старенький эти дни. Как мы все странно любим! Вот он, например, спокоен, счастлив, когда я тупо, тихо, скучливо сижу дома и работаю или читаю. Если же я оживлена, предпринимаю что-нибудь, общаюсь с кем-нибудь – он приходит в беспокойство, а потом сердится и начинает ко мне дурно относиться. А мне иногда так трудно вечно подавлять все горячие порывы моего живого, впечатлительного характера!
Вчера я лежала в постели, а к Л. Н. приехали опять три молоканина самарских просить писем рекомендательных в Петербург. Едут хлопотать опять об отнятых у них правительством детях, которых отдали в монастыри. Бедные дети и матери! И что за варварское средство для обращения в православную веру! Это уж никого не убедит, а напротив.
Сегодня приехала моя сестра Лиза из Петербурга, привозила и читала свои статьи о тарифе, о финансах, о крестьянской общине. Ведь придет же в голову женщине заниматься такими вопросами! А она вся ушла в финансы России и постоянно общается с министром Витте. Л. Н. и Дунаев нашли многое очень умным, особенно о тарифе, недавно введенном в России и уже оказавшемся совершенно негодным.
Сегодня меня звали на музыкальный вечер к Муромцевой, и я не могла ехать. Пропустила симфонический в субботу, жалею об увертюре «Эгмонт» Бетховена. Уступила билет Сереже и рада, что ему было приятно.
Вчера в постели и сегодня читала корректуру «Детства», которое меня всякий раз приводит в умиление. Спина болит, ослабела, и внутренняя тоска сосет, не переставая.
Сейчас Л. Н. пришел и говорит: «Пришел посидеть с тобой». Он мне показал две семифунтовые гири, которыми хочет делать гимнастику и которые купил сегодня. Он очень вял и всё повторяет: «Точно мне 70 лет». А ему и так в августе, то есть через полгода, будет 70 лет. Днем он катался на коньках, разметал снег. Но ему умственно не работается, а это его больше всего огорчает.
27 января. День читала корректуру, вечером гости: Цуриков, Боборыкин-старик, бывший орловский губернатор, профессор Грот, Сулержицкий, Горбунов и проч. Очень я утомилась, еще больная, и не могла участвовать ни в разговорах и ни в чем. Л. Н. катался немного на коньках и поправлял корректуры «Искусства».
28 января. Насилу встала, так дурно себя чувствую: и тошно, и всё тело ломит, и голова болит. Все-таки много работала над корректурами и делами детей; вчера и сегодня делала выписки из общей расходной книги в каждую отдельную книгу: Андрюши, Миши и Левы. Была у меня милая Мария Евгеньевна Леонтьева, и мы с ней близко и откровенно разговаривали об очень серьезных жизненных вопросах. Сергей Иванович присылал узнать о моем здоровье свою милую старушку няню, Пелагею Васильевну.
Л.Н. опять слишком усиленно разметал снег на катке и катался на коньках. Упражнения гирями тоже начались. Всё вместе это сделало то, что опять заболела у него печень, он наелся чечевицы и овсянки не вовремя, а совсем потом не обедал. Сейчас я посылала за Эмсом и дала ему выпить, что он охотно исполнил. Сидит, читает; я теперь читаю «Desastre» Поля Маргерита и его брата. Кажется, это времен Франко-прусской войны.
Приехала ко Льву Николаевичу дама, Коган, и шел разговор о высоких вопросах человеческого назначения и счастия и о путях к нему. Переписку и поправку работ (пока незначительных) производит теперь Сулержицкий, умный, способный и свободный юноша, когда-то учившийся живописи с Таней в школе на Мясницкой. Л. Н. очень доволен его работой.
29 января. Вернулась Таня из Петербурга. Она ездила для своих изданий картин и очень приятно провела время. Была у Победоносцева по поводу отнятых у молокан Самарской губернии детей. Победоносцев сказал, что местный архиерей перестарался, и прибавил, что напишет об этом самарскому губернатору и надеется, что дело это уладится. Какая хитрость! Он притворился, что не знал, что Таня – дочь Льва Николаевича, и когда она уже сошла с лестницы, он ее спросил: «Вы дочь Льва Николаевича?» Она говорит: «Да». – «Так вы знаменитая Татьяна Львовна?» Таня ему на это сказала: «Вот то, что я знаменитая, я не знала».
Приехал опять брат Степа с больной, глухой и жалкой женой. Их дело покупки именья в Минской губернии с Сережей свершилось. Вопрос, выгодно ли. Обедал у нас Стахович. Лев Николаевич весь день поправлял корректуру статьи «Что такое искусство?». Сейчас вечер, он ходил с черным пуделем гулять, а теперь ест овсянку на воде и пьет чай.
Весь день метель, три градуса мороза до пяти. Мне всё нездоровится, спина болит. Часа два играла на фортепьяно, только разбирала. Разобрала много вальсов, ноктюрнов и прелюдий Шопена. Но как плохо! Сколько надо труда, чтоб хоть порядочно играть, а я так плохо играю и так тихо двигаюсь.
30 января. Сегодня я должна себе признаться, что влияние, воздействие на меня Сергея Ивановича несомненно. Сегодня он был у меня, мы мало сидели одни, тут был брат Стена и сын мой Сережа; но когда ушел Сергей Иванович, я почувствовала такое успокоение нерв, такую тихую радость, которых давно не испытывала. Дурно ли это? Ведь мы говорили только о музыке, о его сочинениях, о ключах альта, сопрано и тенора. Он толковал мне и Сереже различие этих ключей.
Потом мы говорили об успокоении совести, когда строго относишься к своим поступкам; о том, как особенно тяжело бывает после смерти близкого человека всё то, в чем был виноват перед ним. Его ласковые, участливые расспросы о моей недавней болезни, о детях, о том, чем я была занята всё это время, – всё это было так просто, так спокойно и ласково, что прямо дало мне лишнее счастье. Как жаль, что ревность Льва Николаевича не допускает нашей дружбы, дружбы и Л. Н., и всей семьи с этим прекрасным, идеальным человеком.
Сережа был очень мил с Сергеем Ивановичем, дружелюбен и прост. Сережа его хвалит и любил бы, если б не отец. О себе он рассказывал, что поправляет оперу, задумал новый квартет, послал симфонию в Петербург, где ее будут играть 18-го или 20 марта. Как бы я поехала!
Была жена Степы; ее глухота очень тяжела. Переписывала для Льва Николаевича новые поправки в статью «Об искусстве», это заняло часа три. Потом обедала у нас Маруся Маклакова, читала мне корректуру «Детства». Получили «Родник» со статьей Левы «Яша Поляков» («Воспоминания детства»). Мне очень трогательно читать эти воспоминания с точки зрения детей моих: многое напоминает мне в его сочинении из той моей святой, трудовой жизни среди детей и служения мужу, которой я жила всю молодость. Но вернуть своей молодости я бы не хотела. Как много грусти в ней, как много трагизма в той самоотверженной, безличной жизни, полной напряжения, усилия и любви, с полным отсутствием чьей-нибудь заботы о моей личной жизни, о моих молодых радостях, об отдыхе хоть каком-нибудь!.. Не говорю уже о духовном развитии или эстетических радостях…









































