Читать книгу "Дневники 1862–1910"
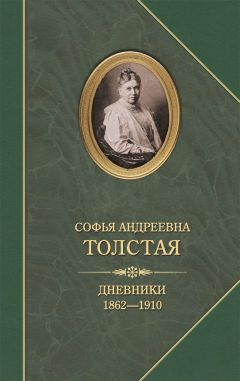
Автор книги: Софья Толстая
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Поиграла немного. Поучила Inventions Баха и разобрала увертюру «Оберон», сыграла любимые «Мелодию» Рубинштейна, «Песнь без слов» Мендельсона и «Романс» Давыдова.
28 июля. Живу вяло и лениво, хотя внешне жизнь полна. Ходили купаться, приехали Гинцбург и Ваня Раевский, потом вечером Цингер. Гинцбург хочет меня лепить во весь рост в виде маленькой статуэтки. Он хвалил мой рост, фигуру; говорил, что я совсем не изменилась. Зачем всё это? А что-то есть тщеславно-приятное в этой лести, если это лесть. Все и Лев Николаевич играли в lawn-tennis, а я два часа играла на фортепьяно и отвела душу. После чая ходили гулять, на Горелую Поляну, перешли по жердочке речку и вышли Засекой на шоссе. Потом сидели в казенном питомнике и вернулись домой, когда взошел прекрасно месяц, светлый и почти полный. А на западе заря вечерняя разлила по чистому небу такой чудесный, нежный розовый цвет, что глаза беспрестанно перебегали с луны на это розовое небо, и и то и другое было прелестно. Англичанин Моод, кажется, считал своей обязанностью меня сопровождать и разговаривать; а как мне хотелось идти одной, молчать и думать…
Вечером играла в четыре руки с новым учителем Соболевым 8-ю симфонию Моцарта и начали септет Бетховена, но не кончили. Получила письмо от Сергея Ивановича. Я всё его ждала, так как послала ему фотографии, а он, учтивый человек, должен был меня поблагодарить. С Таней опять говорили о Сухотине, и опять было мучительно больно видеть, как она далеко с ним зашла. Лев Николаевич здоров, но не весел. Играл в теннис, теперь играет в шахматы с англичанином.
Досадно, что не едет домой Миша. Андрюша опять уезжает сегодня ночью в полк. От Левы ласковое письмо. Скучает по России и робеет за жену, что ей тут не весело без ее родных[106]106
В 1896 году Лев Львович, женившись на дочери своего врача Эрнста Вестерлунда Доре, жил в Швеции.
[Закрыть]. Всего не помиришь в жизни!
29 июля. Еще один скучный день! Что я делала? С утра неохотно учила Сашу, потом ходила купаться, это берет много времени, но поддерживает свежесть тела, и это очень приятно. После обеда писала письма Леве и Сергею Ивановичу. Два раза переписала письмо к нему, и всё выходило нескладно. Таня сегодня на меня рассердилась за то, что я о ее истории с Сухотиным написала Леве. А у меня сердце наболело – я и сообщила сыну. Сама же она со всеми гувернантками и няней говорит об этом.
Еще днем я шила шапку Льву Николаевичу из черного трико. Ходили гулять на Козловку: я отправила письма и послала Мише телеграмму, вызывая его. Вечером переписывала для Льва Николаевича. На фортепьяно не играла, и потому мне скучно.
Были весь день англичанин Моод, потом редактор «Северного Вестника» Флетчер (им нужно сотрудничество Льва Николаевича, и потому мне противно). Ходили все гулять, но Лев Николаевич с ними шел далеко от нас, женщин, и разговоров их я не слыхала. Да и ничего нового или интересного не услышишь. Надоело это умствование, ломка всего, отрицание и искание не истин – это было бы хорошо, – а того, чего еще не было сказано человечеству, нового чего-то, удивительного, необыкновенного – и это скучно. Хорошо, когда люди с болью сердца ищут истины для себя, это всегда почтенно и красиво, а для удивления других – это не надо. Всякий сам для себя ее ищи.
Опять ясные дни, страшно сухо и прелестные лунные ночи. Куда-нибудь бы употребить эту красоту природы! А то буднично идут дни…
30 июля. Какая красавица луна сейчас светит в мое окно! Как это бывало хорошо в молодости, когда, глядя на луну, в душе переговариваешься с любимым, но отсутствующим человеком, зная, что и он смотрит на ту же луну, и она притягивает своей красотой и его и мои взоры, точно через нее идет таинственная беседа.
Играла сегодня часа четыре, и музыка меня тотчас же поднимает от земли, и то, что казалось досадно и важно, сделалось менее досадно и легче переносить. А сегодня были две досады: телеграмма от Данилевской, что Миша здоров, весел, а приедет только в субботу. Эта распущенность, отсутствие деликатности и добросовестности у Миши меня привели в отчаяние. Живет учитель, выхлопотала я у директора лицея экзамены осенью, и теперь Миша гуляет в Полтаве, а я переношу стыд перед учителем за сына и буду переносить стыд и перед директором. Нет, не могу больше нести всю эту тяжесть воспитания слабых, плохих сыновей! Они меня измучили. Я нынче просто плакала, когда получила телеграмму. Даже равнодушный ко всему, что касается детей, Лев Николаевич и тот вознегодовал. Послала третью телеграмму Мише, но уже почти две недели пропали!
Другой досадой была Саша. Она стала очень плохо со мной учиться, и я дала ей переучить урок, она опять не выучила, и я ее не пустила с Таней верхом. Не люблю наказывать, но с Сашей все гувернантки потеряли терпение.
День прошел обычно: купалась, переписывала, играла. Лев Николаевич ездил верхом узнать в Мясоедове о погорелых. Приехал скульптор Гинцбург. Жара сегодня африканская и страшно сухо. Сова кричит пронзительно и гадко. А ночь чудесная, и тихо как!
31 июля. Всё то же: переписывала Льву Николаевичу очень много. Местами интересно, а местами я совсем не согласна и бессильно сержусь, так как не решаюсь вступать в разговор с ним. Он так сердится, когда кто с ним не согласен, что всякий разговор немедленно должен прекратиться. В его книге «Об искусстве» хороша та мысль, что искусство прежде служило церкви, религии, потому что она была искренна; а когда утратилась вера, тогда искусство не знало, чему служить, и заблудилось.
Но мне кажется, что это не новая мысль. Помню, что даже я, когда мне показывали храм Спасителя, сказала, что он мне не нравится, поскольку видно, что весь он создан без религиозного чувства, и потому храм этот языческий; а Успенский собор, напротив, весь дышит старинной, наивной, но настоящей верой, и потому гораздо лучше, и это храм Божий.
Ходили купаться, час я играла упражнения; вечером Лев Николаевич ездил верхом в Тулу за почтой, Таня тоже верхом в Ясенки. Приехал Гольденвейзер, играл мне все романсы, прелюды и всё, что у меня есть переписанного из сочинений Сергея Ивановича. Отлично разбирает Гольденвейзер. Днем сегодня с меня лепил Гинцбург статуэтку. Пока очень дурно, безвкусно и непохоже. Что дальше будет? Миша не приехал, и очень досадно.
Вечером шила себе рубашку и перешила шапочку Льву Николаевичу. Потом еще и еще переписывала. Скучно и нездоровится! Вечером Лев Николаевич играл в шахматы с Гольденвейзером. Он здоров и весел, слава Богу! Письмо от Левы, возвращается 12-го.
1 августа. Переписываю сегодня сочинение Льва Николаевича «Об искусстве», и везде с негодованием говорится о слишком большом участии любви (эротической мании) во всех произведениях искусства. А Саша мне утром говорит: «А папа какой сегодня веселый, и все оттого веселые!» А если б она знала, что всегда веселый всё от той же любви, которую он отрицает.
Всё ясные и очень сухие дни. Везде пыль и бедствие. Ходили купаться; стояла – позировала Гинцбургу. Гуляли вечером при лунном свете. Гольденвейзер прекрасно играл сонату Шопена с похоронным маршем. Какая чудесная, прочувствованная музыкальная эпопея! Тут целый рассказ о смерти. И однообразный похоронный звон, и дикие звуки агонии, и нежные, поэтические воспоминания об умершем, и дикие крики отчаяния – так и следишь за рассказом. Надеюсь, что это — настоящее искусство и с точки зрения Льва Николаевича. Еще Гольденвейзер играл прелюды Шопена, сонату Бетховена (ораторию № 90), вариации Чайковского. Какое мне было удовольствие!
Приехали Оболенские. Таня уже начала кривляться с новым учителем. Как сильна привычка кокетства. Лев Николаевич сегодня часа три играл с азартом в lawn-tennis, потом верхом ездил на Козловку; хотел ехать на велосипеде, но тот сломался. Да, сегодня он и писал много, и вообще молод, весел и здоров. Какая мощная натура! Вчера он мне с грустью говорил, что я постарела эти дни. Меня, пожалуй, не хватит для него, несмотря на 16 лет разницы, и на мою здоровую, моложавую наружность (как говорят все).
Не играла, не читала, совсем не хватает ни на что времени с огромным трудом переписывания. Вечером опять тоска напала, и я убежала гулять. Какое бессилие иногда перед страстностью каких-нибудь желаний; какое мучительное бессилие! Так должен себя чувствовать человек, если б его заперли, даже замуравили и выхода нет. Так я чувствовала себя после смерти Ванечки и теперь часто чувствую минутами. Как бывает больно, как в эти минуты приветствуешь смерть!
2 августа. Утром вернулся Миша из Малороссии от Данилевских. Хотела его бранить за промедление, но не хватило духу: приехал счастливый от полученных в путешествии разных впечатлений. Как это хорошо бывает в молодости: новизна впечатлений от природы, людей, особенно природы. Потом хорошо ему было перебить жизнь, он последнее время волновался от своих половых, смущавших его, соблазнов.
Сегодня купалась с Надей Ивановой, далеко плавала. Потом долго и много переписывала, и Лев Николаевич сегодня мне сказал: «Как ты мне хорошо переписываешь и приводишь в порядок мои бумаги». Спасибо и за это; от него благодарности не скоро дождешься, как ни трудись. Стояла опять для статуэтки Гинцбурга; совсем непохоже, безвкусно, уродливо, и мне жаль моего потерянного времени. Статуэтка Льва Николаевича тоже непохожа и уродлива. Не даровитый он скульптор, этот Гинцбург.
Вечером ходила с Сашей вдвоем на Козловку навстречу лошади, возившей Машу с Колей. Бедная, бедная Маша с этим ушастым лентяем! И такая она болезненная, жалкая, худая. Вся забота на ней; а он гуляет, играет, кушает на чужой счет и ни о чем не думает.
У Льва Николаевича в гостях какой-то фабричный, и хотя Лев Николаевич всё повторяет, что это очень умный человек, но ему, очевидно, с ним скучно, и он не знает, что с ним делать и куда его девать.
Дочитала разговоры о музыке Рубинштейна и рассказывала дорогой Саше. Вечером Соболев, учитель Миши, рассказывал интересно об уральских приисках золота, платины и проч. Тепло, тихо, лунно, хотя небо заволокло немного. Лев Николаевич сегодня огорчен: велосипед сломался и он на нем не мог доехать до купальни, ездил верхом. Удивил он меня еще тем, что играл утром в теннис. Он, который своими утрами так дорожит, так увлекся этой игрой, что с утра пошел играть. Сколько в нем еще молодого! Я теперь только могу увлекаться музыкой или работой в саду: пилить, сажать, вычищать плохие растения, но больше ничем.
3 августа. Разбирала утром свои письма ко Льву Николаевичу и его ко мне. Надо переписать и отдать на хранение в Румянцевский музей, в Москве. Часть я уже отдала. Купалась одна. Потом опять позировала; после обеда играла; только разбирала разные пьесы Шумана, Бетховена, Чайковского. Одна внизу, тихо, хорошо.
Вечером приводила в порядок и переписывала статью об искусстве для Льва Николаевича. Я ему всецело теперь служу, и он спокоен, счастлив. Он опять поглощает всю мою жизнь. Счастлива ли я этим? Увы, нет, я делаю, что должно, в этом есть доля счастья, но я часто и глубоко тоскую от других желаний.
4 августа. Целый день народ. Только встала, приехал ко Льву Николаевичу француз, ездящий по Европе с геологическими целями; воспитанный, но мало образованный, помещик, живущий в Пиренеях в своем именье. Потом приехал Касаткин – художник; показывал нам большое количество фотографических снимков с различных картин и рисунков, которые он привез из-за границы. Это доставило мне большое эстетическое удовольствие.
Опять купалась одна, опять немного позировала. Лев Николаевич тоже немного постоял для своей статуэтки, которую лепит Гинцбург. Вечером ходили гулять; сухо, тихо, розовое небо заката, и теперь луна. Еще приезжали на полчаса два доктора из Одессы, едут на съезд врачей в Москву: одни Шмидт, другой Любомудров, военный. Оба неприятные. Перед сном Гольденвейзер играл сонату Бетховена и «Карнавал» Шумана. Лев Николаевич жалуется на слабость, зябнет, купался и пил очень много чаю. Напрасно он купается.
5 августа. Безостановочно летит жизнь, день за день. Сегодня пошла утром купаться, взяла Сашу и Верочку в тележке. Снимали фотографии стада и девочек с тележкой и лошадью. На это ушло много времени. После обеда два часа стояла для Гинцбурга, который лепил с большим азартом, но я всё выхожу совсем непохожа. После обеда Касаткин, Соболев и я снимали фотографию с Льва Николаевича верхом, но ни у кого не вышло: лошадь шевелилась у меня и недодержано.
Вечером все пошли гулять, Лев Николаевич уехал верхом в Мясоедово дать деньги погорелым. Мы шли по деревне и заходили по избам. Таня хотела непременно зайти к сыну кормилицы Льва Николаевича, к Петру Осипову, мужику, читающему книги и газеты и презирающему господ и ученых, потому что считает себя выше их всех – умом. Пренеприятный мужик.
Вернулись уж темно, проявляли фотографии, ужинали. Получила письмо от Андрюши и от Гуревич: просит меня о статье Льва Николаевича для журнала. При чем я! Он всё всегда делал по-своему и большей частью нарочно против меня. А я Гуревич не люблю и ничего для нее не сделаю. В настоящую минуту он читает эту статью Касаткину, Гинцбургу, Соболеву и Гольденвейзеру. В чтении тяжел очень его язык.
Сухо, ясно, тепло. Нездорова Маша, а Таня всё лелеет свою выдуманную мечту о посвящении своей жизни семье Сухотина, но, слава богу, она спокойна и веселее. С Сашей сегодня был урок очень хороший. Поправляла ей сочинение «Описание сада нашего», опять географию спрашивала и долго толковала ей о различных образах правления.
6 августа. Страшно устала, переписав для Льва Николаевича длинную главу «Об искусстве». Гинцбург долго меня лепил, и тоже устала. Всё притупляющие душу занятия; усталость и труд при чужом, хотя и интересном труде. Но насколько радостнее и легче всякий свой, личный труд!
Ездила купаться с детьми: Сашей, Ленькой и Машкой. С детьми всё так несомненно важно на свете, так радостно и равноправно. Вечером Гинцбург представлял портного (комическая мимика), потом речь англичанина и чтение немца. Все смеялись, некоторые себя на это нарочно подвинчивали, а я не умею смеяться и не понимаю комизма. Это мой недостаток. Гольденвейзер прекрасно играл концерт Грига: сильная, очень своеобразная вещь, мне очень понравилось. Потом играл два ноктюрна Шопена, что-то Шуберта и вальс Рубинштейна. Касаткин пишет маленький этюд с Тани. Соболев нас сегодня опять снял, а я сделала несколько копий с его хороших негативов. Хотела тоже сегодня снимать, да времени совсем нет с переписыванием и позированием.
Маша и Коля тут. Маша очень жалка, бледна и худа, и так и хочется ей, бедной, помочь. О Тане не хочется писать. С ней всё страшно. Миша очень взволнован сплетнями в Ясной: кто кого хочет сжить, своего поставить и т. д. Его это огорчает, а это так обычно! Лишь бы не вникать.
Лев Николаевич ездил верхом с Колей в Ясенки. Его тоже лепили, но очень непохоже. Вечером он прочел своим гостям три первые главы статьи «Об искусстве». Позднее играл в шахматы с Гольденвейзером и сыном Сережей. Он здоров и бодр.
8 августа. Заболела Маша, Руднев думает, что это тиф. С какой сильной болью сердца я приняла это известие; меня душит спазма в горле и слезы, знакомые, ужасные слезы от беспокойства и страха, всегда где-то готовые. Маша всё видела во сне Ванечку, и, может быть, он и отзовет ее к себе, чтоб избавить от тяжелой, бедной и сложной замужней жизни с этим флегмой Колей. Хорошую, полезную и самоотверженную жизнь жила Маша до замужества, а что впереди – еще бог знает. Но лично ее страшно жаль, она такая жалкая с тех пор, как ушла из семьи. И невольно вспомнилась смерть Саши Философовой[107]107
Младшая сестра Сони, родилась в 1897 году и прожила совсем недолго.
[Закрыть], тоже от тифа, и еще страшней стало.
В доме точно чад какой-то от гостей. Приехали Маклаковы: Маша и Николай, две сестры Стахович, две Наташи – Оболенская и Колокольцева. Потом Гинцбург, Гольденвейзер, Касаткин. За столом было двадцать человек. Все порознь очень приятны, и жаль, что сразу так много. Ни прогулок, ни единения, ни работы, ни переписывания, а так, толкотня какая-то. Опять меня лепили, опять копировала фотографии и купалась, но дела никакого не делаю, что-то уходит безвозвратно, что-то испортилось в жизни и приняло крутой оборот.
Вчера забыла дневник на столе, Лев Николаевич опять его читал и чему-то в нем огорчался. А чему бы ему огорчаться? Никого в мире не любила так, как его, и так долго!
Была телеграмма от Ломброзо, ученого-антрополога, приехавшего в Москву на съезд врачей; он хочет приехать повидать Льва Николаевича.
Льва Николаевича тоже лепит Гинцбург, во время сеанса читают его статью «Об искусстве». Очень хорошо в статье то, что он нападает на новейшее направление декадентов. Надо остановить это бессмысленное и низкое направление искусства. И кому же, как не ему.
11 августа. Три дня не писала. Третьего дня утром привезли из Овсянникова больную Машу. У нее брюшной тиф, и уже несколько дней около 40° жару. Сначала мы все очень испугались, но теперь приспособились к мысли о ее болезни. Руднев-доктор был и сказал, что тиф легкий, но очень ее жаль, она томится, мечется, ночи не спит. Вчера я у ней сидела до трех часов ночи и переписывала статью Льва Николаевича. Написала очень много, а потом у Маши сделались боли в животе. Лев Николаевич встал и хотел сам ставить самовар для припарок; но нашел плиту еще довольно теплой, чтоб греть салфетки в духовом шкапу. Мне всегда смешно, когда он возьмется за какое практическое дело, как он его делает примитивно, наивно и неловко. Вчера испачкал все салфетки сажей, спалил себе бороду свечой, и когда я начала руками ее тушить – на меня же рассердился. В 3 часа ночи меня сменила при Маше Таня.
Утром приехал Ломброзо[108]108
Речь идет о знаменитом враче-психиатре, основоположнике антропологического направления в криминалистике, Чезаре Ломброзо.
[Закрыть]. Маленький, очень слабый в ногах старичок, слишком дряхлый на вид по годам, ему всего 62 года. Говорит на очень дурном французском языке, неправильно и с сильным акцентом, и еще хуже по-немецки. Он итальянец, ученый, антрополог и много работал по вопросу преступности.
Я вызывала его на разговоры, но он мало дал мне интересного. Говорил, что преступность везде прогрессирует, исключая Англию, и что он не верит статистическим сведениям России, так как у нас нет свободы печати. Еще говорил, что изучал женщину всю жизнь и так и не мог понять ее. Про женщин, как он выразился la femme latine, сказал, что француженки и итальянки ни на какую работу не способны, что вся цель их жизни – наряды и желание нравиться. А что la femme slave, и русские в том числе, способны на всякий труд и гораздо нравственнее. Про воспитание Ломброзо говорил, что оно почти бессильно перед врожденностью свойств, и я с ним согласна.
Гинцбург уехал сегодня. Он кончил и мою, и Льва Николаевича статуэтки. Вчера лепили Льва Николаевича, пришли три барышни, пристали к Васе Маклакову, чтоб он доставил им возможность видеть Льва Николаевича.
Их и повели к нему. Он спросил их, не имеют ли они что его спросить, они сказали, что только хотят его видеть. И вот посмотрели и ушли. Потом пришел какой-то молодой человек с тою же целью, но ему сказали, что Льва Николаевича дома нет. Затем, сидим, пьем чай, вдруг кто-то с велосипедом, весь облитый кровью идет и спрашивает Льва Николаевича. Оказалось, учитель тульской гимназии упал с велосипеда и расшибся. Его свели в павильон, промыли рапы, перевязали, и он с нами ужинал.
Уехали Наташи вчера, и теперь завтра почти никого не останется. Я очень желаю уединения. Вчера же Миша уехал в Москву за своим учителем, которого назначили присяжным в Москве. Все дни жарко, сухо ужасно и пыльно. Мне нездоровится, ломота во всем теле, болят печень и почки. Лев Николаевич здоров, играл сегодня долго в lawn-tennis.
Неужели я никогда больше не буду ни весела, ни счастлива? Мне всё неудача. Для удовлетворения мне хотелось немного: иметь возможность играть часа два на фортепьяно и пять дней свободных съездить в Киев повидать сестру Таню. Болезнь Маши помешала всему. И что она тут, в доме родительском, это еще естественно, я сама ее хотела перевезти к нам больную. Но что тут Коля приживает – это меня сердит, и мне всё хочется от него отмахнуться как от назойливой мухи. Не люблю эти флегматические, беззастенчивые в своей лени натуры приживалов.
13 августа. У Маши всё жар, с утра и до вечера более 40°. Так ее жаль, бедную, и какое бессилие перед строгим течением и упорством этой ужасной болезни. Я никогда прежде не видала такого тифа. Опять был доктор, Лев Николаевич вчера съездил за ним верхом; и доктор опасности не видит, а у меня всё время тяжелый камень на сердце.
Очень много переписываю эти дни для Льва Николаевича его статью. Вчера заговорила о ней с ним, спрашивала его, как же он хочет, чтоб искусство существовало без специальных школ (он их отрицает). Но с ним разговаривать никогда нельзя; он страшно раздражается, кричит, и делается так неприятно, что то, чем интересовался, отодвигается на задний план, и только и желаешь, чтоб он скорей замолчал. Так было и вчера.
Когда были гости, он им читал эту статью, и никто ни слова не сказал; ну и правы все, будто со всем согласны. А есть превосходные мысли местами. Например, что искусство должно одухотворять, а не забавлять людей. Это несомненная истина. Что во всех школах должно преподаваться и рисование, и музыка, и всякое искусство, чтоб всякий талантливый человек имел возможность найти свой путь. Опять прекрасная мысль.
Страшная жара и засуха. Рожь посеяли в пыль. Трава, листья – всё засохло. Мы купаемся, и это очень облегчает. О Мише из Москвы нет известий.
14 августа. Приехали из Швеции Лева и Дора, веселые и счастливые, слава богу. И у нас веселей будет. Был доктор, нашел Машу не опасной и очень утешал. Советовалась с ним о своем здоровье. Нашел мою нервную систему совершенно расстроенной, а организм – здоровым; прописал бром.
Лев Николаевич ездил верхом в Бабурино по вызову какой-то петербургской учительницы. День провела лениво, очень устала от ночи: сидела у Маши всю ночь до 4½ часов. Очень она горела и металась, жар был 40 и 7. Ходила купаться, наклеивала фотографии, немного читала «Философию искусства» Тэна и сидела с Машей. Всё засуха страшная.
16 августа. Всё тяжелее и тяжелее жизнь. Маше всё плохо. Сегодня я встала совершенно шальная: до пяти часов утра, всю ночь, простояла над ней в ужасе. Она страшно бредила, и так всё утро продолжалось. В 5 утра я ушла к себе и не могла заснуть.
И всё неприятности со всех сторон. Таня ездила на свидание с Сухотиным в Тулу, сидела с ним в гостинице и ехала с ним по железной дороге. Она ни на минуту (с моей точки зрения) не отказалась от мысли выйти за него замуж. Миша не поехал в Москву, где его ждет учитель, не занимается и, очевидно, экзамена не выдержит. Вместо этого с ребятами и гармонией и этим молчаливым, бессодержательным Митей Дьяковым таскался до второго часа ночи по деревне.
Приехал сегодня утром Андрюша и проживет тут 1½ месяца. Собирается к Илье и в Самару, и это хорошо. Самое тяжелое – это с Львом Николаевичем. С ним ни о чем нельзя говорить, ему ничем не угодишь. Вчера был Буланже, и мы с ним переговорили, что хорошо бы статью Льва Николаевича «Об искусстве» пересмотреть с точки зрения цензуры, выкинуть всё нецензурное (такого немного) и напечатать одновременно и в «Посреднике», и в полном собрании сочинений как XV том. Я не решилась говорить первая, я так боюсь этого тона раздражения почти постоянного, с которым Лев Николаевич говорит теперь со мною да и почти со всеми, кто ему осмелится возражать.
Буланже переговорил и сказал, что Лев Николаевич согласен. Но когда я заговорила, то Лев Николаевич начал сердиться и говорить, что Чертков просил не выпускать никакого сочинения Льва Николаевича до тех пор, пока оно не выйдет на английском языке. Опять Чертков, даже из Англии умеющий держать Льва Николаевича в своей власти.
Сегодня заговорили о Тане. Лев Николаевич говорил, что надо думать только о себе, чтоб не ошибиться относительно того, в какую сторону советовать и желать для Тани. Я же говорила, что нельзя лгать, надо говорить непременно, что думаешь, если даже ошибаешься, и нельзя не быть честной ради осторожности. Не знаю, кто из нас прав; может быть, и он, но дело не в правоте, а в невозможности разговаривать без раздражения.
Сегодня же, выйдя из своего кабинета, Лев Николаевич прямо налетел на Мишу и наговорил и ему, и Мите Дьякову много жестоких, хотя и справедливых слов. Но что он этим сделал? Если б он Мише твердо и спокойно сказал сегодня утром, чтоб он ехал в Москву и не ослабевал в своем решении готовиться к экзамену – насколько бы это было лучше. Выговор же его вызвал злобу в сыновьях; они начали рассуждать, что отец только бранится, что заботы, участия, совета они от него никогда не имеют, а только злобу. Стали говорить, что право выговора они признают только за матерью, потому что мать одна о них заботится. Да, я заботилась, а что же сделала, чего достигла; да ничего не сумела!
И Андрюша, совершенно неудавшийся покуда, и Миша не тверд, и что-то еще из него будет!.. Ох, как всё печально, печально…
Лева с Дорой устраиваются, разбирают вещи. Доре трудно, бедняжке, на чужой стороне и в нашей не очень-то радостной семье. Часто мне приходит мысль куда-нибудь бежать, я устала, устала страшно от жизни! Да уж, видно, надо нести тяжесть своего вечного труда и только труда — до конца. Надо бы опять переписывать для Льва Николаевича, но не могу еще, какое-то тяжелое к нему чувство за то, что он поработил всю мою жизнь и никогда ни обо мне, ни о детях особенно не заботился, а, главное, продолжает порабощать меня, а у меня уже нет сил работать и служить ему всячески. Ночь сидела у Маши, а кроме того, переписала целую 5-ю главу. Я всегда работаю вдвойне.
Был маленький дождь, но тяжелый и очень теплый воздух. Читаю понемногу Тэна. Я уже раньше начинала его читать, но Льву Николаевичу понадобились эти книги, и он их куда-то заложил, теперь я нашла и кончу. Хорошее определение у него искусства: «Цель искусства состоит в том, чтобы обнаружить основной характер, какое-нибудь выдающееся и заметное свойство, существенную точку зрения, главную особенность бытия объекта». Лев Николаевич Тэна не хвалит, а мне его советовал читать Сергей Иванович.
17 августа. С Львом Николаевичем совсем примирились (я, кстати, и не ссорилась, а огорчалась его отношением ко мне). Приехала сиделка к Маше, и Маше сегодня лучше, температура несколько раз падала до 38 и 6. Лева и Дора что-то не совсем здоровы и вялы. Жаль ее, бедную, ей очень тяжело в России и без своих родных.
Опять сухо, ветер, но воздух свежей с утра. С Таней шла с купанья, и говорили о Сухотине. Она говорит, что ничего еще не решила окончательно. Миша вчера вечером уехал в Москву, а Андрюша куда-то таинственно. Переписываю опять Льва Николаевича, сижу с Машей; но в исполнении своих прямых обязанностей не нахожу уж удовлетворения и тоскую. Тяжелое известие о том, что у Ильи опять был пожар: сгорел весь урожай нынешнего года, сарай, инструменты и т. д. Ох, жизнь – какая тяжесть вообще! Тут Дунаев и Митя Дьяков.
Я спрашивала себя сегодня, отчего я так тягощусь работой переписыванья для Льва Николаевича? Ведь это несомненно нужно. И я нашла ответ. Всякая работа требует интереса, насколько хорошо она сделана и как и когда будет окончена. Я шью что-нибудь – я вижу результат; меня интересует процесс работы, насколько скоро, хорошо или дурно я это делаю. Я учу – я вижу успехи; я играю сама – я двигаюсь, вдруг пойму новое, открою красоты. Я не говорю уже о сочинении чего-нибудь, о картине, хотя бы самой первобытной, а просто о явлениях в области труда ежедневной жизни. В переписывании же в десятый раз одной и той же статьи ничего нет. Сделать хорошо тут ничего нельзя. Окончания не предвидишь никогда; всё перестанавливается, и вновь перетасовывается. Интереса, как в прежнее время, к ходу какой-нибудь художественной работы тоже нет. Я помню, как ждала в «Войне и мире» переписки после дневной работы Льва Николаевича. Как лихорадочно спешила я писать дальше и дальше, находя всё новые и новые красоты. А теперь скучно. Надо начать мне работать над чем-нибудь самостоятельно, а то совсем зачахну душой.
18 августа. Вчера вечером прекрасно гуляли с Львом Николаевичем и Дунаевым. Шли через Засеку, потом по полотну железной дороги к Козловке. В лесу на меня нашла такая поэтическая тишина, какой давно в себе не помню. Потом я устала слишком, мы верст 12 прошли, и стало трудно и скучно.
Маше лучше. Была Марья Александровна Шмидт. Шел маленький дождь, но ходили купаться. Приехала вчера фельдшерица (третьего дня вечером) следить за состоянием пульса и здоровья Маши. Был доктор Руднев. Ходила к Леве в тот дом. Скучно хозяйничала с тюфяками, вареньями, лампами – в доме порядок наводила. Потом переписывала для Льва Николаевича, и переписывала очень много. Нижний передний зуб совсем расшатался, и я оттого не в духе. Ох, как не хочется стариться, а приходится мириться с этим. День провела бессодержательно, пойду читать Тэна.
21 августа. Все эти дни очень страшно за Машу. То был жар больше 40°, а сегодня утром вдруг 35 и 6. Поили ее вином, шампанским. Днем ничего не могла пить, ото всего ее рвало. Посылали за доктором, к вечеру, после озноба, опять был жар 40°. Всё это ужасно! И жалко ее, бедную, истомилась она совсем.
Приехала Лиза Оболенская, помогает ухаживать за Машей. Взяли фельдшерицу следить за общим состоянием и помогать ночью. Был скучный князь Накашидзе, брат той княжны Накашидзе, которая в Тифлисе передавала деньги духоборам и потом уехала в Англию, к Чертковым. Приезжает сегодня Митя Олсуфьев.
Второй день занимаюсь фотографией. Снимала цветы, сбор яблок, яблони, шалаш и т. д. Ходила с Рудневым гулять, закат солнца чистый, красивый, небо с розовыми облачками, окаймленными огненным ободком, и засуха ужасающая! Лев Николаевич ездил верхом по красивым местам Засеки. Статью свою начал переправлять сначала. Он очень заботлив и нежен со мною, а я точно застыла, ничего не чувствую от беспокойства о Маше и от бессонных ночей, и нервна ужасно.
Учила утром Сашу, но недостаточно. Она вышивает мне салфеточку и завтра подарит. Завтра, 22 августа, мое рождение, мне будет 53 года.
23 августа. Маше лучше, все повеселели, но новый камень на сердце. Завтра приезжает Сухотин, и Таня взволнована. Лева с Дорой, Коля и Андрюша ездили в Тулу; там выставка кустарная. Вчера ходили на длинную прогулку в Засеку, на провалы, и вернулись в катках. Лев Николаевич трогательно, верхом, искал места красивые, чтобы пойти со мной гулять в день моего рождения и доставить мне удовольствие. И действительно, прогулка вчерашняя и места – прелестные; но я так мучительно устала, что не могла этого скрыть, и выразила это, чем огорчила Льва Николаевича, и очень жалею. Впрочем, мы отдыхали долго у избы работающих в лесу мужиков, у них горел яркий костер, темные вековые дубы были так величественно красивы, что я забыла свою усталость и уже весело и бодро возвращалась назад. Толкусь с неудачными фотографиями, не переписываю эти дни и чувствую себя в этом очень виноватой. Приехал Буланже, уезжает Лиза Оболенская.









































