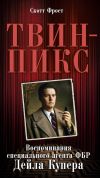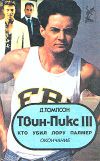Текст книги "Ячейка 402"

Автор книги: Татьяна Дагович
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Шарван ответил быстро, он только и ждал этого вопроса:
– У меня была другая женщина.
– Я так и думала. Может, хочешь чаю или кофе?
– Нет.
– Есть коньяк…
– Нет, не надо.
– Одна из этих? Из… – Запнулась – то ли не удалось ей выговорить, то ли подобрать слово, что расстроило её ещё сильнее. – Если хочешь знать, я тебя прекрасно понимаю! И всё это оттого, что мы не спали вместе. О господи… Я не понимаю, не понимаю, почему! Это ненормально, ведь так? Но почему ты ни разу даже не попытался… Я… Я не знала, как намекнуть тебе, как сказать… Я же тоже не ребёнок, я понимала, что это ненормально. Ненормально.
– Наверно.
– Ненормально. Я сначала удивлялась. Но ты был таким чудным, забавным. Необычным. Я подумала, ты хочешь, чтобы всё было как в старинных песнях. Первая брачная ночь, романтика… Я только и ждала, и думала, что потом всё наладится. Какой же я была наивной! Как вспомню – ну как можно так верить? А? Ты только объясни мне, зачем ты морочил мне голову? Почему мы не могли жить… жить половой жизнью, как все? Я понимаю, что я сама виновата, я должна была это организовать… Я должна была понимать, что у тебя всё равно есть потребность. И значит, ты её в другом месте удовлетворяешь, раз не со мной. Но почему ты всё делал так ненормально?
– Ты не виновата. Ты так прекрасна, что я боялся к тебе прикоснуться.
– Я самая обычная! – Люба завизжала и случайно смахнула вазу на пол, приготовленную для забытых в раковине цветов. Зазвенело сразу после её крика.
Шарван словно проснулся от звона. Выпрямился, часто заморгал и, воспользовавшись тем, что Люба отвернулась к осколкам, нацепил очки. Люба заплакала, неразборчиво жалуясь самой себе. «Красивая кухня, – подумал Шарван, глядя на лиловые блестящие поверхности. – Но не убрали». На посудомоечной машине громоздились грязные кастрюли. Повсюду валялись фрукты. Возле цветов в раковине плыли тарелки с жиром.
– Что ты теперь собираешься делать? Вернуться к ней?
– Нет.
– Что же мы будем делать?
Люба тоже смотрела на грязные тарелки, сплетая и расплетая пальцы.
– Любочка, кажется, что-то разбилось? – закричала сквозь звук телевизора её мама из комнаты. Было слышно, как снаружи с разгону бьёт в дом влажный ветер, к ветру прибавлялся гул садящегося самолёта.
– Знаешь, что я думаю? Ты пришёл, потому что хочешь, чтобы я тебя простила. Иначе бы ты не приходил. У тебя даже не хватило мужества скрыть всё от меня. Только зря. Ты мог молчать. Что я вас, мужиков, не знаю! Но ты хочешь быть честным, потому что трус.
– Ты знаешь, ты очень красивая.
– Знаю! Да, знаю! И зачем ты пришёл? За этим? Ты хочешь, чтобы мы были вместе?
– Хочу. Но моя работа…
– Что? Что твоя работа? Всегда работа! Всегда!!
– Может, она скоро кончится.
Люба замолчала, не понимая, что он имеет в виду. Он смотрел на её светлое лицо и думал: «Если бы она была моей сестрой… Или мамой. Её волосы пахнут так же, как раньше. Мы бы ехали рядом по лесной дороге и не смотрели бы друг на друга, но не прекращали бы тихо разговаривать. Ехали бы туда, где квадраты. Куда мне больше не попасть. И она сказала бы мне, что делать дальше. Почему бы и нет? И нет… нет…»
Он почти грубо оттолкнул её, приблизившую губы к его губам. И сжался от стыда – сложно представить себе что-то более мерзкое, чем оттолкнуть женщину. Люба упала лицом на скатерть и простонала:
– Ты псих? Нетрудно догадаться. Зачем я возилась с тобой всё это время… Ты смешной, ты как курица от меня отмахиваешься. Как я могла вообще быть с тобой всё это время! Или у меня изо рта воняет? Или ты голубой? Я всегда замечала, что в тебе есть что-то от гомика. А мне даже нравилось. Экзотика. Вот те и экзотика! Или ты импотент? А, кстати, всё сходится.
Голос бубнил в стол и смешивался с оглушительным тиканьем часов, а потом стало слышно движение всего часового механизма, каждой шестерёнки, каждой пружинки, натянутой, будто смерть.
14
Проснулась Анна поздно, выспавшаяся и добрая. Звонка не давали, и она проспала почти до десяти. Спальня выглядела пустой, но откуда-то слышался храп. День основания Колонии отмечали каждый год двадцать пятого декабря. Всеобщий выходной. С утра разрешалось надевать личную одежду. Она и надела… Брюки, блузка напоминали костюм бомжа и очень подходили к торчащим волосам – волосы никак не дорастали до «боба», который носили все женщины Колонии. Зато туфли, те, что вручил вчера обувщик, на шпильке и со стразами – в них и в ресторан можно. Обувщик был просто счастлив этим туфлям, а мокасины «на каждый день» сунул недовольно, будто его обидели. Порадовалась, что к умывальникам нет очереди.
С трудом узнавала знакомых в их личной одежде. Костюмах, тренировочных шортах, джинсах, свитерах, сарафанчиках. Стесняться причин не было – на многих вещи выглядели отстиранными половыми тряпками. Главное, все им радовались. Завтрак давно прошёл, Анна пошла на рабочее место, потому что не знала, куда идти.
Подёргала дверь гладильной – заперто. Постучала. Стук отозвался особенно гулкой пустотой – оттого, что снаружи шёл снег. С начала декабря шёл снег, но всё время мокрый, слизкий – лежать не лежал, впитывался в землю. Пробегающие мимо колонисты принуждённо засмеялись, обсыпали её конфетти и серпантином из бесцветной обёрточной бумаги. С нижних этажей доносилась музыка.
В обычное обеденное время началась торжественная трапеза. Порций не выдавали – на столах стояли разнообразные деликатесы, салаты, включая «оливье», «шубу», «мимозу» и «крабовые палочки», а перед колонистами – тарелки. Как на большом семейном обеде или на свадьбе. «Мы же как семья», – доносилось то справа, то слева. Еда в основном была холодной, приготовленной вчера или извлечённой из консервных банок. Правда, в термосах имелся горячий чай и кофе. И повсюду розовела в вазочках икра, Анна ещё не видела красной икры в таком количестве. Как иллюстрация к вечным словам «мы живём хорошо». Сначала набросилась на икру, но солёный вкус быстро опротивел. Вино наливали кислое, глотать его Анне приходилось с усилием, как лекарство, и тут же закусывать. Остальные пили вино легко, будто воду, не считая стаканы. Громкоговорители с интервалом минут в пять сообщали о концерте художественной самодеятельности, на который приглашались все, непосредственно после обеда. Каждое объявление завершалось треском.
Анна не успела встать из-за стола, как Саша, толстенький болтун, едва знакомый по встречам внизу, схватил её за руку и потащил за собой, бормоча, что она лучше всех подойдёт на роль Красной Шапочки, что это необходимо и очень смешно. Она не возражала. Оказалась в тесной прокуренной каморке со стенами, оклеенными древними афишами, держа в руках накрахмаленное платье и красный берет с приставшей белой ниткой. Саша ушёл. Постояв в растерянности, увидела в углу каморки косой стул. Положила на него костюм и осторожно приоткрыла дверь. Сначала померещилась ухмыляющаяся мордашка карлика сбоку, но Анна так торопливо захлопнула за собой дверь и пошла прочь, что забыла о малыше. Толпа затянула её – локтями под локти, и понесла. Сверху сыпался бесцветный серпантин. Слышались возбуждённые анекдоты. Она не задумывалась, куда идёт, пока не очутилась вдруг в пустоте, посреди коридора, обнажившего бело-зелёный пол. Где-то, у очередного угла, затихали поспешные шаги. Посомневавшись несколько секунд, сориентировалась и пошла к спальне. Третья спальня была заперта, как и гладильная. Оставалось идти на концерт, к остальным.
Анна почти дошла, но её отвлекло единственное окно в глухом коридоре. Подошла к нему. Посмотрела на снег, который таял до приземления, раскачивая деревья. Остро заболел желудок, и стало жаль бредущую мокрую собаку и нахохлившихся, качающихся с ветками ворон. Из щелей дуло, но животу и ногам было тепло, потому что она прижималась к батарее центрального отопления. Из актового зала доносились искажённые микрофонами голоса, время от времени их заглушал вал хорового истерического смеха.
«Я хочу домой», – сказала тихо; на стекле пульсировал белый кружок испарины от дыхания. Смеркалось, и затянутое небо принимало лиловый цвет. Что она подразумевала под домом – неважно. Возможно, ячейку 402, оказавшуюся недоступной. Зажёгся фонарь, прямо под окном мокрый конус света. Другой огонёк медленно полз у горизонта – машина. Она и пошла бы в зал… Лёгкий хмель тянул голову вниз. Вздрогнула, когда, начиная с конца коридора, одна за другой вспыхнули лампы дневного света. Окно стало чёрным зеркалом, в котором, раздвоившись, отражалось её лицо с четырьмя запавшими глазами, с двойным носом и ртом. («Как будто стоим с Лилей друг за другом, и через нас виднеется улица».) Поменяла позу – опёрлась локтями на подоконник – двусмысленно, если бы кто-то оказался сзади. Отражение повторило и, как и Анна, закусило уголок раздвоенной губы. Зудит. Скоро вскочит язвочка герпеса. Голос Серёжи из зала или показалось? Всё может быть, он должен выступать сегодня. Он – принимает активное участие. В жизни коллектива.
Когда этот момент уже был? В школе: седьмой класс, вторая четверть. Те же голубоватые коридоры. Те же цифры на белых дверях. Та же душная одежда. Та же поза, которую нужно сменить, если кто-то появится в конце коридора. Те же голоса из актового зала. Тот же зуд простуды на губе. Сердце забилось быстрее – как на пороге открытия. В сознании стало так светло, понятно. Осмысленным стало двойное отражение – следствие двух стёкол одного окна. Один момент. Два раза. Один человек. Два раза. Можно поднять голову полжизни назад, и всё побежит снова.
Догадка схлынула как волна, как отступившее воспоминание. Она стояла в коридоре Колонии. Когда начали хлопать сиденья и звуки представления трансформировались в неоформленный гвалт, выпрямилась – и вовремя. Люди хлынули из актового зала единым веществом, в одном бессознательном движении. С ней заговорили, её повели вниз. «Кто из нас станет сегодня пищей нашему организму, чтобы жить вечно?» – слышалось издалека, и смеялось с визгом. Видимо, шутка из концерта. А вблизи спрашивали: «Ты пойдёшь на дискотеку, потанцевать?» «Конечно, хочу!» «Будем пить бренди с колой, веселиться?» «Конечно!» «Ты боишься умирать?» «Разумеется!» «Какое счастье быть одинаковыми!» (Ложь, все они хотят исчезнуть, слиться в неорганическом мире, но стесняются.) Анна бежит со всеми вниз, в большой зал, где колонки и музыка, ей хочется ритма, движения, хочется не быть отдельно, ей хорошо бежать со скоростью человеческого потока, потому что они одинаково устроены, состоят из одних и тех же органов, как ксерокопии, и никто не имеет права отделять её от других… «Тот, кого съедят, растворится во всех, станет всеми, сохранится один из всех…»
В зале цветные лампы бросают на лица свет, раскрашивают в разные цвета носы и щёки; тени втягивали ложноножки, реагируя на иглы света. Все кричат, заглушая музыку, и она кричит, стараясь, чтобы голос попадал в общий тон. Но даже выступающий пот не спасает, она не умеет хорошо танцевать, а умеет другая, рядом. В цветастом красивом платьице.
– Каро?! Это ты, я тебя не узнала!
– Анька, это я тебя не узнала, куда ты исчезла, я тебя везде искала!
– Я на концерт опоздала!
– Что? Ничего не слышно!
– Ты Серёжу не видела?
– А? А, Сергея! Он ещё, наверно, переодевается!
Громкоговоритель: «Эта песня посвящается маленькой девочке, которую я встретил…» Анна царапнула губу в больном месте. Брызнула музыка, на ноготь мелкими каплями брызнула кровь. Чёрт, будет долго заживать. Спирту бы – прижечь. В кармане этих брюк платка не было, он остался в форменных. Кровь тонкой линией потекла на подбородок. Вытерла рукой и стала пробиваться к выходу, плохо себе представляя, с какой он стороны. По направлению от источника звука – режущего звука (будто жестью в вестибулярный аппарат). Каролина что-то кричала вдогонку. Стена, дальше некуда. Музыка оборвалась… Толпа отреагировала пугающим рёвом. «Одно мгновение…» – испуганно буркнули из громкоговорителя. И снова ударили басы.
Передвигаясь вдоль стены, высматривала Сергея. Время от времени делала вид, будто танцует – чтобы не выделяться. Несколько раз чудился его сухой профиль, но исчезал, не успев стать чётким в мигающем свете. Высовывались из толпы руки, тянули её в пахнущий хлоркой тёплый водоворот людей, но Анна ускальзывала. Попадались у стен и стоящие неподвижно, словно общество танцующих их выплюнуло. Они имели вид задохнувшийся, их приходилось огибать. Видимо, они не поняли, почему от них требуется шевелить конечностями, вот их и удалили. Анна понимала. Смотрела на них с любопытством. Показалось, что одна из таких стоящих была Надеждой Фёдоровной, но в мигании ламп не разберёшь. Перекатываясь по стенам, по чьим-то пахнущим омертвелой кожей животам, накалываясь о ключицы, яростно сопротивлялась затягивающей в центр зала плоти, здоровому поту и (цветная вспышка):
– Серёжа! Се-рё-жа! – Она подпрыгнула на каблуках, махая рукой, но он не увидел. – Сёрежа! – Услышать всё равно не мог и увидеть не мог – из-за головы партнёрши по танцу, которая умела так же музыкально двигаться, как он сам.
Анна думала, что обошла уже весь зал по периметру, то есть наличие входа не всегда означает наличие выхода. Но когда на неё в очередной раз навалились люди – очередная танцевальная волна прокатилась по ним, стена под спиной подалась назад – это была дверь, и Анну выбросило в коридор. Втянула холодный воздух и размазала по подбородку не желающую засыхать кровь. Над головой висела перегоревшая лампочка. Пошла прямо, надеясь выйти к лестнице, но оказалась в глухом тупике, в котором ветвились и журчали трубы – тёплые, обвитые паутиной. Сверху переплетались провода, кабели. Покапывало в жестяное ведро. Она присела на толстую трубу. Сняла туфли, пошевелила затёкшими ступнями. Вытерла со лба пот. «Да-да-да! Ты придёшь, я буду одна! Да-да-да! Мы теперь навсегда! Облетели птицы, будет чем напиться… Да-да-да! Йес!» – подпевала приглушённой песне из зала.
Едва Анна успела заметить лилипута, как он впрыгнул ей на колени – так, как прыгают коты. «А ты что здесь делаешь, малыш?» – погладила его по волосам, странным на ощупь – как пластмассовые волосы куклы. Старалась разглядеть личико, но в полутьме это было невозможно. Он оказался тяжёлым. Усаживался удобнее, обхватывая её ножками, но съезжал к коленям. Стоило труда удержать это плотное чужое тело, слабо пахнущее ацетоном. Одной рукой карлик схватил её за ухо, другой полез ей в рот. «Эй, что ты делаешь?» В ответ лишь поблёскивали звериные зрачки. Холодная кожа карлика на ощупь не была похожа на кожу. «Ай, больно! Простуда!» Она оттолкнула его назад и облизала кровоточащую губу. Он разозлился, вцепился мягкими пальцами в лицо и опять полез в рот. Но Анна больше не чувствовала боли, на неё навалилась сонливость, будто за всё вечное недосыпание в Колонии. Темно и тепло, и веки закрыли глаза. Прямо за стеной валил снег. Через бесконечно длинный коридор доносились голоса и музыка, становясь то громче, то тише, и наконец исчезли вовсе.
* * *
Шеф назначил Шарвану встречу в пять, в галерее. Шёл мокрый снег, залепливал стекло «Фольксвагена», дворники мелькали перед глазами. Дорога вилась впереди сделанная, без провалов, несмотря на сельскую местность. Звонить не пришлось – ворота открылись, как только он приблизился к сплошной ограде. Оставил машину на привычном месте. Лаяли собаки, но не видно было ни собак, ни людей. Окна оставались темны. Шарван прошёл через заснеженный двор, однако не к входу в дом, а к отдельному входу в галерею, о котором вряд ли знал кто-то ещё. Нужно было пройти через подсобное помещение с сапками, граблями, лопатами. Леонид Иванович считал галерею убежищем тишины и в ней хранил самое ценное. Картины. Вероятно, дорогие. Шарван не старался запомнить иностранных имён, но иногда по телевизору слышал нечто подобное. Он не понимал той маниакальной любви, что привязывала Леонида Ивановича к картинам, – так любить возможно только людей или деньги.
Они давно не встречались лицом к лицу. А в галерее Шарван не был уже несколько лет. Прежде, во времена его юности и молодости, часто бродили они вдвоём из конца в конец, оставляя грязные следы на красном ковре, и говорили, говорили, говорили. Леонид Иванович рассказывал интересные вещи, об искусстве и о человеческих взаимоотношениях. Мог спросить, резко повернув лицо к Шарвану: «А вот ты, зачем ты живёшь? Почему ты не покончил с собой, когда умерла твоя мачеха? А?» Приходилось отвечать: «Не знаю» – и ждать правильного ответа. Ненавязчиво объяснял Леонид Иванович основы жизни, внушал чувство собственного достоинства – ему, забитому детдомовцу. А потом давал способ и смысл существованию. Георгий не любил навязанное ему имя – Леонид Иванович непринуждённо называл его Шарваном. Нуждался в женском тепле – Леонид Иванович нашёл для него Любу.
…Галерея показалась у́же, чем Шарван её помнил.
– Здравствуй-здравствуй, – с порога обрадовался Леонид Иванович. Показалось, что он пополнел с их последней встречи, но Шарван давно не верил внешнему виду шефа. После ритуального рукопожатия они ступили на ковёр. Одновременно осветились десятки картин на стенах.
– Ты, наверно, догадываешься, – говорил шеф, – раз я хочу увидеться с тобой здесь, и с глазу на глаз, существует веская причина.
Редко встречались они не совсем из-за занятости и уж вовсе не из скрытности. Леонид Иванович утверждал, что не хочет влиять на Шарвана теперь, когда он – взрослый человек и сформировавшаяся личность.
– Произошло что-то?
– Почему же обязательно – произошло? Разве нельзя по-новому оценить существующий порядок вещей? Хотя ты тоже прав – происходит всегда что-то, это основное условие нашего существования. А основное условие бесед – не рваться напролом к главной теме: подходить к ней медленно, кругами. Сначала перекурить… – Леонид Иванович протянул ему сигарету.
Шарван отрицательно покачал головой.
– Что, до сих пор не начал? Это ты верно… Пожалуй, и я на следующей неделе брошу. Пора, возраст. Спортом займусь… А на этой ещё побалуюсь.
Они задерживались на несколько секунд перед любимыми полотнами Леонида Ивановича, глаза которого наполнялись влажной высотой. Шеф ронял сигарету на ковёр, и Шарван быстро поднимал, хотя знал, что ковры не воспламеняются. Он смотрел на шефа, явно проваливающегося в радость, недоступную ему самому, и завидовал. Ну, картина, ну, тётка немолодая нарисована или, как с левой стороны зала, вообще мазки без смысла и порядка. Где здесь прячется счастье?
Когда они дошли до середины галереи, настроение Леонида Ивановича переменилось. Он сменил дружеский тон на нейтральный и смотрел прямо перед собой, на стены с картинами лишь равнодушно косился время от времени.
– Ты знаешь, что в последнее время становишься всё лучше и лучше? Мне очень нравится твоя аккуратность.
– Не сказал бы… В последнее время было много промахов. С русалками…
– Нет, там твоей вины не было. А сейчас всё урегулировано. Нет, не скромничай! Последние два года я внимательно следил за тобой и видел, как ты растёшь.
– Вы не давали знать.
– Не хотел тебе мешать. Ты остался таким же точным, как и был. Раньше мне не нравился недостаток фантазии в тебе, но в последнее время ты развил особую изобретательность… Которая, признаю, может компенсировать отсутствие фантазии. Я очень доволен тобой. Очень.
– Спасибо. Только…
– Очень. Единственное, в последней поездке ты намудрил, а? Ладно, ладно, мы тоже люди, должны иногда расслабляться, а как же… А я вижу, ты совсем не смутился. Молодец. Раньше ты смущался. В остальном же – все операции в этом году были проведены блестяще. Виртуозно, я бы сказал.
Впервые за время сотрудничества с Леонидом Ивановичем Шарван почувствовал острое раздражение по отношению к шефу. От этого тона «мой мальчик», от школьного захваливания. Он, насколько мог хорошо, выполнял работу, за которую ему платили. В последнее время всё больше ценил своё одиночество. Зачем этот отческий тон – теперь, когда поздно играть в отчима?
Но тут сам Леонид Иванович сменил тему – резко, будто он ожидал, что Шарван схватит что-то важное из предыдущей речи, и, обманувшись в ожиданиях, решил подойти с другой стороны. С некоторым недовольством он спросил:
– О тебе я знаю всё, как ты понимаешь. Тебе никогда не казалось несправедливым, что ты не знаешь ничего обо мне? Мы почти родственники. Да какое почти – мы же родственники по Лене. По твоей мачехе.
– Не казалось.
– Зря. Я не так скучен, как ты считаешь. Давай сядем – ноги разболелись. Это возраст, Шарван. Послушаешь пару-тройку историй старого родственника?
Они подошли к красному дивану, сели – первым Леонид Иванович, вторым Шарван. Оказались перед блеклой широкой картиной, изображающей трёх сутулых ангелов с расслабленными лицами. И сам Шарван сидел ссутулившись, отчего с непривычки ныли плечи. Он не поднимал их, не желая напрягать.
– Что-то ты не настроен слушать. Не переживай, это ненадолго. Утомлять полной версией мемуаров не буду. Знакомство родителей, зачатие, рождение, детсад, начальная школа… мне самому это скучно. Впрочем, о начальной школе можно было бы сказать пару слов, потому что уже тогда у меня обнаружился некстати высокий уровень интеллекта – исправить, как ни пытались, не смогли. Но неужели тебе, молодому человеку, неинтересно узнать, как я пришёл к нынешнему своему положению?
– Интересно, – взгляд Шарвана побежал от не нравившейся ему картины с ангелами вправо: там была поздняя осень, серые стволы, небо сквозь сетку веток. Потом к следующему пейзажу, неразборчивому отсюда. Если Леонид Иванович на самом деле ценит искусство, почему полотна развешены беспорядочно? Ах да, свобода… Свобода мышления, вкуса. Брать только то, что нужно, так, как нужно. Уже ведь объясняли.
– Ты знал, каким образом я попал в Нидерланды?
– Нет.
– По сути, мне просто повезло, хотя тогда я считал, что так и должно быть. Очень был самоуверенный! Сначала меня перетянули учиться в Москву, но там я больше организационными вопросами занимался, нежели учился, – партийный был. А после диплома, красного, кстати – тогда я даже гордился! – то ли послали, то ли отпустили повышать уровень. Лену, твою мачеху, мы уже были женаты, оставил дома, хотя была возможность перетянуть. Тоже по глупости – не хотел, чтобы мне мешали. Ей не объяснял, она считала, из-за поляка-папы не выпустили. Н-да, интеллект у меня был, а ума не было.
Шарван рассмотрел неразборчивый пейзаж – это горный обрыв, и кто-то маленький, чёрненький от удалённости, глядит с горы. Сначала считал, что это ворона, но, приглядевшись, понял – человек. Опустил взгляд на руки, лежащие на коленях ладонями вниз, удивился, что кожа так сильно обветрена.
– На месте меня с распростёртыми объятиями приняли, – продолжал Леонид Иванович, – дали какой-то тест, посмотрели результаты, поразились и решили, что я их захолустье прославлю. Официально в докторантуру записали, но ни они, ни я так и не поняли, работал я, учился или развлекался. При этом финансирование и аппаратура, о каких я мечтать не мог по тем временам, и никакого контроля, – несколько смешков приправили воспоминания. – Занимался чем хотел. На лекции ходил всех факультетов, кроме своего, экспериментировал до утра… Они привыкли, ворчали только на первых порах. Побаивались меня, моих связей.
Я на тот момент хотел заниматься синтетической биологией – только ты никому не говори! На самом деле хотел только тем заниматься, чем хотел. Хотел найти, чем отличается живое от неживого. Всего лишь. Тогда я был крайне скромен, как все в молодости. Хм… Хотя не все – ты ни к чему не стремился… На клеточном уровне работал, с различными моделями работал, в том числе и человеческого существа – довольно грубыми, немного тканей, полимеры. Хотел добиться самостоятельного функционирования, пусть самого примитивного. На слабые импульсы надеялся – разумеется, ничего не могло получиться. Никто не понимал, чего я хочу добиться без клетки… Сейчас я сам не понимаю. Я прыгал с одного на другое, постоянства не было, выдержки не было – не понимал, что растрачиваю время и талант. По-другому быть не могло – я мог многое, но хотел гораздо, гораздо больше, чем мог… Причём всё хотел делать сам. А то, чем они сегодня занимаются и называют искусственной жизнью… Согласись, это совсем не то.
Только к концу пятого года начал догадываться. К этому моменту и здоровье сдало, образ жизни сказывался. То головные боли, то, – Леонид Иванович указал прямо перед собой, – такие вот милосердные силы природы мерещились… забирающие усталых.
Самым естественным в такой ситуации было бы, пока возможно, обратиться к врачу, к хорошему специалисту. Пропил бы витамины, повалялся бы недельку с честной справкой. А потом сменить направление, взять тему поскромнее и принести быстрый результат – и своим, и чужим. Теперь я бы так поступил, но тогда я мыслил, мягко говоря, своеобразно, этакая смесь мании величия с комплексом неполноценности. И подсказать было некому. Вместо того чтобы заботиться о здоровом сне, я ночи напролёт сидел в лаборатории и думал – не о научном, не об абстрактном, – смешок, – о своём несчастье. О том, что не сегодня, так завтра меня с позором вышвырнут, и страшно представить, как встретят. Что не просто просрал пять лет, а разбомбил всю жизнь – себе и Леночке.
– Ага, – сказал Шарван. Не в силах дальше сворачивать шею или разглядывать руки, он вынужден был смотреть прямо на неприятную картину ангелов, и они смотрели на него внимательно. Через несколько секунд взаимный взгляд словно затвердел.
– Как хорошо всё помню! Надо же. Таких ночей я отдежурил немало, ты должен хорошенько себе представить – беспросветное отчаяние, одни и те же мрачные мысли, страх перед каждым наступающим моментом. В проходной вечно трясутся две пробирки – уже не помню, что за крема там взбивали. Кроме того, я, несмотря на запреты, непрерывно курил. Датчик я у себя ещё раньше отключил. Представь себе, даже разговаривал с собой – да-да, Шарван. В одну такую ночь у меня вырвалось слово… впрочем, неважно, это были обычные депрессивные жалобы, любой психолог за день три-четыре такие выслушивает, в 01.45, как сейчас помню, раздался громкий крик. Со стола, на котором пылилась модель… К которой месяца два не притрагивался.
Даже скорее не крик, а вопль, крайне неприятный. Я выскочил в коридор, но, так как кричали дальше, пришлось вернуться в лабораторию, подойти к столу. С такой волей кричат новорожденные – но модель отображала мальчика лет четырёх, глотка не младенческая. Когда я подошёл – какой там полимер! – в его глазах был живой ужас. Такого ужаса я не наблюдал больше ни в одном существе, и, конечно, в этом ужасе одна из причин моего собственного нервного срыва. Но это позже. Модель… ребёнок двигался всем телом, размахивал руками, ногами, очевидно неконтролируемо. Мне многого стоило довезти его домой. Спасибо ремням безопасности. Кричал он ещё долго, бился о стены, я, закрывшись на кухне, продолжал курить. Потом догадался дать ему молока с транквилизаторами – этого добра у меня к тому времени накопилось достаточно, транквилизаторов, имею в виду, с молоком было хуже. Помогло – он уснул, проснулся вялый. На следующий день мы улетели – я задействовал все связи, всё что мог и не мог. Ещё через два дня с Леной сюда, домой.
В какой-то мере я освоился с ситуацией, успокоился, хоть и было это спокойствие бреда. Поведение модели тоже было спокойное, пассивное. Ещё в Москве Лена всё взяла на себя. Ухаживала за ним, кормила, даже укачивала – прямо как нормального, хотя я ей как мог объяснил ситуацию. Меня он избегал, но к ней, по-видимому, привык, даже с горем пополам пытался выражать радость при её виде. Я уговорил Лену провести мальчика по врачам. Со страхом ждал, когда откроется правда. Не открылась. Обычный мальчик, умственно отсталый беженец из капиталистического мира с низковатым гемоглобином. В остальном – кровь, моча, кал – всё в норме. В конце концов я сам поверил, что нашёл его под мостом, и с чистой совестью определил в специальное заведение для детей с отклонениями. Понадеялся, что теперь начнётся нормальная жизнь – не такая блестящая, на какую я рассчитывал раньше, но приличная. Однако Лена, вернувшись с работы и не обнаружив своего мальчика на месте, попросила не попадаться ей на глаза. Никогда больше.
Моя нервная система, перегруженная в течение месяцев, не выдержала, и произошёл срыв. К сожалению, мне не поверили, и я тоже попал в специальное учреждение… немного другого толка. Да-да… Смутные, гадкие дни. Ты ничего из этого не помнишь?
Дрогнувшая интонация, снова что-то настоящее, зацепила Шарвана, но он не мог ни распрямиться, ни оторвать глаз от ангела и ответил ровно:
– Что же мне помнить? Я был в интернате, не знал вас… Я и не помню себя до пяти лет, как вы знаете.
– Но поправился я быстро, – перебил Леонид Иванович обычным голосом. – Вышел быстро. Новых сил набрался. Совсем другое, здоровое ощущение себя – и тела, и сознания, и способностей. Совсем другой способ существования. Мне многое, что я хотел понять в институте, стало ясно без пустых экспериментов. Чего я хочу, что я могу, на что рассчитываю, на что имею право. Во что имею право и умею вмешиваться, во что не хочу. И во что буду вмешиваться. С этого момента жизнь шла гладко, правильно. Разве что Лена меня не впустила больше. Очень жаль. Но последние годы мы с ней общались как хорошие друзья.
Она упрямая, искала восемь лет. Но что могла она без меня? Её не слушали, дверь перед носом захлопывали, на звонки не отвечали. Тем более мальчика перевели – он очень быстро освоил речь и выглядел нормальным. Как выяснилось, она была права, а не я. Ты согласен, Шарван? Зря я испугался тогда – но какой мужчина не пугается в таком случае? Жаль, что Лены нет. Как легко мне было бы решить эти её мелочи! Оставить её. Она сказала: «Не вмешивайся не в своё дело. У меня одна жизнь, хочу её прожить сама – с начала и до конца». Даже ты её не задержал. На самом деле она была права. Что не обратилась к моей помощи. Тебе было жалко, когда она умерла?
Пауза затянулась. Леонид Иванович раздражённо щёлкал языком – как человек, которого не понимают. Шарван видел, что шефа огорчает отсутствие реакции на рассказ, но не знал, какой именно реакции тот ожидает. Слёз, смеха?
– А ваш брат? – спросил наконец. – Чем он занимался всё это время?
– Брат-брат… Чем он занимался, чем я занимался – какая теперь разница… Разве мы о брате беседуем?
– Он не брат вам, – сказал Шарван, наконец догадавшийся смотреть налево, на портрет грустной женщины, напоминающей Анну. – Это вы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.