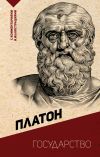Текст книги "Послевкусие страстей и превратности мнимой жизни"

Автор книги: Вадим Михайлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Она озабоченно рассматривала его распухшую багрово-красную ногу.
– А ты? Тебе тоже надо к врачу… К кардиологу… Оба сходим и проверимся…
– Сегодня… Сейчас…
– Нет, завтра… Послезавтра.
Он прощупывал её пульс.
Считал выпадения.
– В поликлиниках такие очереди. Заболеешь, пока стоишь.
– В платную сходим. Хочешь, скорую вызовем?
– Ещё что! Никогда не вызывали. А тут скорую. А от меня шампанским пахнет.
– Не самогоном ведь… Вот купим большую кровать и снова будем жить вместе…
– Нет, не завтра, не послезавтра, – сказала она. – Сейчас пойдём в поликлинику и покажем твою ногу.
– Сегодня пятница. Конец рабочего дня, – сказал Платон.
– Успеем. Вставай… Одевайся…
На Платона тоска напала, не любил ходить по врачам. Он хмурился и ворчал про себя, но она всё слышала.
– Пойдём… пойдём вместе.
Ульяна уже искала под кроватью свои босоножки.
– Нет, – решительно сказал он. – Я один пойду. Или не пойду вообще…
– Это ультиматум?
– Да.
Платон с трудом натянул ботинок на больную ногу.
Он шёл через проходные дворы, забитые легковушками.
Влажный западный ветер, так любимый петербуржцами, не соответствовал его настроению.
Чистое июньское небо над городом тоже отделяло его от других людей.
Он отверженный. Он наказанный. Униженный. Его разлюбило небо. И судьба его печальна… Цыганка нагадала ему скорую смерть.
Он понимал, что это неправда, предрассудок – верить цыганке, но ему, впервые со времен детства, хотелось жалеть себя. Ему хотелось думать, что все здоровы и счастливы, а он один почему-то должен страдать… и умереть.
Однако, когда он взобрался на высокое крыльцо поликлиники, с трудом открыл дверь и очутился в толпе больных, остро пахнущих нездоровьем людей, он понял, что страдает не один, и это открытие совсем не утешило его.
Ясно было, что ему не попасть сегодня на приём, и он хотел было уйти, но увидел знакомую регистраторшу, осетинку Фатиму Казбековну, с которой любил иногда перекинуться теми немногими осетинскими фразами, которые помнил со времени работы в Цейском ущелье.
– Вы зайдите в кабинет, – она назвала номер, – и скажите, что с острой болью. Вас примут без очереди.
– Но у меня ведь нет острой боли, махо, – сказал он, вспомнив, что махо по-осетински – сестра.
– У вас хуже острой боли…
Она сама повела его в нужный кабинет и достала заветный талончик, дававший ему право пройти без очереди.
Он предчувствовал, как люди, сидящие перед дверью хирургического кабинета, будут ворчать и ненавидеть его из-за этого талончика. Он и так часто раздражал страждущих людей миролюбивой улыбкой и участливыми глазами. Причём раздражал не всех. Простые и бедные люди принимали его нормально, как блаженного. Как своего.
Аристократы духа тоже понимали его и принимали как своего. Но у среднего класса он вызывал раздражение и презрение. Вроде бы не дурак, но почему-то бедный, судя по одежде. И притом высокомерный не по чину…
Но и тут ожидания его были обмануты. Взгляды людей были сочувственны или безразличны.
Хирург был молодой, чернявый, бородатый и, если бы не излишняя упитанность, напоминал Платону его же, но в далёкой молодости, как он представлял себя тогдашнего теперь.
Он нашел у Платона симптомы многих опасных заболеваний. Но главное – в левой ноге, той самой, которая распухла, оторвался тромб и теперь двигался к его сердцу.
– Немедленно ложитесь в больницу… Это очень опасно…
– Как это понимать – очень опасно? Ноги лишусь?
– Возможно… Если не умрёте до того, как лишитесь ноги… в эти два дня… Если не умрёте в эти два дня, будете жить… А пока срочно… – Он назвал кабинеты, в которых должен был побывать Платон, чтобы понять, как далеко продвинулся тромб.
Оказалось, что он, этот самый тромб, ещё в самом начале пути к его сердцу.
Платону выписали лекарства и настрого приказали лежать две недели. Ждать…
Платон вышел из поликлиники и увидел Ульяну.
– А ты что здесь делаешь?!
– Что тебе сказали?
– Где? – Он раздумывал, говорить ли ей правду. – Что ты здесь делаешь?
– Выгуливаю кошек. Что тебе сказал врач?
– А где они?
Он оглядывался, кошек не было.
– Кто?
– Кошки.
– Убежали…
– Ты никогда не научишься врать.
– Что тебе сказали в поликлинике?
– Всё нормально. Нужно немного полежать, и всё пройдёт. Выписали лекарства. Всё нормально. Почему ты здесь?
– Я гуляла.
– Не умеешь говорить неправду.
– Умею, когда хочу. А ты не умеешь, я сразу вижу, что ты врёшь… Так что с тобой?
– Тромб, сволочь, оторвался… – выругался Платон. – Извини.
Они молча шли домой. Ульяна с тревогой следила за его лицом, за походкой. Походка была чужая, не его. Это была походка старика.
На солнце творились какие-то непонятные простым смертным процессы, и неотложки носились по городу, звуками своих сирен возвещая о непрочности человеческого бытия.
Эти две недели были, может быть, самыми тяжёлыми в жизни Платона. Приближение конца… Неловкость… Беспомощность. Ощущение, что он доставляет неудобство.
Он боялся стать причиной дискомфорта в их деловой семье. Он страшился уловить в глазах жены или сына если не раздражение, то хотя бы чувство досады. Он не хотел разрушать сложившийся – счастливый уклад их жизни. Не хотел принять эстафету от недавно скончавшихся матери и тёщи.
Он мужик, опора семьи, будет отнимать у самых близких людей силы и время!
Платон ревниво искал мимолётные знаки раздражения на лице Ульяны и Ростика. Их заботливость временами казалась ему брезгливой и неискренней.
Ещё бы! Неизвестно, сколько ещё им страдать вместе с ним до его кончины. Неизвестно, какие чувства он будет вызывать в них через месяц, если не умрет теперь, через год, два, три…
Ульяна сразу залезла в Интернет. Прочла всё, что там было про тромбофлебит. Про отрывающиеся тромбы. Она вдруг поняла, какую ношу тянул Платон все эти годы. Походы за продуктами. Ожидание в присутственных местах. Платежи. Справки о доходах. О налогах… Она поняла, что теряет его…
Платон, всегда такой быстрый, бодрый и ироничный, безотказный, лежит плашмя с ноутбуком на груди и пытается что-то печатать…
Он был экспедитором, экономкой. Он ходил по магазинам. Таскал, как и полагается мужчине, тяжёлые сумки.
А теперь все заботы легли на неё. Она могла бы, конечно, попросить сына, но ждала, когда он сам предложит помощь. Она всё ещё считала себя молодой и сильной. Но всё чаще были приступы аритмии. Но слабость, последствие операции, всё чаще овладевала ею…
Ростик всё видел, но родители казались ему сильными и вечными. Он преклонялся перед их энергией. Он не хотел верить, что энергия, сила и жизнь в конце концов покидают человека. Он не хотел верить в их близкую смерть. Боялся своим испугом навлечь беду.
Ростислав знал, что конец его родителей близок, что смерть уже смотрит на их дверь, но надеялся, что не так быстро решится она войти к ним, в их дом.
Чтобы сохранить себя и свой мир, чтобы оградить себя от ненужных страданий, чтобы не сбиться с намеченного курса, пути совершенствования души, он выработал свой стереотип жизни – с утра работа в мастерской, в обед общение с друзьями и подругами. Вечером тренировки у сэнсэя Пака.
В этой секции он тренировался не первый год. Там все знали и любили друг друга. Там была замечательная атмосфера дружбы и взаимовыручки. И беспощадная борьба на татами. У него был чёрный пояс. Два чёрных пояса…
Потом до двух часов ночи он писал дневник, анализировал свои поступки и мысли. Путешествовал по Интернету.
Он боялся нарушить тот идеальный распорядок жизни, который создал себе сам, распорядок, помогавший ему сохранять себя в едком мире питерской богемы. Не пил. Не курил. Не ширялся. Старался избавиться от тревожащих и разрушительных мыслей. От некрасивых унижающих страданий.
Думал: лучше верить в разумность безумного миропорядка и работать, чем биться головой о бетонную стену.
И так каждый день. Подъём в десять. Завтрак. Работа. Друзья. Тренировка. Ночной дневник…
Порядок давал ощущение стабильности.
На следующее утро, пробираясь к туалету, Платон столкнулся с Ульяной.
Жалея её и не зная, что сказать ей, как утешить её, как загладить в себе чувство вины, он остановился и погладил рукой её щеку.
Против его ожидания Ульяна не улыбнулась и не обрадовалась.
Её сильное и красивое лицо вдруг жалко сморщилось. Она силилась что-то сказать, но не могла от рыданий, душивших её. Наконец совладала с собой.
– Ты сегодня отлично выглядишь, – сказала она и быстро ушла на кухню.
…Острой боли не было. Но нога была горячая, и Платон никак не мог найти положение, в котором ей было бы спокойно.
Печатать лёжа было неудобно.
Всё раздражало Платона.
Ульяна, как сомнамбула, ходила по квартире в драной рубашке. Босиком. Не расчёсывала волосы.
Когда он давеча проходил в туалет мимо зеркала, увидел на тумбочке гребень с выдранными волосами. У неё не было до его болезни седых волос, а тут в два дня стала седой…
Он лёг. Закрыл глаза и забылся.
Когда проснулся, позвал Ульяну. Но никто не ответил.
Он встал, дошёл до окна. Ульяна шла к дому с тяжёлой сумкой.
Он увидел, как она упала. С трудом поднялась. Собирала рассыпавшиеся яблоки.
Платон стал торопливо одеваться, чтобы выйти и помочь ей. Но запутался и тоже упал.
Преодолел слабость. Встал кое-как. Оделся.
Ульяна уже открывала дверь своим ключом.
– Ты чего это нарядился?
– Я видел, как ты упала.
– Тебе показалось.
– Не стыдно врать? Куртка в грязи…
– Что-то я хотела сказать тебе… Забыла… Да! Того маньяка поймали…
– Какого?
– Того, что убивал в Парке мужчин шилом. Ну, женщину в красном. Это был мужчина. Его сестру-близняшку изнасиловали и убили в нашем Парке Любви. Он по ночам надевал её красное платье и искал убийц… Провоцировал. Убивал…
Платон лежал и молился, чтобы ЭТО произошло с ним скорее и положило конец всему. Он устал. Он был готов к уходу. Он вспомнил, как судьба спасала его не раз в горах и на дорогах. Вспомнил голодные девяностые. Эти годы вспоминались ему как одна длинная голодная зима. И, как ни странно, они хранились в его памяти как яркое, прекрасное время. Ярче была только война с немцами, пришедшаяся на время его отрочества.
И память его сберегла много чистого и дорогого, связанного с девяностыми хмельными годами. Там были свои праздники. Мартовская путина. Ловля корюшки.
…Они вставали в четыре утра, ехали по ночному безлюдному Питеру. Потом по Таллинскому шоссе. Сворачивали на Копорье, мимо развалин крепости, а дальше – снег, снег, снег… Лёд…
Бензин стоил тогда копейки.
Они пробирались к заливу, объезжая по диким просёлкам пограничные заставы.
Холодное мартовское солнце вставало из-за голубых холмов. Часы сливались в одну бесконечную однообразную белую минуту.
И вдруг открылся залив – тоже белый, усеянный сотнями чёрных фигурок.
Судя по неподвижности этой брейгелевской композиции, клёва не было.
– Воздухом подышим, тоже неплохо, – сказала Ульяна, увидев разочарование на лице Платона.
Они нашли свободное место среди стоящих у залива машин. Взяли ледобур, ящики с удочками и пошли вниз, к ровной белой плоскости залива.
Они вступили на дно этого громадного фарфорового блюда, другой край которого терялся в бурой дымке.
Всё это походило на сон.
От чистого морозного воздуха у Платона кружилась голова, и в сознании сливались две картинки – старинное блюдо – белое, слепящее, с прожилками благородных трещин, и голубые следы, наполненные талой водой.
Рыбаки казались сначала маковыми зёрнышками, потом семенами арбуза, потом обретали человеческие формы.
Их ничто не объединяло, кроме жажды вытащить из-подо льда как можно больше рыбы.
Но жизни как будто не было в них. Все вокруг застыли в ожидании косяка. Только чайки кричали в вышине и скрип снега под ногами.
В сизо-розовой дали происходил таинственный процесс слияния залива с небом, таким же белым, как и сам залив.
Казалось, замёрзшая Маркизова Лужа была отражением неба, но на небесах было меньше птиц, чем людей на льду, и птицы летали, а люди были неподвижны.
Платон размышлял, куда идти, где сверлить лунки, но неподвижность рыбаков, такая мистическая, сказочная, чарующая неподвижность, говорила, что всё равно куда, потому что корюшки не было, и салаки не было, и трески тоже не было, даже ёрш не клевал на мелководье у берега.
Он пробурил лунку и опустил на дно крючок с червём. Он ещё загодя, днём, накопал червей неподалёку от дома, там, где вытаял снег, обозначив расположение теплотрассы… Там, несмотря на мороз, земля всегда рыхлая и тёплая, и черви собираются там погреться и обменяться новостями… Обсудить своё житьё-бытьё…
Кивок удочки сразу задёргался, и Ульяна вытащила первую добычу – довольно большую бельдюжку. Эта зеленоватая живородящая рыбка могла пригодиться как наживка, хотя и сама отменно вкусна и пригодна как пища для голодного человека. Но многие русские люди брезгают есть её из-за отсутствия чешуи и зеленоватого мяса.
Они снова смотрели на север, надеясь увидеть хоть какое-то оживление. Но – увы!.. Рыбаки сидели на своих ящиках, не сводя глаз с кивков.
И вдруг сердце Платона радостно забилось. Ожила одинокая закорючка на краю ближайшего к ним рыбацкого стойбища.
Какой-то старик вскочил на ноги, сбросил овчину на снег и начал производить руками движения, напоминающие утреннюю разминку: руки в стороны – руки вместе… руки в стороны – руки вместе… Много-много раз. И очень быстро…
И Платону показалось, что он увидел, как первые серебристые с голубизной рыбки падают на снег. Ему показалось знакомым лицо этого старого рыбака. Много лет спустя он понял, что, возможно, увидел тогда себя, но не теперешнего молодого, а старого – каким будет он через много лет…
Чайки закричали противными голосами, требуя своей доли…
Рядом со стариком начал бегать и мельтешить другой рыбак, молодой, с красным от ветра неприметным, стёртым лицом. Потом – третий… У него лица вообще не было. Только маска с прорезью для глаз…
И наконец всё скопище голодных и пока ещё трезвых мужиков пришло в хаотическое, несинхронное движение.
Рыба так же подвержена азарту, как и люди. Если её раздразнить, она будет клевать до тех пор, пока у рыбаков хватит сил вытаскивать её из глубин залива… Это как наши люди в очередях. Зачем – не важно. Важно дождаться своей участи.
И так до трёх часов пополудни, когда клёв станет стихать и последняя электричка, собирая рыбаков, потащится к Петербургу.
Чайки криками своими будут подгонять, торопить людей, чтобы они быстрее покинули залив, оставив на льду головы и хвосты рыбёшек, использованных на наживку.
Платон не любил тусовок, даже рыбачьих, но народ сбивается в стаи, чтобы раздразнить косяк, заставить его остановиться. Одиноким везёт меньше, чем стадным… Но Платон не любил тусовок.
Они с Ульяной встали с краю этого рыбацкого сообщества.
Платон пробурил восемнадцать лунок, по числу удочек, которые были у них в ящиках, и теперь стоял, опершись на ледобур, отдыхал. Работа трудная – бурить лунки.
Ульяна доставала из ящиков удочки, насаживала на крючки мальков бельдюги и опускала в лунки. Глубина была приличная – больше двадцати метров.
Все удочки вдруг разом задёргались и поползли к лункам. Первые рыбки прыгали на снегу.
Ульяна бегала от одной лунки к другой. Вытаскивала корюшку, а то и по две сразу.
Леска цеплялась за обледенелый снег, за острые края лунки. Ветер относил её в сторону, мороз приклеивал к насту.
Платону приходилось то и дело доставать иголку, чтобы распутать завязанные ветром узелки. Он пыхтел, глядя, как ловко и быстро управляется с удочками Ульяна.
Она никогда не пыталась распутать «бороду». Она в ярости и нетерпении разрывала леску, чтобы избавиться от узелков и арканов.
Остановить её было невозможно. Она разрывала леску зубами и связывала замерзшими пальцами исчезающие в белом сиянии концы и торопилась опустить крючки в глубину, навстречу охваченному весенним жором косяку.
Голодные люди и голодные рыбы. Когда-то давно война щедро одаривала рыб человечьим мясом. Но это было так давно, что ни люди, ни рыбы не помнили этого…
Однажды известный итальянский режиссёр, будучи в гостях у Платона и Ульяны, спросил, почему в блокаду ленинградцы не ловили рыбу. Это могло решить проблему питания. Он не мог представить себе блокаду, хотя был намерен поставить фильм на американские деньги и с американскими актёрами. Он не мог понять, что рыбалка в осаждённом городе, который беспрерывно обстреливали и бомбили, была невозможна. А зимняя рыбалка – тем более. Она требует времени, терпения, отдачи всех сил даже у здорового и сытого человека…
Платон знал, что обувка Ульяны слишком лёгкая для многочасового стояния на льду, да и худая к тому же. Он знал, что ей холодно. Но он знал также, что, когда Ульяна заводилась, остановить её было не под силу никому. Она могла выключать боль. Выключать все чувства, кроме тех, которые нужны были ей в её порыве здесь и сейчас…
– Всё хорошо! Всё хорошо! Мне совсем не холодно! – успокаивала она Платона.
– Ну, хоть глотни горячего чая. И ложечку пчелиной пыльцы.
– Спасибо! Сразу согрелась… Не беспокойся! – Она продолжала бегать вдоль многоточия лунок.
Корюшка шла большая, размером с селёдку, раздувшаяся от янтарной икры.
И вдруг раздался звук, похожий на полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости.
Льдина с тремя сотнями рыбаков медленно отрывалась от припая.
Те, кто были близко от трещины, ещё могли перешагнуть её, перепрыгнуть на прибрежный лёд. Наиболее отчаянные так и делали, пока между льдиной и припаем было не больше метра. Но чёрный разрыв медленно и неумолимо рос, и те, кто не успел решиться на рискованный прыжок минуту назад, теперь боялись оказаться в ледяной воде.
Тяжёлый «лендровер», стоявший недалеко от Платона, накренился и ушел под воду. Его владелец в ярко-жёлтом пуховике заглянул в тёмную глубину. Оттуда вырвался пузырь воздуха, как отрыжка от непереваренной пищи.
Льдину медленно разворачивало течением, направляло в чёрное пространство залива.
Люди безразлично смотрели, как их уносит в море, в открытую воду. Однако было немало таких, охваченных азартом, которые продолжали вытаскивать из воды добычу, не обращая внимания на опасность отправиться в морское царство, стать пищей для тех, кого ловили, чтобы утолить голод…
– Грех не ловить, если клюёт… Всё само собой как-нибудь разрешится, – привычно верили они. – А не разрешится – однова умирать…
Это были русские люди конца двадцатого века, разуверившиеся и в законе, и в беззаконии, разуверившиеся и в Боге, и в безбожии, в справедливости и несправедливости. Они готовы были ко всему, потому что жизнь для них была не слаще смерти. За последние триста лет они потеряли так много, их обманывали так часто, что они уже ничему не удивлялись и ничего не страшились…
– Что будем делать?
Ульяна не спросила, просто посмотрела на Платона.
Она была спокойна.
Платон пока не знал, что нужно делать.
Мобильников у этих голодных и бедных людей не было. Их ещё и в помине не было в нашей жизни.
– Сначала выпьем горячего чая, – сказал Платон и достал из ящика термос.
Ульяна вспомнила, как они лет пять назад, ещё в советское время, плыли из Сухуми в Батуми, чтобы показать сыну знаменитый Ботанический сад на Зелёном мысу.
Штормило.
Они сидели на палубе и пили из бамбуковых стаканов венгерский рислинг. Их обдавало солёной морской водой. Но было лето, они были молоды и верили в свои силы.
Ульяна была в светлом холщовом платье – молодая и красивая, полная сил.
Они рассказывали друг другу свои сны и меж делом договаривались, как будут спасать своего пятилетнего сына, если пароходик вдруг перевернётся и пойдёт ко дну.
Туристы из сухопутных республик не выдерживали качки, и волны едва успевали смывать с палубы содержимое их желудков. Только семья эстонцев, тоже с маленьким ребенком, была невозмутима в этих привычных для них обстоятельствах.
Тогда всё кончилось благополучно…
А теперь…
В горах Платону приходилось выводить обезумевших от страха людей из снежного плена. Ему удавалось организовать впавших в панику, сплотить потерявших надежду, заставить их действовать, заставить спасать себя и других… Но и тогда и сейчас кто-то невидимый покровительствовал и защищал его, испытывал его веру, волю и хладнокровие, создавая временами реальные, полные смертельного риска ситуации… грозил гибелью… Но спасал, несмотря на ошибки… Если тебя защищает Небо, то и ошибки спасительны…
Платон закричал, чтобы люди, стоявшие неподалёку, подошли к нему, чтобы все вместе обсудили ситуацию и решили, что делать для общего спасения.
Но они будто не слышали.
Клевало отменно. Грех не ловить, если клюёт.
Попадался налим, окунь и даже треска.
Платон вытряхнул на лёд содержимое алюминиевого рыбацкого ящика и стал ударять об него черпаком. Он бил в этот набат ритмично и упорно, и постепенно нудный надтреснутый звук накапливал в людях тревогу и заставлял их идти к нему.
Они давно перестали верить в коллективное спасение, но по старой советской привычке шли, надеялись, что вернётся доброе-недоброе старое время, когда мы были все вместе… Им ничего не оставалось, как поверить, что Платон сможет спасти их.
Но они сразу разделились на группы и фракции. Наиболее активные, видя в нём человека, способного управлять, сгрудились вокруг Платона и поддерживали все его предложения, потому что отсутствие решений означает скорую гибель.
Но были и те, кто открыто издевались над ним.
И вся эта толпа – убеждённые коммунисты и либералы, монархисты, демократы и государственники, научные работники и работяги, бизнесмены и бомжи, семиты и антисемиты, кавказцы и скинхеды, воры и менты, индивидуалисты и коллективисты… вся эта разношёрстная масса людей кричала, ворчала, пыхтела и пучилась…
Но их ничто не объединяло, кроме языка и возникшего вдруг страха. Они осознали головой и даже позвоночником, что эта большая и ещё крепкая льдина вскоре распадётся и они погибнут.
Но фракции раздирали склоки и борьба за власть. В конце концов был выбран актив, куда вошли представители всех партий и даже один представитель сексуальных меньшинств. Платон, как человек, не питающий симпатий ни к одной партии и потому якобы объективный, был избран главой актива. За его спиной маячил громадный мрачный мужчина, профессиональный телохранитель. Он не мог жить без хозяина, и Платон теперь подходил для этой роли. Это был первый и последний телохранитель в его жизни. Кроме ангела-хранителя, естественно.
Было решено реквизировать всё продовольствие, спички, лекарства, сухое горючее. Собрать для костра все деревянные ящики и жердины, принесённые рыбаками для защиты от ветра.
Было решено подавать сигналы бедствия проходящим по фарватеру кораблям фонариками и костром.
Было решено устроить общее лежбище. Обнести его стеной из нарезанных фирновых блоков, а сверху прикрыть плащами…
Было также решено произвести опись всех продуктов. Одну половину сделать общим достоянием. Другую – соответственно доле каждого раздать.
– Товарищи! – заключил Платон свою речь. – Граждане! Господа! Не поддавайтесь панике! Нас спасут. Придётся выдержать ночь на морозе. Но мы ведь привычные. Нам и не такое приходилось. Пока светло… За работу, товарищи!
Они собрали все продукты. Поставили стражу и принялись за сооружение общего снежного дома.
Но льдина снова раскололась.
Люди тупо смотрели, как уплывают все их продукты… Вместе со стражей.
Обманутые, они обрушили весь свой гнев на Платона.
Досталось и другим членам актива.
Бить сил не было, их пинали ногами и материли.
А Платона решили утопить.
Ульяна вырвала вмёрзшую в лёд слегу. Встала между Платоном и толпой.
Они медленно отходили к краю льдины.
А за нами… Коммунисты, монархисты, либералы, бомжи, доценты, работяги, семиты и антисемиты, скинхеды и один представитель сексуальных меньшинств.
Эти люди, ещё час назад обожествлявшие Платона, хотели теперь его сбросить с ковчега в ледяную воду. И возглавлял их маленький интеллигентного вида очкарик, за спиной которого теперь маячил давешний телохранитель Платона…
Нет большей ярости и гнева, чем те, что овладевают толпой, разочарованной в вожде, который хотел спасти их и не смог…
И снова звук, похожий на пушечный выстрел, и чёрная трещина отрезала Платона и Ульяну от преследователей. Не позволила им устроить самосуд.
Платон и Ульяна стояли на льдине не больше пятнадцати соток. И отплывали в никуда. Платон не удержался от смеха и попрощался с разъярённой толпой международным мужским жестом, выставив вперёд правую руку, сжатую в кулак, а левой придерживая её, как бы ограничивая размер символа. Потом с грустной улыбкой он стал собирать разбросанную и уже успевшую подмёрзнуть корюшку, складывал её в полиэтиленовый мешок, потому что не мог придумать себе другого занятия.
Ветер и течение долго носили их по заливу и наконец прибили к берегу.
– Спасибо, заливчик, – сказала Ульяна.
– За какой лифчик? – удивился Платон.
Машина стояла на месте, но кто-то унёс боковые зеркала.
Они медленно пробирались к Таллинскому шоссе.
Дорога была похожа на ледяной жёлоб в горах.
Их бросало то влево, то вправо. То вообще разворачивало на сто восемьдесят градусов…
Всё казалось нереальным – кошмарным сном.
Когда они выехали на Таллинское шоссе, начался сильный снегопад.
Пришлось остановиться, потому что щётки не успевали очищать лобовое стекло от снега…
Это воспоминание и невозможность вернуться в то время, когда они были молоды и здоровы, наполняли Платона отчаянием. Он понял, что ничего не успел сделать в жизни.
Он лежал в постели с ноутбуком на груди. Пытался что-то ещё записать, оставить Ульяне в помощь… Если что случится…
– Ульяна, поищи в моём столе блокнот в кожаном переплёте. Там изображён человек на осле…
Человек в одежде пилигрима на ослике. Листки – жёлтые от времени, заполнены витиеватыми буквами. Теперь пишут гладко и закруглённо, а здесь у букв были острые углы..
Видимо, прежний владелец записывал сюда полюбившиеся ему умные мысли.
«Wenn der liebe Gott sich im Himmel langweilt, dann öffnet er das Fenster und betrachtet die Boulevards von Paris. 1940».
(Когда Богу становится скучно в раю, Он открывает окно и разглядывает бульвары Парижа.)
«Jeder Mensch, der dir begegnet, ist ein lebendiger Gruss Gottes. 1940».
(Каждый встреченный тобою человек – это ещё один привет любви Господа Бога.)
«Ich bin so wie Du das Auge Gottes, das auf die prachtvoll Welt und selbst gerichtet».
Видимо, он искал слова для поразившей его мысли.
«Gott sieht Seine prachtvoll Welt und Sein wunderbar Geschöpf durch unsere Augen».
(Каждый из нас – это ещё один взгляд Бога на прекрасный мир, который Он сотворил.)
По стилю видно было, что простолюдин, парень из пивной, но о Боге задумывающийся.
Они могли бы дружить и вместе ходить на восхождения. Могли бы говорить в палатке о загадках бытия… Но владелец этого блокнота давно был мёртв. Он погиб в 42-м… В горах…
…Острой и постоянной боли не было, но ощущение тяжести, нытье и тревога каждой клеточки тела не давали заснуть.
Знакомое ощущение. Когда-то давно это было. В юности, на горнолыжной трассе в Грузии. Тогда Платон не вписался в поворот и обнял сосну…
И теперь он, всегда такой быстрый, бодрый и ироничный, безотказный, лежит плашмя с ноутбуком на груди и пытается что-то печатать…
Его шея стала вдруг морщинистой и старой. Трёхдневная седая щетина вызывала жалость. А в глазах его – недоумение и тоска…
Ульяна привыкала к мысли, что теряет его… И ей казалось это предательством.
Ульяна боялась, что он заметит её страх и отчаяние, что её паника передастся Платону и поможет болезни убить его…
А он думал, что теперь прощается с ней, обвешанный долгами и неисполненными начинаниями.
Время жизни потрачено зря, думалось ему. Горше муки не придумать…
– Я не хочу в больничку, – сказал он. – Лучше дома…
Ульяна понимала, что это неправильно, но согласилась. Она не хотела, чтобы он умирал один.
– Лучше на тахте… Полежу… – добавил он.
Ульяна бросила на пол одеяло и легла рядом с его тахтой, как верная собачка…
Она молилась, чтобы Господь взял её жизнь, но оставил жизнь Платону.
Она считала это более справедливым вариантом. У неё в душе было чувство изжитой, исчерпанной жизни. Она всё испытала – и боль и радость… Предательство… Прощение… Успех… Славу… Наступало время забвения. Ульяну Курдюмову помнили теперь только люди её поколения. Но их уже вытесняла из активной жизни бездумная и агрессивная молодёжь со своими песнями, составленными из блоков и осколков песен её поколения… Из секонд-хенда разрушенной русской культуры…
Всё как всегда. Кончалась одна эпоха, начиналась другая – со своими песнями и танцами. Со своими кумирами. Умирал один народ, а на смену ему спешил другой, с тем же именем, с теми же хромосомами, но с другим взглядом на жизнь.
Для Платона мнительность и подозрительность были ненавистны, как проявление низменных чувств. Он ненавидел в себе эти качества. Он старался не замечать в лице Ульяны усталости и раздражения. Однако часто её подавленное состояние, её огорчение он принимал как трудно сдерживаемый упрек. Он оправдывал её. Жизнь такая тяжёлая, нужно всё время работать, чтобы оплачивать квартиру, телефон, Интернет…
А тут ещё этот тромб медленно, слишком медленно, движется к сердцу… Иногда останавливается… А потом снова в путь…
Платон не спал. Лежал с закрытыми глазами.
Он услышал скрип паркета.
Ульяна подошла к его тахте. Встала на колени. Приподняла одеяло. Смотрела на его распухшую ногу. И вдруг прижалась к ней щекой. И поцеловала её. И щека её была мокрой от слёз…
Память и воображение вновь обманули его, как обманывали постоянно, всю жизнь. Как правда обманывает истину. Часто. Всегда. И опять трудности перевода. Реально Платон никогда не видел слёз Ульяны. Она никогда не плакала. Она выла и каталась на полу у его постели, будто в припадке. Но Платон чувствовал солёную горечь её слёз. И губы его воспринимали эти невидимые слёзы как реальную влагу…
Он приоткрыл глаза и увидел, как по потолку ползут тени и свет от проезжающих под домом машин…
Потом наступило забытьё.
Ему показалось, что он проснулся…
Окно было розовое.
– Значит, снег, – подумал он.
Снежинки пропитывались светом фонарей. Ложились на землю голубой тенью.
Он встал и вышел из комнаты. Он был одет по-зимнему. И там, за стенами их дома, была зима.
Улицы были заснежены и пустынны.
Изредка мимо Платона проносились авто, но на его просительный жест никто не откликнулся.
Он шёл по трамвайным рельсам.
Его нагнал пустой, ярко освещённый красный трамвай.
Он двигался некоторое время за Платоном, пока скрежет тормозов не заставил его обернуться и уступить дорогу.
Он отступил на торцовую мостовую и пропустил мимо себя красную светящуюся металлическую гусеницу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.