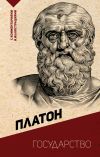Текст книги "Послевкусие страстей и превратности мнимой жизни"

Автор книги: Вадим Михайлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
У него было красивое лицо, но глаза были старые и усталые.
– Хорошо, хорошо… Ты успокойся… Я приду завтра. А ты подумай пока…
Он еле успел увернуться от ножа, который метнула ему вслед Лиза. Тяжёлый клинок вонзился в косяк двери.
Бад улыбнулся, пожал плечами…
– Я ведь только хочу, чтобы ты стала богатой.
Ушёл.
Лиза налила себе стакан воды, накапала корвалола, выпила, взяла мобильник.
– Платон?.. Да, Лиза! Бетси… Ну где же вы? Помогите мне!.. Я не знаю, что мне делать!.. Мне страшно… Мне всё равно… Завтра, да?.. Завтра? А сегодня никак?
…Лиза стояла на крыльце. Уже темнело, и в сумерках фигура её смотрелась как-то особенно смутно и тревожно.
– Платон! – Она бросилась на свет фар. – Слава богу!..
Над далёкими сопками гремела и светилась гроза.
Лиза зажгла все лампы и все светильники, какие только были в мастерской.
– Конечно, лучше смотреть при дневном свете, – сказала она.
– Не имеет значения.
Платон ходил по мастерской, мельком осматривая картины, разворачивая рулоны холста.
– Ты хоть примерно знаешь, сколько здесь работ?
– Откуда?! Я после смерти папы вообще сюда не заходила… А дом продам… Куплю себе нормальную квартиру в Питере.
– Не торопись. Давай по делу. Есть ли у тебя фотографии картин, слайды, диски?
– Нет, конечно!.. Пока были заказы… Тогда был какой-то учёт… Потом… Как только его не называли! И эпигоном соц-арта, и безродным космополитом…
– Пантыкин – безродный космополит?
– Было и такое… Потом, когда он умирал от цирроза печени, я просто рассовала этот хлам по полкам и кладовкам… То, что он не успел раздарить своим приятелям и ученикам…
– Он, видимо, тебя любил… Везде – Лиза, Лиза, Лиза…
– Просто не было денег на натурщиков!.. Я сидела часами неподвижно… Это моё детство, понимаешь?.. Рабыня… Замри, улыбайся, потом пойдёшь гулять… И всё – потом, потом… А когда это «потом» наступило – мне уже ничего не нужно… Скажи, мой отец правда был гениальным художником?
– Лиза, я ведь не ценитель… Я – киношник. Дилетант. Всё по верхам. Картина для меня – просто кусок холста, покрытый краской… Пока не начинает волновать… У меня сын художник. Я хотел привезти его, но раздумал… Ты ему вроде приглянулась… Может быть, твой отец был гений… А может, просто… Не думай об этом… Главное, что Бад Мартинсон поднял волну… И ты должна на неё вскочить… Сколько он тебе предложил?
– Два миллиона долларов… Я обещала подумать.
– Подумаем вместе. Сделаем снимки всех картин. Для буклета… Я получил немного денег за последнюю свою картину… Я помогу тебе. Я надёжный деловой партнёр…
– Ладно, – сказала Лиза. – Я постелю вам наверху… А я здесь в мастерской… На раскладушке… Дождь, а какая духота!..
Ночью вдруг страшно заскрипели – затрещали ступеньки деревянной лесенки, ведущей с этажа на этаж.
Фолтин скатился по крутым ступенькам в одних плавках, босиком. Кинулся на веранду.
Из мастерской выглянула испуганная Лиза:
– Слышал?..
– Где? – Фолтин кинулся к окну.
– Во дворе!..
– Трое!..
– Трое?
– Может, соседи?
– Сейчас посмотрим! – Фолтин открыл дверь в ночь.
– Эй, кто там! Стреляю без предупреждения!
Они замерли, прячась за косяки двери.
Ночные гости выскакивали в неизбежный свет фонаря и тут же исчезли.
– Что я говорил! – нервно засмеялся Платон. – Трое!..
Лиза стояла перед ним в чёрной футболке, притягивая его взгляды весёлой русой шёрсткой на границе чёрного египетского коттона и белых, не тронутых загаром ног.
– Закурить есть? – спросила она.
Платон протянул ей сигареты, щёлкнул зажигалкой.
Курили. Прислушивались. Ждали. Лиза прикрылась пледом, устроилась на маленьком диванчике в углу веранды. Фолтин – в плетёном кресле. Им хотелось понимания и сочувствия… Им хотелось близости и тепла…
За окном тихо было и темно. Но дом всё не мог успокоиться. Где-то наверху ритмично хлопала форточка. Что-то шуршало в углу. Что-то упало с полки…
Но они слишком долго были одиноки, чтобы обращать внимание на такие пустяки. А гром начавшейся грозы и шум дождя за окном довершали ощущение неожиданной радости. Создавали иллюзию начала новой счастливой жизни друг в друге.
– Так, значит, будем вместе?
– Выходит, так.
– Я, конечно, готовлю не очень… Но можно в кафе…
– Можно и в кафе. Но я отлично готовлю…
– Ты что, правда любишь меня? – спросила она вдруг.
– Люблю… – ответил Платон и прикрыл глаза.
Он хотел разобраться в себе, в своих чувствах.
Ему было хорошо, мирно, спокойно. Впервые не мучила тоска по ушедшей жене. Память о ней была как давно осуществлённый сериал. Лучший сериал в его жизни. Высоко прожитый отрезок жизни. Начинался новый. С новыми героями и новыми проблемами. Рядом с ним лежала большая, чистая, молодая женщина. Она была как новый просторный дом, готовый к заселению. Белый дворец. Ему предстояло обжить эти хоромы. Наполнить живыми запахами, звуками, живым светом новой любви, детскими голосами… Переступить порог… Но прежде по обычаю пустить кошку. Освятить. И жить здесь долго и счастливо. И умереть в одно время…
Они физически идеально подходили другу. Они были задуманы и созданы для того, чтобы встретить вместе утро и заснуть, обнявшись, в полночь. Смешать дыхание и мысли. Animus и anima. Он желал её бесконечно, будто ему снова было тридцать. И не было тревоги за будущее. И не было сожаления о прошедшем. Не было раздвоения личности и неудовлетворённости собой, своей душой, своим духовным уровнем, своими поступками… Не было «Я в мире. Мир во мне». Я в ней – и это мой мир. Ему было хорошо и радостно. И главное – спокойно. Ульяна была недостижима, ему всё время приходилось доказывать себе, что они равны, но он знал, что никогда не достигнет её уровня. Хотя она старалась помочь ему. Не отдавая себе отчёта, старалась помочь ему расти, набираться сил, чтобы достичь воплощения в образ, задуманный о нём.
Правда и то, что Ульяна так же, зеркально, думала о нём и черпала в нём силы, жила его энергией, энергией его любви. Старалась достичь мистической вершины его духа, который она видела, а он даже не подозревал об этой высоте. Привык. Принимал небо за потолок, выкрашенный чёрной краской.
Судьба дарила ему вариант другой – нормальной красивой жизни, с вечной игрой, обманами, ссорами, бурными примирениями. И центром этой новой жизни должна была стать молодая актриса, меняющая облик от сценария к сценарию… Увлекающаяся режиссёрами и партнёрами по съёмкам. Которой важнее всего – быть в свете и в фокусе… А он обречён терпеть её ветреность, переменчивость, думать только о ней всю оставшуюся жизнь…
И сказала она:
– Это хорошо… А теперь надень костюм моего отца.
Он открыл шкаф и надел костюм её отца.
Она надела платье своей матери и села напротив него.
Они смотрели в глаза друг друга…
– Не любит, – подумала она, прислушиваясь к его дыханию. – Платон Алексеевич. Наши отношения лживы. Они дворцы из папье-маше. Промокнут от весенних дождей. Растают при первом весеннем ливне. Они не истинны. Правда и то, что после этой ночи во мне стало что-то происходить… Какая-то вибрация… Что-то стало меняться во мне помимо моей воли… Может, я заболеваю?.. Или наоборот – выздоравливаю?
– Ты не чувствуешь, когда мне плохо, – думал он. – Я не чувствую, когда тебе плохо. Нам комфортно, пока мы оба здоровы и не обременяем друг друга, не забираем время у привычных забот. Наши отношения похожи на букет. Икебана. Цветы без корней. Засохнут, и в ведро. У нас никогда не будет детей…
– Пока щекочет нервы, терпимо, – отвечала она ему. – Когда тошно, понимаешь, что всё – ложь…
– Ты не бросишь всё и не приедешь, чтобы подать мне стакан воды, – думал он, глядя на неё сквозь ресницы. – Запомни на будущее. У тебя ещё есть время понять это. Надо отдавать близкому человеку всё, что имеешь. Душу отдавать… А иначе будешь удивляться, почему вдруг исчезают любившие тебя люди. Исчезают, не умирая. Не откликаются. И нет их… Ау!
Начинался медленный рассвет.
Они лежали молча, боясь пошевельнуться, чтобы не спугнуть утренний сон, не потревожить ставшего вдруг мучительно близким человека… покидающего тебя… Удаляющегося… Только тела рядом. Тёплые. Родные… Но только тела…
– Я обожала своего отца, – тихо заговорила в темноте Лиза. Она определила своей женской интуицией, что Платон окончательно проснулся. – Считала его гением… Он заменил мне мать… У меня всегда были фрукты… А он смотрел на меня пьяными глазами и ляпал краску как попало… От его картин исходило отчаяние… Я плакала, я не хотела видеть себя такой уродиной… «Это твой внутренний мир!» – шептал он… И притом – перед каждым завтраком, обедом, ужином «Отче наш!»… Все посты… Все праздники… И жестокость… Жестокосердие… Я потеряла веру… Ушла из дома. А он умер… И я теперь виню себя… Я поняла, что нет веры без любви… Что вера без любви – грех… Сети диавола… Что вера, нет, что любовь без принесения себя в жертву тоже грех. Мы обвенчаемся с тобой? Да? Мы ведь обвенчаемся с тобой?
Он промолчал.
Она больше не спрашивала.
Она шептала ему свои безумные признания.
А он не верил ей. Не сомневался, она – ложь… Ловушка… Хищный цветок, ароматом своим притягивающий одиноких мух и бабочек…
И упрекал, и оправдывал её.
Только так она могла черпать силу и опыт мужчин.
Только так могла поддерживать в них огонь любви… И постигать через влюблённых в неё живую красоту и разнообразие жизни. Бедная придуманная женщина…
– …Любовь не может быть благополучной и счастливой, – продолжала настаивать она, и утверждала это своей жизнью и страстью. – Благополучие и счастье – яд для любви. Любовь угасает от благополучия и счастья… Зато во тьме кромешной она дарит фейерверки, затмевает звёзды всполохами и взрывами своими. Любовь, как и жизнь, как война, существительное только по грамматической форме, а по существу – это глагол… Любовь – процесс… Любовь – как в горах или на ринге – стремление к победе… изнурительное восхождение к иллюзорному счастью, к недостижимому идеалу… И нокаут в любви – финал жизни. И победа – только сегодня, а завтра – снова ринг, если сможешь подняться и выжить.
«Как я мог совместить в ней две такие враждебные сути – искренность и лживость?! – возмущался Платон. – Это неправильно! Это безграмотно! Зачем я сделал это на беду, на погибель свою?!»
Но как только он пытался оставить ей только одну суть, добрую или злую, характер её мельчал, становился неинтересным, не тревожил его, не будил его воображения… И он решил, что пусть она такой и остаётся…
…Лиза послала ему воздушный поцелуй и скрылась в подъезде.
Платон уходил от её дома и всё ещё улыбался и трогал свои искусанные губы.
Труба с соседской котельной выпускала прозрачный пар, в котором трясся кусочек неба.
На улицах было пусто, светло и бессолнечно. Проехал первый пустой трамвай. Он даже затормозил, чтобы подобрать Платона. Но Платон благодарственно поклонился билетерше и помахал рукой ватману, мол, спасибо, не надо, гуляю… Ватман был лыс, а билетёрша была юная, миленькая, курносенькая…
…На небольшой солнечной террасе под полосатым тентом сидели за столиком два безупречных джентльмена и беседовали на хорошем английском. Несмотря на жаркую погоду, их рубашки голландского полотна были свежи и хорошо отглажены. Их волосы и ногти выдавали заботу мастеров стрижки и маникюра. Запонки на сорочках были из лучших ювелирных домов Европы, но у Бада Мартинсона они были лет на сто моложе, чем у Платона Фолтина. «Брегет» меж тем голосом маленькой шарманки пропел фрагмент старого австрийского вальса, принудив Платона вытащить часы из их уютного гнездышка в недрах лёгких парусиновых штанов.
Да, они говорили по-английски. Иногда переходили на русский.
– Забавная вещица, – сказал Бад. – Где купили?
– В Питере… Десять лет назад… Но, как ни странно, часы эти принадлежали когда-то моему предку, тоже Платону Фолтину… Я часто думаю, скольких владельцев они поменяли, прежде чем вернуться ко мне…
– Вы из тех Фолтиных? – спросил Бад, рассматривая часы.
– Знаете, Бад, – сказал Платон. – Сейчас так много любителей притворяться аристократами, что я предпочел бы ответить так – в моих жилах течёт кровь всех сословий России… Один из моих предков был купец…
– Объясните…
– Ну, это от русского «купить»… Купить-продать…
– Значит, вы меня купили? – Бад засмеялся. – Мне иногда кажется, что русские только то и делают, что покупают и продают друг друга…
– Да, «покупка» – любимая наша игра.
Официант принёс бутылку гурджаани, бокалы, две тарелочки с жареной форелью и золотистый соус ткемали в фарфоровых розетках.
Остальные столики были пусты – чистые белые скатерти и безлюдье.
Бад перехватил взгляд Фолтина.
– Я купил этот ресторан на два часа. Чтобы нам не мешали беседовать.
– Мы можем договориться гораздо быстрее, – сказал Фолтин. – Я готов уступить вам три картины… Те, что я приобрёл у Ноздровского, в Питере. А эту коллекцию я беру себе. Всю… Вернее, не себе… Она будет принадлежать Лизе Пантыкиной.
– Это не корректно, – сказал Бад. – Я раскрутил Леонарда. На это ушли деньги и время… Я не могу позволить себе отказаться… Вы снова хотите меня купить.
Платон рассмеялся, отхлебнул вина, несколько подчёркнуто оценил его вкус.
– Он, по-вашему, гений? – спросил Платон.
– Но! Но! Это, может быть, чрезмерно сильное слово. Оно утомлено частым употреблением… Да… Но он был на пороге… В преддверии большой славы… Когда я увидел его картины на аукционе, в хороших рамах… Он блистал среди наших неучей… Такая свежесть! Такая культура! Такая техническая оснащённость! Это осталось только у русских… Вы, наверное, знаете его историю… Леонард был аспирантом в Петербургской художественной академии… Чистой воды реалист… Потом его изгнали за подписание какого-то письма… Он женился на француженке и уехал в Париж. Там поссорился с маршанами… Его бесило, что Шемякину платили в тридцать раз больше, чем ему… Естественно, его после этого вообще бойкотировали… Он очень нуждался… Поехал в Кению преподавать африканцам рисунок… Едва не умер от какой-то болезни… Вернулся в Россию… Увидел в мастерской друга натурщицу Марьяну. Поразительно красивая была женщина. Леонард перестал пить… Женился… Родилась Лиза… Жили в нужде… Марьяна бросила его с маленькой Лизой… Уехала в Австралию… Вышла замуж за коллекционера… Леонард сжёг все свои картины… Потому что везде была она… Снова стал пить… И с тех пор рисовал только Лизу… У меня ведь есть козырь против вас… Я вызвал Марьяну из Австралии…
– У неё нет шансов, – сказал спокойно Платон Фолтин. – На всех картинах посвящение «Моей любимой дочери»…
– Но процесс затянется на годы… Мода на русских может пройти… Леонард покажется нелепым и старомодным…
– А может быть, его картины только наберут силу с годами, – возразил Фолтин. – Это ведь искусство. Оно не подчиняется логике… Есть ведь и другие примеры. Сегодня картины вызывают восторг… а завтра… только стыд и желание забыть… Помните, что сказал Чайковский о своём «Лебедином озере»: «Какая гадость! Мне стыдно вспомнить…»
Они засмеялись даже дружелюбно.
– Может быть… Может быть, – сказал Бад. – Я предлагаю – покупаем коллекцию пополам, фифти-фифти… Делим по жребию… Продаём по две картины в год каждый… А пока подпишем кое-какие бумаги. Я думаю, Лизе на первое время хватит четырёх миллионов.
Платон внимательно прочитал договор и подписал. Бад тоже подписал и передал Фолтину папку с финансовыми документами и чек. Неловко опрокинул фужер. Он звонко разбился о бетонный пол.
Подбежал официант, собрал осколки стекла.
– На счастье, – сказал Платон.
– Вы правда так думаете? – Бад поднялся. – Я посидел бы ещё с вами. Приятно встретить цивилизованного человека…
– Счастливо. Встретимся вечером у Лизы.
– Хай.
Платон видел, как Бад спускался по лестнице, как вышел он из тени ресторана на солнечную сторону улицы… И пропал в толпе.
Бад улыбался. Ветер с залива шевелил седоватые волосы. Ему казалось, что для этой непредсказуемой страны всё складывается совсем неплохо.
Песчаный берег был безлюден.
За Бадом увязалась девочка-подросток. Нечёсаная, загорелая, в драной майке.
Он улыбнулся ей. Поманил. Погладил по головке.
– Мистер, дайте доллар! Мне нужно позвонить маме… в Питер… Мама беспокоится…
Бад озабоченно полез в карман. Купюры, как назло, были всё крупные.
А девочка всё шла рядом, заглядывала в лицо, девочка-мальчик, совёнок…
Потом к девчонке присоединились ещё какие-то подростки, потом ещё…
И вот уже целая стая одичавших детей кружилась вокруг него.
Бад ускорил шаги, потом побежал.
– Доллар!.. Дай доллар!..
Залив дышал гнилыми водорослями. Зелёная вода тихо набегала на песок.
Бежать было трудно. Бад задыхался.
Он устремился туда, на пляж, где были люди и милиция.
Подростки не отставали.
Девчонка была впереди. За ней – стая… Им было так весело гнать этого старика, богатого и жадного!..
– Доллар!.. Доллар!.. Доллар!
Загнанный, он упал на песок, меж серых круглых камней. Замер.
Девчонка деловито обыскала его карманы. Победно вскинула бумажник:
– Вау!..
И они помчались вдоль берега, лёгкие, как тени, высушенные солнцем и голодом. Девчонка – впереди, безжалостный вожак стаи.
Бад пытался подняться, но не смог, снова опустился на песок. Солнце слепило, и он закрыл глаза.
Фолтин спустился по ступенькам на прибрежное шоссе. Стая подростков промчалась мимо него. Проехала «скорая». Люди столпились возле кого-то, лежащего на песке среди серых валунов.
Фолтин подошёл к толпе.
Мимо пронесли носилки.
Фолтин узнал Бада Мартинсона.
Ему показалось, что Бад слабо улыбнулся ему. Впрочем, скорее всего, показалось. Слепило солнце…
И вдруг Платону стало тошно. Как будто в его одежде шёл другой человек, пошлый и опасный. И одновременно жалкий, теряющий свою суть, теряющий всё дорогое, что они нажили с Ульяной.
Он приехал в мастерскую к сыну, чтобы сказать, что уезжает из Петербурга. Пока на месяц. А потом – видно будет.
– Где Ростик?
– Он уехал с утра на объект… Они через два дня сдают…
…Серые стены подворотни расписаны были разными непристойностями, свастиками, надписями с грамматическими ошибками…
Но неожиданно за поворотом радостно сверкнуло южное море. И балюстрада, и чайка, и белый парус далеко-далеко среди мелких волн.
И только через минуту, когда впечатление сменилось осознанием реальности, Платон понял, что всё это – и море, и чайки, и кораблик – нарисовано на сером, глухом брандмауэре. А у нарисованной балюстрады, на каких-то ящиках, рядом с битой, заржавленной машиной, весело обедали Ростик Фолтин, две девушки – толстая Светка, крашеная, огненно-рыжая, и худенькая Полина…
Он не виделся с сыном со дня той выставки.
Когда-то давно, в далёком вчера, они дружили, пока не наступил переходный возраст – время утверждения себя, время разочарования в родителях. Платон вдруг понял, как остро любит сына. Доброго. Ироничного. Сильного… И холодноватого. Но способного дарить тепло. Клонированного Платона. Он был уверен – сын никогда не опозорит их рода. Не запятнает честь фамилии…
Платон хотел обнять его, но знал, как не любит Ростик проявления открытых чувств. Потому просто кивнул приветливо…
Ростик засветился улыбкой. Своей знаменитой белозубой голливудской улыбкой.
…На загрунтованной стене старого дома летела свора охотничьих собак. Они летели в пространстве двора. И утки взлетали к окнам второго этажа.
– Гошка! – закричал Ростик. – Оставь своих собак!.. Иди обедать!
Ноздровский оторвался от стены. Обернулся. У него было счастливое лицо.
«Я ничего не успел сделать для него, – подумал Платон. – Он умрёт в нищете, не оставив следа… Как умирают десятки талантливых людей ежечасно по всей нашей земле…»
…Вода канала была чёрной. Жёлтые пятна качались в этой черноте.
– Отец, пообедаешь с нами?
– Нет, спасибо.
…Им наплевать, что скажут о них после смерти… Но могут убить за насмешку над их картинами. Они продают свои работы дешевле, чем гастарбайтер берёт за побелку потолка… Дешевле сантехника за починку клозета… Сегодня мазнул – завтра продал. Я не осуждаю их. Но я говорю «хватит!». Это творцы! Они – наше национальное достояние. Они наше будущее. Их картины уплывают на Запад. Их скупают за бесценок, как двадцать лет назад скупали Зверева, Пантыкина, Тюльпанова, Рабина… Чтобы через годы продать на «Сотбис» или «Кристис» за десятки и сотни тысяч долларов. Продать и опровергнуть общее мнение о нашей духовной смерти… Спаси их, Господи, от пошлости и предательства!
…Платон сел в кресло перед балконом и смотрел на стену тёмно-коричневого сталинского дома. Загорались вечерние окна. Только окно Ульяны оставалось тёмным. Окно было тёмное. Исчезли занавески и шторы. Вместо них небрежно висели газеты. Новые хозяева жилья начинали ремонт.
Он подумал о том, что его жизнь закончилась, началось существование – настоящее одиночество и чувственная нищета. Нежелание уйти с рельсовых путей, которые уже наполнялись гулом приближающегося скорого.
Приближалась смерть.
Ульяна не приходила к нему даже во сне. А он написал столько мистических эссе о жизни после смерти. Она не приходила. Значит, или все истории о вечной жизни обман, или они, Платон и Ульяна, не любили друг друга, или не были людьми, а только персонажами другого сценария, романа или мифа. А у персонажей есть душа, но нет продолжения…
Опыт показывает, что все продолжения ничтожны…
…Я был птицей, но крыльями моими была Ульяна. После её ухода… После того как я потерял её, я потерял крылья. Я почувствовал себя гадом, потерявшим крылья, гадом, тоскующим по небу… По высокому небу… По чистому воздуху высоты… Которую я всегда любил. И никогда не боялся…
…Платона разбудил звонок телефона. Его просили выступить на радио «Санта-Лючия» и поделиться опытом работы в кино.
Платон попытался набросать небольшой конспект.
Вроде бы нашёл первые фразы.
«Ещё Эйнштейн говорил, что коэффициент искажённого времени равняется коэффициенту искажённого пространства. Это актуально не только для нашей Галактики… Создание художественного фильма тоже связано с искажением времени и пространства. И у каждого сценариста и каждого режиссёра эти коэффициенты разные. Они определяют почерк мастера…»
Он готов был поделиться некоторыми секретами своей профессии, но это были его инструменты, кустарные, эксклюзивные, возможно, скорее всего, непригодные для других. Он позвонил в редакцию и сказал, что не готов.
Придумал другое начало.
«Миллион лет назад… Наш предок ловил рыбу и вдруг замер. На водной глади среди ветвей, среди плавающих в глубине рыб некто, похожий на человека, смотрел на него. Хмурился. Поднял руку. Камень плюхнулся в воду, пошли волны. Видение исчезло. Потом вода успокоилась, замерла и тот, другой, улыбнулся ему – понял – это Я!
Он научился смотреть на себя со стороны. Видеть своё лицо в окружении комаров и слепней, но рядом с солнцем, луной и звёздами. Он поверил в своё божественное предназначение, но, к сожалению, не увидел своих недостатков, и до сих пор не замечает, что нет на земле более мерзкого и вредного существа, чем он сам…»
И этот текст тоже не понравился Платону. Он стёр его из памяти компьютера.
Может быть, так начать?
«Вы, наверное, хотите знать, как пишутся сценарии… Есть два повода для написания – заказ или сам хочешь и пишешь на свой страх и риск. Иногда бывают совпадения. Тогда счастлив. И всё же без жертвы даже в таком счастливом случае не обойтись. Мой учитель лучшие свои сценарии писал в психушке. Другие спились. Третьи стали профессорами и перестали писать.
И всё же. Как происходит процесс?
Редактор в заявке требует историю.
То ли это было, то ли не было, не важно…
Нужна история, анекдот, который можно рассказать, которым можно очаровать продюсера. Но на этом как раз прокалываются. Такими историями вымощена дорога поражений. Чем ярче и элементарнее история – тем труднее её воплотить. Начинаешь придумывать эпизоды, придавать жизнь персонажам. Экшен. Крутые повороты. Боб летит по ледяному жёлобу. И неудача – фильм провалился…
Иногда, правда, история возникает как вполне законченная, но с тёмными пятнами, которые трудно поддаются распаковке. Там и таятся открытия.
Есть и другой способ. Как говорил Марк Твен, берёшь несколько ясных тебе характеров и начинаешь провоцировать их на отношения – любовь, дружбу, совместное дело… Они, эти придуманные тобой призраки, сначала не очень поддаются. Потом привыкают друг к другу и начинают жить самовольно. Влюбляются, враждуют, дружат. Важно вовремя отойти и не мешать им, не навязывать своих мыслей и поступков. Наблюдать и записывать. Иногда подкидывать перемену судьбы – драматургические повороты. Хорошо, когда они связаны с переменами в судьбе народа. Война. Голод. Изменение строя жизни…»
И этот текст вызвал у него отвращение.
Он был не готов.
А потом решил – пойду и скажу то, что придёт в голову. Этот метод всегда выручал его ещё в университете на экзаменах.
Он смотрел на микрофон и размышлял вслух… Как будто говорил с близким человеком.
– Точно найденный стиль – это первый шаг от правды к истине… Бывает – начинаешь работать, и всё кажется фальшивым. Тупик и отчаяние. И вдруг просыпаешься утром, включаешь компьютер, и появляется абзац или страница, которая кажется тебе прекрасной. Этот абзац создаёт в душе беспокойство и тоску по… по совершенному сценарию, по совершенству во всём строе будущего фильма – в архитектуре, в деталях, в способах выражения картин жизни словами – и главное – уже содержит неназванную суть и цель будущего сценария. И она, эта таинственная структура, подсказывает тебе, что надо делать, и ты идёшь с завязанными глазами, чтобы ничто не мешало тебе видеть эту суть, и не боишься идти вслепую, потому что отвага ведёт тебя и доверие… Не знаю к кому, но доверие. Доверие, свобода и радость ведут тебя… Ты оказываешься в наркозависимости от работы. И не нужны тебе ни мак, ни химия, ни герыч, а только работа. Может быть, глоток кофе. Или два-три глотка хорошего вина…
Писать сценарии расчётливо по умению и эрудиции можно, но скучно. А проживать новые жизни – такое искушение, такой драйв! Не знаю, грех не грех, но это моя профессия… Оживать в своих сценариях, оживать в фильмах, в героях и даже в мимолётных персонажах, в стариках и детях, влюбляться, и любить, и страдать во имя любви. И умирать. И снова рождаться на белый свет под другими именами и в других обстоятельствах…
…Моя личная жизнь подчинена работе и малоинтересна. Можно сказать, что моя реальная жизнь мнима… Но мнимая жизнь моих героев и есть моя настоящая реальная жизнь. Их поступки – на моей совести. Их тревоги и рассуждения – тоже на моей совести. На самом деле я одинокий старый холостяк, живущий с детства, с тех пор как помню себя, в мире придуманных мной людей и ситуаций. Я так люблю этот мир, что часто забываю, что он существует только в моей голове. И часто я разбиваю голову о реальную стену, которую не вижу. Иногда мои миражи оживают и принимают материальный вид. Превращаются, как я уже говорил, в фильмы, стихи или тексты. В этом придуманном мной мире я красив, остроумен и успешен. В меня все влюблены. На самом деле я выгляжу довольно противным пожилым мужчиной. Говорю коряво и пошло, с трудом подбираю слова. Иногда страдаю приступами заикания. Меня никто никогда не любил, хотя мне иногда кажется, что я люблю всех. Я уверен, что любовь и ненависть – две энергии, которые движут мирозданием… Они провода – плюс и минус… Я хотел бы искоренить в себе ненависть и умножить любовь, но мой почти столетний опыт заставляет меня смириться с мыслью, что это невозможно. Зло и ненависть всегда в наступлении, а любовь ежесекундно умирает, как Ромео и Джульетта, но в мире никогда! и в каждом человеке тоже никогда! не нарушается их соотношение…
И ещё одна важная мысль, которая пришла мне в голову только что…
Во сне и в искусстве всё имеет знаковый смысл. Другую иерархию ценностей. Тени тянутся от слов и жестов, от мимолётных намёков из будущего в прошлое. Логика реальной жизни во сне и в искусстве не работает.
…В искусстве, как в сновидении, звук, цвет, слово, движение, поступок, взгляд не имеют конкретного и самодостаточного содержания во времени и пространстве. Они теряют свою автономию. Перестают быть случайным изолированным событием… Они становятся нотами в партитуре и имеют смысл только в сочетании с другими нотами. Этот закон распространяется и на нашу реальную жизнь, на историю человечества и мироздания. Но наш рассудок не в состоянии отвлечься от суеты конкретной жизни, не в состоянии объять необъятное – увидеть и услышать Вселенную как единый, хотя и не всегда гармоничный концерт.
…Работа в кинематографе помогла мне понять разницу между искусством и жизнью. И я сознательно предпочёл искусство.
Искусство помогло мне разобраться в себе. Понять себя. Я научился отличать в своей жизни поступок от проступка. Стыд от совести. Любовь от любовной игры. Испытание от возмездия. Боль от смерти… Свет от тьмы…
Платон увидел, что режиссёр передачи, утрированно страдая лицом, показывает на часы, напоминая, что время исповеди истекло.
Он виновато улыбнулся и замолчал.
– Господи, когда это кончится?! – застонал Фолтин. – Эти чужие страсти. Чужие любови и трагедии, которые вплетаются в мою жизнь, не дают спать по ночам. Делаются моим кошмаром… Бандиты… мужики… лохи… Овцы… козлы… пастухи… волки… Банкиры… воины… рабы… Лизуны… ниспровергатели и работники… Каждый выбирает себе жизнь по этому меню… И живёт во мне. Уходит, оставляя тлен. Отравляя меня своими страстями… Когда, Господи, кончится эта пытка?
– С последним твоим выдохом, – услышал он тихий голос.
…Платон Фолтин и Лиза спали на широкой, в полкомнаты, кровати. Спали, откинувшись в разные стороны. Лиза пошевелилась, потянулась, меняя позу. Фолтин сразу встрепенулся от малого этого движения, приподнялся, заерзал, преодолевая зазор между телами.
– Бетси! – позвал он. – Я не сплю.
– Я тоже, – тотчас же, как будто и не спала, откликнулась Лиза.
Они слепились под одеялом, как сиамские близнецы.
Платон стал приподниматься над весёлым Лизиным телом, и в этот самый интересный момент запел тореадором мобильник.
Он выключил звук, и телефончик долго ещё сверкал голубым, гневным оком. Погас обиженно.
За окном назойливо и жалостно лаяла собака.
– Джой! Джой! Джой! – отчаянно звал мальчишеский голос. – Нельзя!.. Нельзя!..
И снова запел отчаянно мобильник.
– Бетси, мы расстанемся, – сказал он.
– Я знаю, – ответила она. – Я всегда это знала… Я и сама собиралась сказать тебе. Я ведь знаменита благодаря тебе… И очень богата… Тоже благодаря тебе… Буду путешествовать. В Грецию! В Италию! Турцию! Кипр!
Хочу на Корсику, где каштановые леса… В Японию… А ты не хочешь никуда… Придётся искать попутчика. Ведь существует бюро по выбору эскорт-девиц и эскорт-мальчиков. Возьму молодого эфеба с упругим молодым животом… Или этого художника… ученика моего отца…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.