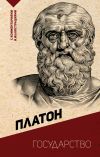Текст книги "Послевкусие страстей и превратности мнимой жизни"

Автор книги: Вадим Михайлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Он стал рассматривать фотографии, смонтированные на другой стене.
– Наш продотряд, – повторила Зинаида Давидовна. – Там, в барской усадьбе, была комната… Картины висели на стенах. Маленькие картиночки лежали под стеклом.
– Миниатюры? – спросил Фолтин, стараясь не волноваться. – Что там было изображено?
– Разные святые… Мы себе взяли на память по картинке… Мне досталась Мария Магдалина…
Платон старался остаться в этих воспоминаниях. Он держался за них, как за спасительную верёвку на крутом спуске. Там, в той жизни, была Ульяна. Даже если реально отсутствовала, но подразумевалась, и ей всегда можно было рассказать, удивить, услышать в ответ что-то неожиданное, радующее парадоксальностью и глубиной…
– Простите, а где она, эта миниатюра? – спросил он.
Но бывшая продотрядовка Зинка была жёстким, недоверчивым человеком. Она потеряла всех своих друзей. Расстреляны как враги народа. Ушли на войну добровольцами. Умерли в старости от нищеты и болезней. Такое было поколение – властное, жестокое и жалкое…
– Хороший ты парень, Платон Алексеевич, – сказала она. – Таких сейчас днём с огнём… Но и тебе не скажу… Не верю я людям… В завещании укажу, а сейчас не спрашивай, не открою. Ночью нас подожгли…
– Сколько же вам лет?
Старуха хитро улыбнулась:
– Я ведь вижу, вы из приличной семьи. А такие вопросы задаёте… женщине…
– Простите… Виноват…
– Да ладно… До ста ещё не добралась… Но скоро… Так вы из бывших?
– Почему вы так решили?
– У вас взгляд переменился, когда вы увидели барский дом. И часы…
– Ну, получается так.
– Ладно, будем дружить. Вы из бывших, и я из бывших. Одна волна смыла вас… А вторая и нас смыла… Да, тогда ночью мы потеряли трёх наших товарищей. Эти крестьяне – такой тёмный, некультурный, завистливый народ… Не хотели отдавать добровольно хлеб… Мы ведь не для себя… В Питере был голод…
Зазвонил телефон. Она не брала трубку. Только смотрела на неё.
– Все время кто-то звонит… Позвонит и молчит… Так вы будете приходить?.. А я… Я завещаю вам свою квартиру…
– Странное предложение. Зачем? У меня есть квартира…
– Мне некому оставить всё это. Я совсем одна… Это очень большие деньги…
– Наймите кого-нибудь… Будет смотреть за вами…
– Ага, и отравит… Присматривает за мной одна девочка. Оля Калиничева… Дочка архитектора… Сама пришла… Да я ей не верю… Очень уж любопытная… Так вы отказываетесь? Это очень… очень большие деньги…
– Нет, я не хочу…
– От вас ничего не потребуется чрезвычайного… Только раз в неделю приходить ко мне и говорить со мной… Ну, похороны… Кремация… У меня отложено на это…
– Не могу… Я очень занят…
– Вы верующий?.. Я вижу… Будьте милосердны…
«А ты сама – верующая?» – подумал он.
И она ответила весёлым циничным взглядом. Ей нравился этот мужчина. Она расцветала рядом с ним.
– Простите. Меня ждут, – сказал он.
Зазвонил телефон.
– Платон, – попросила она. – Пусть услышат мужской голос.
Фолтин поднял тяжёлую, литую трубку старинного аппарата.
– Да… Вам кого?.. Слушай, хватит сопеть… Говори!.. Разъединился.
– Все время так… Позвонит и молчит… Я думаю, что кто-то интересуется моей квартирой… Когда я вселилась сюда, с меня взяли подписку… Что ничего менять не буду. Никаких ремонтов или переделок… Дамочка одна приезжала из Франции… Дочка бывшего владельца дома… По-русски хорошо говорит. Тосковала… Я, мол, здесь, под этой люстрой, выросла… Хотела выкупить квартиру… А как я продам? Я тоже к этой люстре привыкла. Посмотрите, какая красота!..
Она включила свет. Люстра сияла.
– Простите, – сказал Фолтин. – Мне нужно идти!
– Так вы придёте?.. Платон… Я буду ждать.
Он заставил себя улыбнуться, неопределённо пожал плечами…
Она ждала ответа, умоляла глазами.
С трудом закончив беспорядочный этот разговор, Платон вырвался наконец на широкую тёмную лестницу.
Прощально звякнул медный дверной колокольчик.
– Я буду ждать! – догнал его тоскливый голос старухи. – Не бросайте меня…
– Я категорически против этой обузы! – сказала тогда Ульяна. – Я знаю этих кровожадных старух!.. Не отделаешься потом… Будет держать на крючке… Занимать время бессмысленными разговорами… Гонять в магазин… И зачем нам её квартира?! У нас две квартиры. С этими бы разобраться.
– Да не в квартире дело. Она чего-то боится, – размышлял Платон. – Это уже интересно. Она была ужасом для тысяч людей. А теперь сама умирает от страха…
– Везёт тебе на старух, – сказала Ульяна. – Так и норовят всучить наследство…
Он был человеком долга и два раза в неделю приходил в эту странную квартиру.
Он привык рассматривать альбомы, где в чёрно-белых фотографиях была запечатлена история нашего, так неожиданно оборвавшегося социалистического эксперимента.
Ему нравилась девушка Оля, которая присматривала за Зинаидой Давидовной. Она училась в универе на философском, писала курсовую «Пережитки социалистических идей в сознании старшего поколения питерских пролетариев».
Отец Оли – известный петербургский архитектор – одобрял заботу дочери об одинокой женщине. Он был уверен, что Зинаида Давидовна завещает Оле квартиру. Поэтому неожиданное появление Платона встревожило его. Опять-таки воспитание не позволяло ему показывать дочери свою озабоченность…
Платон с грустью подумал, что лишился человека, которому был нужен и интересен. Она принадлежала к племени любознательных, жадных до общения людей. Да, продотрядовка. Да, у неё на совести были, вероятно, десятки загубленных жизней. Но ей были интересны люди. А теперь вокруг него была пустота… Работы нет… Он никому не нужен… Никому не интересен… Ему не с кем поговорить… Пока не запустится с новым проектом… У нас ведь, у русских, все отношения строятся или на совместной работе, или на совместном питии.
– Хотите? – услышал он голос Оли.
– Хочу, – ответил он машинально, цепляясь за возможность общения.
– Вы на машине?
– Нет.
– Тогда пошли, тут минут двадцать ходу. На Васильевском пикет… В защиту дуба… Я там живу недалеко. Мы прозвали его «Дуб князя Андрея»… Его хотят спилить… Уплотнительная застройка… А он мешает… Пошли… Я камеру взяла, буду снимать. Мы даже прессу предупредили.
Он покачал головой:
– Пресса не поможет… Спилят «Дуб князя Андрея», если он им мешает… Я не смогу сегодня… Сходи, потом расскажешь… Ты читала рассказ Бунина «Лёгкое дыхание»?
– Может, и читала. Не помню.
– Там девушка… Тоже Оля… Оля Мещерская… Её убил человек, который её очень любил. Ты похожа на неё…
Оля рассмеялась, покраснела.
– Нет уж, – сказала она с грустью. – Меня никто не полюбит настолько, чтобы убить… Сейчас не любят так. Просто убить могут… Из-за плеера… Но из-за любви – нет!
«Это время не хуже и не лучше, чем все другие времена. Просто другое время…» – подумал Платон.
Теперь голова и сердце его смотрели друг на друга если не враждебно, то осуждающе. Сердце страдало и умирало, как только чувство потери, потери навсегда, осознавалось как реальность, а голова чётко фиксировала и анализировала детали, и осуществляла это с убийственной холодностью и цинизмом.
– Ты никогда не любил её, – слышал он голос внутри себя. – Ты удовлетворял с ней свою похоть. Ты пользовался её огнем, её талантом, её гениальностью… для удобного общения, для проверки своих фантазий. Она была для тебя и критик и редактор. Да, она не была твоей прачкой, не штопала тебе носки. Да, ты готовил обед и мыл посуду. Бегал по магазинам. Работал с утра до ночи. Но ты всегда имел возможность общаться с ней, с единственным человеком, который не хотел понимать тебя, а просто любил. С талантливой, щедрой, великой женщиной общался ты. Она – одна в мире – старалась избавить тебя от пошлости, от усталости, от переменчивости настроений… Она восхищалась твоими возможностями и страдала от твоего несовершенства. Ты создал стиль жизни, удобный для тебя. И теперь плачешь не о ней, а потому, что остался один. И теперь не знаешь и никогда не узнаешь, сколько сора в твоей голове, в написанном тобой. Сколько сора в твоих мыслях. Она охраняла тебя. Бросалась отважно в драку, чтобы спасти твою душу. А как она стояла рядом с тобой во время чтения утренних и вечерних правил! Поддерживала твою угасавшую веру.
Ты не любил её! Ты почитал её, как судьбу! Счастливую судьбу! Ты восхищался ею и гордился. Но не любил. Всегда из-за обиды мог встать и уйти из дома… И никогда не возвращаться. Ты не любил её! Ты никого никогда не любил. Даже себя…
Память остывала, как печь в избе в начале зимы. Было холодно, сыро и пусто. Но кирпичи печи ещё хранили вчерашнее тепло. Остывала. Память остывала. Остывала. Остывала.
Он засыпал.
И приходили к нему во сне женщины, которых он любил, в то счастливое время, когда была жива Ульяна. Растянутый во времени гарем… Приходили ласковые и печальные. Приходили прощаться с ним. Потому что для них не меньше, чем он сам, чем его личность, важно было соперничество с такой женщиной, с такой планетой, какой была Ульяна. И боялись наяву приходить, боялись её ревности. И гнева её боялись.
Любимые им женщины приходили во сне прощаться с ним ласково и целомудренно, как и подобает на поминках. Он для них был частью Ульяны. А теперь он – часть расчленённого трупа… Они позволяли себе лишь поцелуй. И то – в щёку или в лоб. Только одна рванулась, обняла его и смеялась, чувствуя, как наполняется он желанием, желанием плотским. Но была осуждена подругами и исчезла. Успела сказать:
– Не терзай себя. Вы с Ульяной были прекрасны – дух захватывало от высоты. Храни это. Я тоже плачу…
Пусто… Пусто… и бессмысленно измерять пустоту словами…
Он вдруг почувствовал одиночество, которое испытывал герой его первой короткометражки, заточенный на полгода в испытательную капсулу для проверки, сколько может выдержать человек, лишённый общения с другими людьми, когда ни мышь, ни муха не могут разрушить скорлупу одиночества… Но и мух не было. И мыши все затаились, кричи не кричи… Вой не вой…
Он просил у Ульяны прощения: «Я самодовольный… Я грубый… Только теперь замечаю, сколько раз обижал тебя… Прости, если сможешь…»
Заверещал мобильник. Пришла эсэмэска.
«…Я только что вернулась из страны твоей юности. Лишь сегодня узнала, что Ульяны нет. Хожу по лесу – плачу. Сегодня в Грузии было землетрясение. Говорить трудно. Как ты? Если есть силы, напиши.
Скорблю».
Платон, даже страдая, по привычке обдумывал новый сценарий.
Он мечтал наконец стать не только номинантом Венецианского или Каннского фестиваля. Для этого он решил пригласить на роль молоденькой девушки стареющую звезду, известную на Западе, жену элитного режиссёра, знаменитого ещё с брежневских времён. Эту роль они писали для Лизы Пантыкиной, которая удачно сыграла у него в фильме «Газ и немного страха». Но ему очень хотелось попасть в обойму близких к президенту деятелей культуры, которых нельзя критиковать. Хотя у него уже было несколько правительственных наград и все возможные в России звания, он был как бы режиссёром полусвета. Его можно было пнуть в выступлении на съезде и даже поиздеваться в газете. А «Пальмовая ветвь» Каннского фестиваля открывала ему двери сильных мира сего. Гарантию неприкосновенности.
И вдруг, как удар молнии, – Ульяна.
Ульяна! Скулю, как слепой щенок. Зачем ты оставила меня одного в этом холодном мире? На хрен мне всё это без тебя!
Он вспомнил, как уходил из сада её души в горы. Как уходил к мосту через реку, отделявшую её мир от остального, реального мира, а она стояла у калитки и смотрела ему вслед. А он уходил не оборачиваясь. Хотел обернуться, и вернуться, и поцеловать её, но уходил не оглядываясь, чтобы не расслабиться, не вернуться совсем, чтобы не забыть горы и друзей, чтобы не забыть свою казацкую вольницу.
Вспомнил, как мягко, во времена безденежья, укорял её, когда она слишком долго рассказывала кому-то по мобильнику о жизни своих кошек.
Вспомнил о других мелочах, которых было стыдно теперь.
Хроническая нищета мельчит души людей. Только Ульяны это не касалось, она так и не научилась считать…
Она была щедра, как трава. К любимым и нелюбимым.
…Уход Ульяны, кроме тоски, растерянности и непонимания, произвёл в душе Платона неожиданную перестройку времени.
Ульяна воплощала в себе единство настоящего, прошлого и даже, хотя и в меньшей мере, – будущего его жизни. Теперь, после того как она покинула землю, прошлое вдруг стало далёким прошлым. Чужим и чуждым. Он вспоминал теперь последние десятилетия своей жизни как чужую жизнь, как прочитанную когда-то не очень глубокую, не очень талантливую, но амбициозную при этом книгу, которая теперь была лишена реальной чувственности… была мертва… как устаревший стиль…
Вообще у него были теперь сложные отношения со временем и памятью. Некоторые события вспоминались информационно, как сюжет, как рисунок, другие же были насыщены цветом, наполнены предметами, светом и сумраком, даже запахами и памятью того ушедшего в прошлое тепла… Великая война, которая выпала на его детство, была совсем рядом, вчера… Эти четыре года были самыми значительными в его жизни… А фестивали, съёмки, честолюбивые мечты были далеко, как будто из другой, чужой истории.
Разбирая фотографии Ульяны, он был поражён тем, что увидел. Образ, который являли фотографии, и тот далёкий, почти забытый, вытесненный траурными фотографиями образ были несовместимы, не состояли даже в дальнем родстве…
Фотография содержит только один момент жизни, а образ любимого человека складывается во времени и пространстве. Живой портрет содержит в себе все моменты жизни от рождения до смерти. Он многомерен. Однако талантливый художник, в отличие от фотографа, запечатлевает вневременной образ человека, вневременные его характеристики…
…Словно и не образ это, а душа, река в осенних сумерках.
Только в полутьме мнится, будто бабочка порхает на периферии зрения. Где-то у виска…
Любимый образ, переменчивый и живой, вытесняется фотографией. Становится знаком… иконкой… ярлыком…
Ты не была такой! Ты была другой! Забыл какой. Но другой! Живой!
Я вдруг лишился сил. Не могу написать ни строчки. Потому что писал, чтобы развлечь тебя, заслужить твою похвалу. Чтобы состязаться с тобой… Я ведь любил тебя… Как женщину… Как поэта… Как верную жену… А ты любила меня… Мы соперничали с тобой всю жизнь и радовались победе, я – твоим победам, ты – моим. Всю жизнь. С юности. Не могли решить, кто из нас главней. Ты была главная, ты! Но, чтобы не ранить моё мужское самолюбие, уступала мне первенство… При твоей-то гордости!
После этих самоистязаний, этого шахсей-вахсея, Платон лёг и попытался заснуть. Он расслабился. Постарался не думать ни о чём. Но сон не приходил. Какая-то преграда остановила его на грани сна и яви. Там, в пограничной зоне, происходил таинственный процесс превращения икры в головастиков и мальков, почки в цветок, винограда в вино, тревог и болей душевных – в метафору и молитву…
Перед рассветом он всё же заснул. Впервые спал нормально и чувствовал себя почти здоровым.
Его мозг искал выход, и это было, по его разумению, признаком жизни. Началом другой жизни… Совсем другой… Более лёгкой и поверхностной – праздничной жизни, которую он раньше не ценил, не замечал, а если замечал, то отворачивался, заглушал в себе, стыдясь Ульяны.
Он надеялся, что съёмочная площадка вернёт ему адреналин, он надеялся, что маленькая гримёрша – или хлопушка – вернёт ему волнение. Он надеялся, наконец, что, переспав с актрисой, он снова станет мальчиком влюблённым…
Но!
Спокойно было, как на Луне… И безлюдно… Всё по Станиславскому. Но мертво. Всё было правильно, но не работало. Боль не проходила…
Литейный забит был машинами. Платон бежал вдоль решётки Екатерининской больницы к переходу, когда молодая женщина остановила его. Это была та самая, в тех же высоких мягких сапожках… Лиза Пантыкина… Его актриса…
– Простите, вы, наверное, художник?
Он ошалело уставился на неё.
– Не может быть! Платон Алексеевич!
– Вы?! Я только что думал о вас!
Она запнулась, посуровела. Видимо, тоже думала о нём…
– Тут где-то должно быть открытие выставки… «Цветовая коррекция»… Так, кажется?
Платон вдруг почувствовал себя молодым хулиганистым типом, каким был когда-то, ещё до встречи с Ульяной.
– Пойдемте. Только не «коррекция», а «эрекция»! Цветовая эрекция!
Он схватил её за руку и поволок через поток машин, не дожидаясь зелёного…
– Я не могу так быстро… Каблуки…
– Опаздываем…
Машины, скрежеща тормозами, пропускали их.
– Вы…
– Я.
Он искоса осматривал её, радовался её молодому теплу. Её трепету. Смущению. Радостному испугу. Она помолодела. Не было прежней усталости в глазах. В ней было притяжение красивой молодой самоутверждающейся женщины… И при этом успешной женщины. Судьба перевела её на орбиту успеха…
Когда он видел утром в зеркале постное, заплаканное своё лицо, возмутился, не жалел, смеялся над собой. А потом рассердился и укорял покинувшую его Ульяну:
– Ушла. Ушла… Ушла… Всё говорила – умрём вместе. А сама ушла. Оставила меня… Порхаешь в райском саду. А я хочу умереть. Но не умираю. Зачем плодить на земле печаль и грех самоубийства?! Пока смерть сама не взяла, нужно жить. А там видно будет. Встретимся в загробном мире. Поговорим. Есть о чём… В раю или в аду… Или не встретимся?
Там ведь нет смысла встречаться ни с кем, кроме Бога…
Он, не стесняясь, радовался встрече с Лизой, её молодому теплу. Надоело прессовать себя скорбью. Требовалось общение со здоровым человеком. Хотя бы на время забыться и обрести в ней себя. Вернуть себе жизнь… Хотя бы иллюзию жизни…
Там ведь нет смысла встречаться ни с кем, кроме Бога…
…На выставке толпился яркий народ. Бородки, хвосты, грубые ботинки, штаны, состоящие в основном из карманов…
– Платон… Алексеевич…
– Можно без отчества, – предложил он. – Мне ещё только сорок.
Она кивнула, хотя знала, что врёт.
Когда они вошли в галерею, уже кончались речи.
Экспозиция была яркой, но поверхностной, легковесной. Все картины были как цветовые взрывы. Обилие бесшумных взрывов оглушало.
Пора было разрезать ленточку.
Почётный член уже щелкал ножницами.
– Не надо ножницами! – вдруг громко, с каким-то неистовым весельем, закричала высокая, яркая, как подсолнух, девица. – Пусть кто-нибудь перекусит!..
И заполнила пространство галереи здоровым гусарским хохотом.
Глеб Посудников, давний знакомец и приятель Платона, тот самый, что в молодости играл в курсовой работе Платона поэта, заключённого на полгода в испытательную капсулу, громадный, черноволосый, усатый, выдвинулся из толпы, приобнял «подсолнух» за талию, перехваченную солдатским, с пряжкой, ремнём.
– Тише, Майка, тише!..
– А что?! Ты и перегрызи! Слабо?
Он нагнулся над ленточкой. Зажал крепкими зубами красную ткань, рванул другой конец рукой. Ленточка распалась, а Глеб Посудников распрямился, держа в зубах красный ошмёток. Лицо его покраснело. Он выплюнул красную ленточку и обнял Майку, красуясь.
Раздались аплодисменты. Публика закричала «Ура!».
– А когда водочку вынесут? – Майка прижалась на секунду к Глебу. – Ты дал им денег на водку? Дал?
– Дал. Всё оплачено!
Платон знал эту девицу. Она переходила из рук в руки среди мужчин питерского полусвета – академиков, преуспевающих художников и интеллектуальных бизнесменов.
Они спали с ней поочередно и вне очереди. Оставляли автографы на стене над её ложем. Она гордилась этими закорючками.
Это было похоже на групповуху.
Платон считал такую игру друзей проявлением запрятанного в глубине души каждого десятого мужчины голубого комплекса. Они как бы имели через эту, общую для всех женщину друг друга.
У женщин всё по-другому, хоть и обозначается теми же словами.
Женщина, как правило, чувствует себя в жизни словно в большом вселенском гареме, где соперничает с другими жёнами за близость с хозяином гарема или публичного дома. Женщинам важнее, чем мужчинам, соперничество. Унизить более счастливую, более яркую и красивую. Унизить более успешную и более умную. А я лучше!
Это повышает самооценку.
Посудников при коммунистах был членом идеологической комиссии обкома, курировал «Ленфильм», театры и библиотеки. Они с Фолтиным были ровесники и даже с симпатией относились друг к другу в то недавнее и такое далёкое время. Молодой Посудников даже снялся у Фолтина в его курсовой работе, в роли дублёра космонавта.
В начале девяностых Посудников под аплодисменты и ликующие крики толпы сжёг свой партбилет. Его страстью стали женщины и машины. Он открыл для себя женщин поздно, после сорока, потому что партия не позволяла своим членам внебрачный секс, а с невестами как-то не получалось. Первый сексуальный опыт он получил в восьмом классе. После вечеринки. Ему не очень тогда это понравилось. И вдруг перестройка, а потом и девяностые годы, когда всё было можно. Он сжёг партбилет на Дворцовой площади под одобрительный гул многотысячного митинга. Сжёг без ненависти, без сожаления. Так было надо. Он понимал искусственность той ушедшей жизни, того устройства и тех требований.
Он полюбил женщин.
Но автомобили он любил больше.
Первую машину он купил, когда ему было восемнадцать. Это был горбатый «москвич». На нём он исколесил Прибалтику и Крым. Попадал в аварии. Переворачивался. Лежал в больнице и снова садился за руль. Но гонщиком не стал. И в органы не пошёл. Был журналистом на телевидении. Потом… Потом были другие машины в другие времена и за другие деньги.
Он занялся бизнесом. Когда Ельцин раздавал богатства страны, чтобы создать новый правящий класс, Посудников отхватил себе порядочный кусок и стал олигархом местного значения…
Он пытался наверстать упущенное во времена партийной молодости, когда за измену жене можно было получить строгача и забыть о карьере. Партия сдерживала его. Но при этом обеспечивала поездки на Запад, где можно было оттянуться. На фестивале в Варне ему приглянулась молоденькая топ-модель из Африки. Посудников пригласил её к себе в номер. В самый патетический момент она выскользнула из-под него и стала кататься по ковру, крича и стеная.
Он тогда жутко испугался её криков. Испугался огласки. И решил больше не искушать судьбу. Не выходить в своих сексуальных набегах за границы Восточной Европы, где женщине можно заткнуть рот или дать по морде. А потом компенсировать моральный ущерб дорогим подарком или деньгами…
…Не размыкая рук, Платон и Лиза шли от стенда к стенду.
– Скучища, – говорил Платон. – Всё это было… Сто лет назад… Да, вроде бы всё умеют ребята… А жизни нет… И культура живописи утеряна… Серые ученики серых учителей… А то и вообще дальтоники…
Триптих – рождение Апельсина. Если смотреть в обратном порядке – поглощение апельсина толстой женщиной. Оранжевый зрачок в окружении лохматых ресниц. Потом головка апельсина, вылезающая из чрева. И, наконец, апельсин меж ног толстухи.
Платону стало тоскливо и страшно.
Думал он при этом примерно так.
Большинство людей ищут в искусстве развлечения, лекарства от скуки. Довольно много и тех, кто хочет пополнить свой терминал информации, чтобы быть в курсе всех модных событий. Но есть и такие, кто ищет в фильме, прозаическом тексте или стихах, в живописной картине или музыке – ищет энергию для поддержания жизни.
Можно ловко написать сценарий. Можно умело справиться с рифмами и ритмом в стихе. То же с живописью и музыкой. Но если нет энергии, заряжающей людей, дающей людям силу жить дальше, это обман, сродни проституции… Энергия – самый дефицитный товар сегодняшней жизни. Энергетика искусства способна вылечить человека от самых страшных болезней. Или убить. Как живая и мёртвая вода. Всем знакомо холодное пение. Холодная проза… Холодные стихи… Холодные фильмы… Бессмысленные холодные полотна… Это всё афера.
Хуже модифицированной картошки. Вреднее модифицированной сои. А нас пытаются уверить, что это высшее достижение духа. Что эти грубые муляжи и есть жизнь…
Платона охватила невыносимая тоска.
– Неужели я тоже такой пустой и холодный?! Смердящий труп в красивом дорогом гробу… Дерьмо в серебряном окладе. Зачем тогда жить?!
– Что с вами? – испуганно спросила Лиза.
– Ничего… Всё нормально. Голова закружилась.
Он с трудом разжал пальцы на её плече.
Она виновато смотрела на него. Растирала ущемлённое его рукой место.
Они подошли к картине, где большой – с быка – кот сидел на облаке и смотрел на город, а там внизу бегали маленькие человечки.
– Это Георгий Ноздровский…
Лиза внимательно рассматривала картину.
– Он ученик моего отца… Я помню его мальчиком. Такой ангелочек. Он очищал палитру от фузы… Мыл кисточки…
– Ваш отец художник?
– Он умер двенадцать лет назад. Пантыкин… Леонард Пантыкин.
– Вы дочка Пантыкина?! Как я раньше не догадался? Такая редкая фамилия… Вы по-прежнему работаете в банке?
– Да… Жить-то надо.
– Не снимаетесь?
– Нет. Жду, когда вы пригласите.
– Приглашу. Мы ведь с Ульяной для вас написали…
– А мне сказали, что вы пригласили Мину Соболевскую.
– Она не может. Врачи запретили ей молодеть… Она, может быть, получит роль вашей бабушки. Скоро будет работа.
Он уже решил пригласить её – Лизу Пантыкину на главную роль. Отказать стареющей звезде. Бог с ним, с Каннским фестивалем.
Она благодарно улыбнулась.
К Платону подскочила Натали Трике А. Пистон. В шелковой косынке, повязанной на пиратский манер, в юбке, косо срезанной по подолу. В ней трудно было узнать девочку из зоопарка, ту, что когда-то играла в его первых картинах… Платон расцеловал её, прижал к себе. Она вышла замуж за русского француза, потомка русских белогвардейцев, который увидел её на фестивале в короткометражке Платона. Натурализовалась. Сменила ещё пару мужей. Стала известной галерейщицей.
– Здравствуй, Наташа!
– Как тебе выставка?
– Нормально… Но! Не вижу ни одной таблички «Продано»…
– Нахал! Это ведь только начало. А это кто с тобой? Племянница? – Она ревниво разглядывала Лизу. Нагло разглядывала.
– Моя невеста.
Лиза возмущённо вскинула глаза на него, но промолчала.
– Это Лиза Пантыкина, дочь Леонарда Пантыкина… – уточнил Платон. – Актриса.
Натали Трике А. Пистон уважительно улыбнулась, но ушла, зло сверкнув глазами.
Платон взял Лизу за руку и повёл через зал.
– А вы хулиган, – сказала Лиза.
Платон подмигнул ей весело.
А сам думал, как изменились его друзья и знакомые за эти двадцать пять лет. Наташа была тогда такая замкнутая, автономная, непредсказуемая. А теперь она была раскованна, свободна, даже агрессивна. Глеб Посудников больше не писал стихов, ворочал большими делами, но по старой памяти почитал искусство.
– Вы не видели Ноздровского? – обратился Платон к лохматому толстяку.
– Нет, не видел.
– Вы не видели Ноздровского? – спросил Платон девушку в разрисованных шароварах.
– Крутился тут…
– Вы не видели Ноздровского?
– Только что был здесь… Да вот он…
Ноздровский стоял рядом с его сыном, Ростиславом Фолтиным. В чём-то горячо убеждал его.
– Поздравляю. Чудесные работы, – сказал Платон. – Особенно эта… «Кот на облаке».
– Купите, если нравится, – вскинулся Ноздровский.
Он был худощав и курчав. В ухе серьга. Козлиная бородка, а-ля Гребенщиков.
– Как ты чувствуешь себя, отец? – спросил Ростик.
– Нормально, Ростик. Заходи хоть. Поговорить есть о чём. Лиза, познакомься, это мой сын… Сколько просишь? – спросил он Ноздровского.
Платон заметил, как вспыхнули глаза Ростика, когда он знакомился с Лизой. Он покраснел. Поцеловал Лизе руку.
Она насмешливо присела.
– А я ничего не прошу, – ответил Ноздровский.
Лиза была в смятении, судьба посылала ей выбор – один и тот же человек двоился в её глазах – пожилой и юный. У юного было больше физиологической энергии. Пожилой излучал доброту и тепло. В нём была надёжность. Он был идеалом отца. А молодой – идеалом сына.
«Вот если бы обоих!» – подумала она и покраснела.
– Ладно, не горячись. Так сколько? – спрашивал Платон.
– Пять тысяч рублей.
– Ну, ты даёшь!
– Ладно, три тысячи…
– Ошибка, Георгий! Для бедного и триста долларов слишком дорого, а для богача – стыдно вешать на стену холст дешевле ста тысяч… Попробуем продать твоего кота за двадцать тысяч… евро… То есть почти в сто раз дороже. Но мне пятьдесят процентов! За хлопоты… Согласен?
Ноздровский недоверчиво улыбнулся.
– Я знаю, что все киношники – жулики… Но двадцать тысяч евро!..
– Именно двадцать тысяч евро. И ни копейкой меньше…
Платон не узнавал себя. Его охватил азарт игрока. Почти забытые им способности, которых стыдился, когда рядом с ним была Ульяна, вдруг проснулись в нём. Ликовали.
– Отец, кто эта женщина? – спросил Фолтин-младший.
– Ты что, не узнал! Это моя актриса, Лиза Пантыкина.
– Я знаю. А для тебя? Для тебя лично – кто?.. Мне она дико нравится.
– Перебьёшься, – ответил отец. – Она не для тебя.
Конечно, он пожертвовал бы любой женщиной для счастья сына, но его частые увлечения, влюблённости не давали надежды на серьёзное чувство.
Платон подошёл к Посудникову:
– Глеб! Пойдем, покажу тебе одну вещь. Единственное, что есть на выставке интересное.
Он подвел Посудникова к экспозиции Ноздровского. Глаза Платона блестели, как линзы.
Лиза хотела, воспользовавшись тем, что он отпустил её руку, исчезнуть, но Платон успел перехватить её кисть и по покорности, ставшей вдруг явной, понял, что она принимает его. Не сына. Готова подчиниться ему… Ещё опасается, но уже надеется – а вдруг это любовь, вдруг это счастье, избавление от скуки и одиночества!
– Вот «Кот на облаке»… Немножко под Филонова… Помнишь его «Животных»?.. – увлечённо говорил Платон.
– Забавно. – Посудников молчал, вглядывался, рассматривал…
Непонятно было, нравится ли ему этот кот или не нравится, но заинтересованность была. Такая старая привычка руководящего партийца.
– Забавно, – повторил он.
– Да не забавно! Гениально!
Майка-Подсолнух приплясывала и дразнила кота:
– Кис! Кис! Кис!.. Мяу!
Она смеялась так заразительно и простодушно, что люди, оглянувшись, тоже начинали улыбаться.
– Посмотри, какие у него глаза!.. Глеб!.. Ну посмотри!..
– Вылитый Стёпа!
– Кто? – спросила Лиза.
– У меня кот Степан, – объяснил Посудников. – Английский голубой.
– Критики предсказывают Ноздровскому большое будущее. – Платон был подчёркнуто серьёзен, не реагировал на шуточки.
Экстрасенс увидел бы безумную ауру, которую излучал он. Протуберанцы всех цветов окружали его голову.
Майка кинулась к олигарху:
– Стас! Купи!.. Пожалуйста!.. У меня скоро день рождения!.. Купи!..
Пёстрый народ собирался вокруг. Фотографировали.
– Уверен, что завтра уже ничего не останется на продажу, – умело обострял ситуацию Фолтин.
– А почему бы и не купить! – решил Посудников. – Сейчас на одну картину станет меньше. Сколько он хочет?
Фолтин задумался.
– Двадцать тысяч евро… Но её настоящая цена в пять раз выше…
– Позови его. Я хочу познакомиться с ним лично, – сказал Посудников.
– У него плохой характер, – предупредил Платон.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.