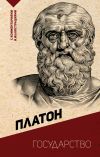Текст книги "Послевкусие страстей и превратности мнимой жизни"

Автор книги: Вадим Михайлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Он успел заметить за штурвалом на месте водителя человека, голова которого была гладко выбрита.
На месте кондуктора во втором вагоне сидела Лиза Пантыкина. Она узнала Платона, вскочила и, хватаясь, чтобы не упасть, за металлические скобы сидений и верхние стойки, побежала от начала вагона к его концу. Из амбразуры согнутой руки глянул на Платона картинно красивый и беспощадный глаз.
Она прижала своё молодое, наивное и радостное лицо к стеклу и отчаянно махала Платону рукой, приглашая его воспользоваться счастливым совпадением их жизненных путей.
Трамвай остановился и раскрыл все двери, ожидая Платона.
Он заторопился, затрусил нелепо, боясь поскользнуться, и уже схватился было за блестящие поручни, когда двери закрылись, больно прищемив ему руку, а тяжёлое ночное чудовище рвануло вперёд.
Платон стоял, тяжело дыша, растирая ушибленный лоб.
Трамвай проехал немного и снова остановился. И двери его снова с лязгом распахнулись.
Платон, ковыляя, поспешил к остановке.
Трамвай стоял посреди заснеженного проспекта, и огни внутри его, поморгав, погасли.
Платон заглядывал через стекло дверей в кабину водителя, но там тоже никого не было.
Он вытащил пачку денег и пытался сосчитать их. Ветер вырвал их у него и унёс. Осталась одна тысячерублёвка.
Он махал ею, как флажком.
Остановилась старая «копейка»…
– Куда? – спросил бомбила, когда Платон уселся позади него.
– Домой, – сказал Платон.
Бомбила понимающе кивнул.
– Вы Посудников? – спросил Платон, удивлённо разглядывая его..
– Нет, – ответил тот с вызовом, и было непонятно, правду он говорит или прикалывается.
Он аккуратно вытащил из замёрзших пальцев Платона банкноту и спрятал её в бардачок.
Платон успел заметить там револьвер.
Платон надвинул шапку на уши. Левую руку спрятал в карман куртки, а правой массировал ушибленную голову. Он нащупал в кармане николаевский пятак. Тот, что Ульяна нашла два года назад, вскапывая огород. Приложил его ко лбу.
– Что это у тебя? – спросил водила, не отрывая глаз от скользкой дороги.
– Пятак…
– А чего на лоб лепишь?
– Говорят, помогает…
Эта езда по застывшему от мороза Петербургу казалась бесконечной.
Но вот «копейка» притормозила у подъезда…
Платон долго нажимал на блестящие кнопки, но дверь не открывалась.
Он отошёл от двери.
Только одно окно светилось.
Он смотрел на это окно и вдруг по-детски жалобно позвал:
– Ульяна! Ульяна! Ульяна!
На чёрной стене стали зажигаться и другие окна, и настороженные лица пытались разглядеть, кто это там кричит, не убивают ли кого…
Он проснулся.
– Ульяна, – позвал он.
– Да. Что, родной?
– Ульяна, мне страшно, – сказал Платон.
– Всё будет хорошо… Ты выздоровеешь…
– Да я не о том, – рассердился Платон. – Мне страшно… Я подозреваю, что наш язык…
– Что?
– Я подозреваю, – сказал он хриплым голосом. – Я подозреваю, что наш язык устарел…
– Ну вот, – удивилась она.
– Понимаешь, я ведь ищу новые ощущения, чувства, новые краски в прозе. Внутри меня появляются картины… эпизоды вымышленной, мнимой жизни. Я хочу записать их, перевести на русский язык, перебираю слова и вдруг вижу, что язык самовольно меняет не только оттенки мысли, но и саму мысль, как будто это на съёмочной площадке актёры меняют самовольно написанный мной текст.
– А на каком языке ты думаешь? На грузинском? Или на русском?
– Я думаю на своём личном языке. В нём нет слов. Без них всё понятно и ясно. И красочно. Но как только пытаюсь перевести увиденное мной… смысл слов меняется… непонятно, по каким законам… начинается чертовщина… Вместо своего на бумаге возникает – чужое… Бывшее в употреблении… Жалкое…
– Значит, это ложный путь. Порочные парения мысли… Не надо об этом думать, – сказала Ульяна. – Если язык отвергает твои замыслы – они искушения. Или ты не дорос до них. И потому они не нужны тебе… Никому не нужны… Ищи слово, и оно выведет тебя из лабиринта… Но берегись суесловия… Суесловие – самый страшный яд…
А сама подумала: «Он выздоравливает! Спасибо, Господи, что принял мою молитву!»
– Ульяна, – продолжал Платон, – но ведь так интересно двигаться в полной тьме, на ощупь… Искать… Находить… То, что сегодня кажется искушением, завтра станет обычным…
Платон ещё хотел рассказать Ульяне странный сон с трамваем, но его удерживало вторжение в его подсознательную жизнь другой женщины… И он промолчал…
Через два дня тромб прирос. Хирург сказал, что произошло чудо.
Платон больше не сомневался, что Ульяна любит его… Он и раньше знал, что они привязаны друг к другу. Но это была любовь молодых и здоровых людей. Они были любовниками, партнёрами по бизнесу, друзьями. И вот пришло время нездоровья, время болезней. Время проверки чувств… И оказалось всё не так, как он думал. Он ошибался в ней… Преувеличивал её суровость. Принижал её верность и благородство… Сводил их отношения к рефлексам. А она была благородной и верной. Это было вроде хорошо, здорово, великолепно! Но его удивляло, почему нет радости у него на душе по этому поводу. Просто отпал ещё один неясный и мучительный вопрос его жизни, как отпадает короста…
Он подозревал, что мучающие нас вопросы – естественные и необходимые спутники и признаки жизни нормального человека. Без них невозможно жить… Без них скучно и пресно. Без них – смерть…
Платон снова бегал по магазинам. Покупал семена и саженцы.
Они готовились к поездке в деревню. Ему разрешили вести машину, но обязательно отдыхать через каждые сто километров… И, отдыхая, держать больную ногу высоко-высоко, устремив её к небу.
В этот день его попросили приехать на «Ленфильм», чтобы поправить диалоги на озвучании.
…Он не проехал и половины пути до студии, как зазвонил мобильник.
– Платон. Мне не очень хорошо, – услышал он голос Ульяны. – Приезжай.
– Что с тобой?
Она не ответила, но трубку не выключила. Он слышал её дыхание. Оно внушало страх. Как будто кто-то другой, не она дышала.
– Пыхни нитроминт… Прими корвалол…
– Платон, приезжай скорее.
…Он набирал код.
Нет большего одиночества и свободы, чем в тесном механическом прямоугольнике лифта.
Фолтин перекрестился.
Лифт застрял между этажами.
Платон вылез на площадку второго этажа. Распрямился. Тяжело поднимался по широким и грязным ступеням.
Он привык жить в этом городе контрастов.
Шикарная парадная лестница то и дело упиралась в облупленные, но глазастые двери квартир. И кто-то за этими дверями видел смутно и искажённо пожилого человека, который поднимался по лестнице.
«Звонок не работает. Стучите» – предупреждала записка.
Он долго возился с замком.
Ульяна стояла, держась за косяк двери.
– Я вызову скорую, – сказал он.
– Не надо.
Он уже набирал номер скорой.
Ульяна медленно сползала на пол.
Он бросил трубку.
Пытался поднять Ульяну.
Но она стала такой тяжёлой!
Он уложил её на полу.
Снова набирал скорую.
Ульяна лежала между комнатой и коридором, раскинув ноги и руки.
Последние её слова были:
– Я не чувствую левую руку…
Ульяна закрыла глаза и больше не открывала их.
И всё.
Ни страха. Ни жалобы. Ни просьбы…
Кошки обходили её, как неожиданно возникшее препятствие, как неодушевлённый предмет…
Перед лицом смерти на них нашла стихия блуда.
Кот оседлал Узу и ездил на ней вокруг умирающей.
Уза выскакивала из-под него с воплем и каталась по полу. А потом всё сначала.
Они не чувствовали присутствия смерти.
А она стояла рядом, и Платон ощущал её прохладное дыхание.
Она стояла невидимая и смотрела на них.
Он понимал её тихую скорбь, её деликатную молчаливость.
Ульяна теряла живое тепло…
Скорая опоздала… на четверть часа…
Смертушка могла взять их всех вместе, устроив взрыв газа, или только его и Ульяну, но оставить жить их сына…
Но видимо, ей, смертушке, не хватало драматургических поворотов и пространства событий для завершения этого длящегося долгие годы романа.
…Ощущение неживого тела не было острым, но отсутствие душевного контакта вызывало тоску и понимание напрасности попыток вернуть отлетевшую душу в нашу, земную реальность.
Он не заметил, как отлетела её душа, хотя ждал этого мига, чтобы проститься с ней.
– Мы встретимся? – спросил он.
И никто не ответил ему.
Его знакомый, полковник, с которым они ездили иногда на зимнюю рыбалку, рассказывал, как сидел однажды ночью у постели умирающего отца и вдруг увидел в его лице перемену – знак отлетевшей души. После этого он стал ходить в церковь и скоро уволился из органов…
Фолтин ждал участкового, который должен был записать его показания по случаю смерти Ульяны, а потом нужно ещё было ждать машину, на которой её увезут в морг.
Участковый настрого запретил передвигать тело до того, как его унесут. А пока посоветовал накрыть Ульяну простынёй, а на лицо наложить влажную салфетку.
Суетные мысли проносились, как облака на небе при сильном западном ветре.
Платон поцеловал губы Ульяны сквозь простыню. Её лицо было ещё тёплым.
Он прижался к ней и молился.
– Не уходи! Не уходи! Не уходи! Умоляю тебя! Не уходи, милая моя!
Но она уходила. Уходило её тепло. Это тепло согревало его большую часть сознательной жизни. Оно наполняло смыслом его жизнь. Это тепло изменяло его звериную, скотскую душу. Очеловечивало его. Помогало стать лучше, добрее, благороднее, великодушнее. А теперь уходило.
– Эй, подожди, – закричал Платон, видя, как она удаляется, тает в вечерней дымке. – Не уходи!
Она не оглянулась. Только рукой махнула. Знала – видела, как он стоит, оглушённый, в своих горах, у сложенной из камней ограды… А рядом с ним, рядом с её телом, трахаются коты. И призрак большой собаки из кордона на Красной Поляне возник и исчез, не оставляя надежды на объяснение тайны жизни и смерти…
Всё поправимо, пока мы живы… Смерть не поддаётся правке. Она – конец всему…
Он вдруг поверил в это холодно и бесстрастно, не сожалея ни о чём…
А сердце, вопреки разуму, кричало: «Помоги! Помоги ей! Помоги ей, Господи!»
Он поцеловал её руку. Рука была холодная и мягкая. Он поцеловал её в плечо. Плечо было прохладное.
Он развернул её и хотел поцеловать в губы, но она была мертва.
Она не отстранилась.
Она была мертва.
То есть это была уже не она.
– Мама! Мама! – закричал он. – Верни мне мою Ульяну!
Мама! Мама! Мама!
Будто забыл, что они невзлюбили друг друга с первой минуты знакомства.
Будто забыл, что ни матери, ни жены уже нет в живых.
И всё…
Мама, мама, верни мне прошлое…
Наверное, у него был безумный вид.
Он боялся показать свои слёзы.
Сестричка вкатала ему в зад полный шприц успокоительного и заставила выпить полпузырька корвалола.
Но сон не приходил. И понимание утраты было только поверхностное, даже когда приехала спецмашина, чтобы отвезти тело в морг…
Два здоровых парня вынесли из подъезда тело, завёрнутое в простыню. Как большая конфета с закрученными концами. Бросили в нутро труповозки, где лежали такие же белые «конфетки» с закрученными концами.
– Это кто? Кто это умер?
– Да старуха из сотой квартиры.
– Старуха?
– Ну, не совсем старуха. Женщина средних лет. Она стихи сочиняла… Помните это?.. Тара-па-пи-па-па. Тара-папи-па-па. Это её песня…
Ростик остался с Платоном в эту ночь.
Они вспоминали о счастливых годах, когда они были вместе.
Как Платон вёл Ульяну по зимнему ночному Ленинграду к роддому Первого меда…
Как прождал на морозе ночь под окнами родильного корпуса…
Как утром увидел он в окне третьего этажа Ульяну с младенцем на руках…
Как выбирали имя…
Как их мальчик рвал крапиву маленькими своими детскими ручками, чтобы доказать свою любовь к ним, но, когда Платон спросил его: «Как ты любишь нас?» – ответил надменно: «И не стыдно тебе, пап, задавать такие глупые вопросы. Ты же не ребёнок…»
Дети улетают от нас со скоростью света. Взрослеют. Чужеют.
И возвращаются к нам с той же скоростью.
Мы и дети наши из разных времён, и да простят нам они, что мы не можем примириться с их временем. А мы простим им забывчивость…
И друзья, дорогие нашему сердцу люди, удаляются от нас. Различные течения увлекают их судёнышки, плоты и просто спасательные круги… уносят навсегда, и только жизненные катастрофы возвращают нам друзей.
Неожиданная кончина Ульяны Курдюмовой была отмечена траурными статьями в Интернете и газетах. Оказалось, её знали и любили люди не только в нашей стране. Стол Платона был завален телеграммами со всех сторон света…
Актёры, которых выбирала она, давала путёвку в жизнь…
Поэты и писатели, которых выпестовала она, помогла встать на ноги, поверить в себя…
Люди, с которыми пришлось жить в общагах…
Неправда, что в кино пауки в банке!
Неправда, что зависть в искусстве заставляет радоваться неудаче или смерти собрата по перу!
Ложь! Гнусная ложь!
И неправда, что всеми чувствами людей правит только корысть! А если нет корысти, то чёрт с тобой!
Неправда! Неправда! Неправда! Ложь!
В нашем кино замечательные, отзывчивые люди! Родные… Готовые броситься на помощь при несчастье…
Вот они все пришли… Они со мной в горе… Сидят на стульях, лавках… На полу…
При отпевании Эдуард Хиль попросил разрешения у батюшки после службы спеть песни Ульяны.
Они звучали под сводами храма, как церковные песнопения. Их и раньше пели церковные хоры. Это вызывало недовольство властей, и в концертных программках не указывался автор стихов…
Платон слушал знакомые слова. Он был в странном состоянии невесомости. Он готов был взлететь над Смоленским кладбищем, как воздушный шарик, но суетные помыслы держали его на земле, у свежей могилы. Слёзы застыли в глазах. Всё было одновременно реально и нереально. А мозг продолжал фиксировать лица и звуки. Выражения лиц и тональности звуков…
Ходили гулять мы в ту рощицу,
А рощицы той больше нет,
Где анютины глазки таращатся,
Дивятся на белый свет.
Как мы красиво, как ладно шли,
Как люди глядели нам вслед!
Как тихо сияли ландыши
В той роще, которой уж нет…
А в роще трава до пояса,
Вся ночка – закат да рассвет.
Как хорошо и как боязно
В той роще, которой уж нет!
Он первый слышал эти стихи. Они рождались при нём. Он первый радовался им…
…Охрана и милиция маячили среди крестов старого кладбища. На центральной аллее образовалась процессия. Только что похоронили какого-то банкира. Народ расходился. Шли к выходу, к машинам, что во множестве поставлены были на узкой улице.
Водители ждали своих хозяев.
А они проходили по аллее к воротам. Солидные, начальственного вида мужчины и загорелые, молодые парни, траурно нарядные дамы. Молодые и красивые – победительные секретарши…
Ритуальная печаль сходила с их лиц по мере удаления от могилы.
Кто-то закурил, кто-то засмеялся…
Двое рабочих-молдаван принесли временную плитку с именем Ульяны.
Поставили, прикопали.
Проститься с ней пришли актёры, дружившие с ней, известный композитор, с которым они сочинили несколько мюзиклов, старики-альпинисты и несколько юных поэтов из интерната для детей, покалеченных полиомиелитом. Они плакали, эти мальчики и девочки, похожие на сорванные цветы. Пока они стояли, казались здоровыми. У них были такие чистые и страдающие глаза, что Платон отвернулся, чтобы не видели его слёз.
Лиза Пантыкина опоздывала. Бежала по Прямой дорожке среди медленных и скорбных людей.
Положила два ириса. Стояла в стороне невозмутимо и скорбно.
Ростислав приводил в порядок цветы на могиле.
Большой куст шиповника алел ягодами.
Ростислав отряхнул руки, отёр их бумажной салфеткой, потом достал из кармана большой чистый носовой платок и ещё раз тщательно протёр руки.
У него были красные от ночных слёз глаза.
Он увидел Лизу. Узнал в ней актрису отца. Поклонился. Отвернулся. Ему было неприятно видеть здесь эту красивую, молодую, полную жизненных сил женщину.
Он остро жалел отца.
– Иди, сынок, я хочу побыть один.
Ростик не знал, можно ли оставить Платона одного в этом печальном и пышном месте.
Платон пусто смотрел на могилу.
– Пойдём.
– Да, да, уходите… И ты, Рост, тоже уходи… Я хочу побыть один. Я сам доберусь…
– Но… может быть, мне подождать тебя?..
– Не надо!.. Могу я остаться один?! – повысил он голос и тут же устыдился. – Прости.
– Можешь… Ты, папа, прости меня…
Они удалялись по дорожке, ведущей к часовне Ксении Блаженной. Впереди – Ростислав и Лиза, за ними старики-альпинисты…
Это странное медленное шествие замыкали воспитанники Ульяны – поэты из интерната. Все шли спокойно, а этих будто раскачивали порывы сильного ветра.
Но одному ему так и не удалось остаться.
Платон не заметил, откуда он взялся, мужичок этот. Зелёную вязаную шапку комкал в руках. Откуда-то возник и смотрел в глаза Платону преданными, по-собачьи ласковыми глазами.
Фолтин догадался, что появился мужичок этот из жёлтого песка и горы цветов, которые обозначали место вечного упокоения банкира.
– Поговорить не хочешь?
Платон улыбнулся первый раз за эти дни.
– За шкаликом сбегать? – спросил мужичок.
Платон кивнул.
Мужичок не уходил.
– Ну это… у меня денег нету…
Платон протянул ему стольник и ещё полтинник.
Он понимал, что тот мужичонка развёл его, но рад был так легко избавиться от назойливого собеседника.
– Зачем Ты отнял её у меня, Господи?! – закричал внутри его по-детски высокий голос.
Первый и единственный раз в жизни позволил он себе упрекнуть Его, усомниться в Его роковой правоте.
За сквозными кустами стояли трое. Плоская серебряная фляжка переходила из рук в руки.
– Эй, – услышал Платон.
Мужичок вернулся с бутылкой и двумя пластмассовыми стаканчиками.
– Мне тоже хреново на сердце, – сказал он. – Мы ведь учились вместе…
– С кем?!
Мужичок кивнул в сторону холма из венков и цветов.
– Никто не ожидал, что он так приподнимется! Станет олигархом… Серый был. Скупой. А всё равно жалко… Жил человек, нарушал все заповеди… Крал, прелюбодействовал, желал жены ближнего своего, и раба его желал, и машину его желал, давал ложные клятвы… Убивал… А вот завалили – и жалко… Ты пей, пей… Вот так… работаешь, работаешь, потом шлёпнут в подъезде… А у меня трое детей от трёх жен… А что я сделал, кроме детей и горы дерьма?! Кроме дерьма и детей, которые такое же дерьмо моё?.. Ну, спи спокойно, хозяин… Он всё говорил: «В глазах сына вижу свою смерть…» А у тебя дети есть?
– Сын.
– Проблемы?
– Никаких.
– Руки-ноги в порядке?
– Да вроде всё нормально.
Он пошевелил пальцами правой ноги, потом левой. Потом пальцами рук.
– Вроде целы.
– Это самое главное, – сказал мужичок.
Голос у него был знакомый, прокуренный и пропитой, но Платон не мог вспомнить – где и когда он слышал этот голос, vox populi, глас народа…
– Главное – голова, – не согласился Платон.
– Брось ты! От головы только хлопоты. От головы – горе. Читал ведь – горе от ума. Это не я, это умный человек сказал… Говорят, есть животное, которое без головы живёт. И ничего ему… Голову отрежешь, а он всё равно продолжает размножаться… Нет, брат, главное, чтобы руки цепляли, а ноги бегали… А голова не нужна! Не… Радуйся жизни без головы!
– Что ты чёрта из себя строишь! – рассердился Платон.
– А может, я и есть чёрт?
– Тогда сгинь! – приказал Платон.
И тот сгинул. Исчез среди людей и крестов. То ли спрятался в холмике из дорогих цветов на могиле своего школьного товарища.
Мы верим в бессмертие, пока не умирает самый дорогой человек. В опустевшей душе холод и тишина покинутого жилья. Как ни прислушивайся, не услышишь ни поскрипывания паркета, ни вздоха, ни кашля, ни чиха, ни упрека… Не прислушивайся! Не услышишь её дыхания. Глухая тишь. Река в осенних сумерках, когда всё замирает в страхе перед наступающей кромешной тьмой. Только в полутьме мнится, будто бабочка порхает на периферии зрения. Где-то у виска. И любимый образ, переменчивый и живой, вытесняет фотография.
Она не была такой!
Она была другой!
Забываю какой… Забываю, какой она была… Какой она была? Была… Была… Но другой! Живой! Тёплой… А теперь холодная. Прах… Камень…
Ульяна не приходила к нему ни в памяти, ни во сне. Он чувствовал тоску и обиду. Почему ушла и не возвращается? Пустоту, потерю и неутолимую обиду ощущал он. Ведь он молился, чтобы Господь продлил её жизнь за счёт его жизни.
А она, пока жила, просила Господа взять её, а ему жизнь оставить. Или взять их одновременно. И вот он живой, и пульс нормальный, без выпадений. Даже выздоравливает. Однако один. Один в пустоте. Её нет. Ау! Аушеньки!
Может, и взаправду мы нужны друг другу только здесь, а там совсем другие заботы.
Там в свете Божественном – только растворение в Его благодати или мучение в огне.
И никто не нужен.
Лишь совесть терзает в аду…
Лишь благодать под Его крылом – амнезия, утрата памяти земной жизни…
И снова запел мобильник.
– Мне плохо.
– Еду… Вызови скорую.
– Не надо скорую! Я умираю…
Он медленно шёл к часовне Ксении Блаженной. Там, как всегда, было много народу. Люди прижимались к холодным камням, ставили свечи, шевелили губами, произнося слова молитвы… Умоляя… Выпрашивая…
Почти сто лет понадобилось, чтобы чиновники признали её святой. Их возмущало пристрастие её к мужской одежде. Смена имени женского на мужское смущала их. А меж тем слух о чудесной помощи привлекал к её могиле тысячи страждущих. Аnima и animus… Инь и янь… Живая и мёртвая вода… Зерно и почва… Семя и лоно…
Случайная странность безумной женщины? Или в поступке почитаемой в Петербурге блаженной Ксении таится загадка духовного различия мужчин и женщин? Различные виды энергии, которые мы носим в себе и отдаём живому и неживому миру…
Теперь, когда Ульяна покинула реальную жизнь, в Платоне образовалась пропасть, бездна, оползень. Будто половина жителей его внутреннего города оставила свои дома и исчезла, а вторая половина образовала гетто, из которого выход запрещен.
Как будто в один миг из большого города исчезли все женщины и мужчинам некому добывать пищу и дарить цветы. Некому рожать детей. Не для кого совершать подвиги… Не с кем соперничать в благородстве…
Это была другая жизнь, которую он раньше не замечал. Менялся её стиль. Менялось освещение. Сам воздух, которым он дышал, менялся. Становился бурым. Вкус воды был другой. И вкус вина. И заботы были теперь другие. И другие мысли искали другие слова. И другие слова владели его языком и губами…
И вставал вопрос – привыкать к этой новой жизни или уйти из неё?
Смиряться или угодить в психушку?
Там, внутри Платона, эта новая жизнь под штандартами смерти умело вела наступление на прежние привычки, радости, на весь строившийся десятилетиями замок, стиль жизни. Прорывы… Котлы… Сдача крепости…
Приближалась полная капитуляция…
Он всё более убеждался, что настоящая его, его истинная жизнь была заключена в том отрезке времени, когда он жил и общался с Ульяной. Там была высота и бескомпромиссная честность… Не то что не было компромиссов и проступков. Но всегда была честная оценка… Была цель – стать другим… Хоть немного лучше… Хоть немного больше света… Было стремление отречься от низости и подлости, заложенных в нас до нашего рождения…
До их встречи и после её ухода он жил как бы не по своей воле, а по обстоятельствам, как будто преодолевал пороги на лёгкой байдарке. То есть это была не его реальная жизнь, а существование, попытка выжить во что бы то ни стало… Чего бы это ни стоило… Испытание на живучесть… Жизнь тела… Жизнь по Станиславскому в провинциальном театре… Сообразно с обстоятельствами… Совсем другая жизнь…
Он мимоходом по привычке своей запечатлевал контуры памятников и портреты почивших. Одна табличка сверкнула нержавейкой, как зеркало. Он подошёл поближе. Увидел живое лицо, вроде бы чужого человека. Запавшие глаза – заплаканные, узкие – смотрели на него. Он узнал в них, недоверчивых и враждебных, глаза своей матери в последний год перед смертью. Всю жизнь кто-то насмешливый подталкивал его к этому последнему порогу жизни. К последним кадрам… На одном кладбище… В ста метрах друг от друга – та, что дала ему жизнь, и та, что дала ему смысл жизни…
Вспомнил, как мать вопрошала:
– Скажи, скоро ЭТО, сынок?..
– Что это, мама?
– Ну, это… ты знаешь что… Не притворяйся дурачком… Ты знаешь, что ЭТО… Ты знаешь, о чём я…
В неподвижном воздухе висела холодная морось. Она оседала на стены домов и лица петербуржцев, как холодный пот умирающего. Ему казалось теперь, что нет жизни, нет искусства, нет ничего в мире, кроме отчаяния и предсмертной тоски. Всё пошло и бессмысленно.
Нет тебя рядом! Нет губ твоих рядом. Нет рук твоих рядом. Нет ног твоих рядом. Нет живота твоего… Нет рядом силы и благородства твоего. Нет тебя и не будет больше никогда…
…И между тем его память назойливо, как щенка, тыкала его носом в другие времена, и другие картины возникали в его памяти… Женщины, которые были когда-то близки с ним, которые любили его, а он их… Стояли будто на футбольном поле. А он был в воротах. Они забивали ему штрафные и торжествовали… И обнимались… И целовались. И били по мячу…
«А ведь неправильно… – думал он. – Засудили… Это я должен (должен был!) в их ворота забивать… Засудили, суки…»
Когда они пили с Ульяной вино в честь окончания очередной серии, вдруг бесшумно открылась дверь, и в комнату вошли – Василий, Оля, Ксюша, Гюля, Махмудка-Абрек, Ваня, Ирина, искательница правды Кристина, прапорщик Ингрид и даже бизнесвумен Регина…
Ваня погладил Кота, потом подошёл к Платону и сказал:
– Мы не хотим, чтобы вы уезжали от нас, как все эти тётки. Вы единственные, кто любит нас. Не уходите. Будем жить вместе…
– Спасибо, но зачем вам я? – спросил Платон.
– А ни за чем! Просто живите с нами! – закричал Махмудка. – Просто живите с нами навсегда.
– Мы вас любим, – тихо сказала Гюля.
– Ульяна, ты слышишь меня? Где ты? Ау!
…Дождит. Опадают листья. Лихорадит. Ржавеют твои белые гвоздики в бутылке из-под молока. Но в бутонах пробивается белое. Ржавое отрежу, белое оставлю. Нашёл волос твой. Пусть лежит, пусть живёт здесь на столе, в хаосе, в беспорядке бумаг и писем. Пусть живёт здесь.
Сегодня сорок дней, как нет тебя рядом со мной.
Мне не больно, потому что я уверен…
Мне не тревожно, потому что я сильный…
Я не тоскую по тебе, потому что переполнен тобой…
Сегодня у меня людно. Накурено. Приехала Инга. Маленькая Инга устала от большой. Ей жаль тепла, отданного друзьям и не очень друзьям. Ждала сочувствия – достойно, но колюче. Не дождалась. Она беспокоится о своём друге, гениальном молодом режиссёре. Власти ждут от него покаяния, а он не хочет каяться…
Пришел Эрлом. Ему тоже неуютно и холодно. Рассказал сказку.
Было или не было…
Узкая кутаисская улица.
Балконы так близко, что кажется, можно дотянуться рукой до руки соседа…
Нико сказал Вано:
– Я видел сон.
– Расскажи.
– Ты был птицей, а я охотником.
– Ну и что?
– И я понял, что ты и есть птица.
– Ты с ума сошёл, брат! Как я могу быть птицей! У меня руки, а не крылья, волосы, а не перья. Нос мягкий, человеческий. А у птицы клюв…
– Ты птица! – закричал Нико. – Меня не обманешь!
С тех пор Вано стал осторожно думать о смысле того сна. И в своих снах летал над городом. Он с детства мечтал летать, но его не приняли в лётную школу из-за плоскостопия. Он искал в себе сходство с птицами.
– Кто я? Ласточка? Нет! Воробей? Нет. Орёл? Хорошо бы, но нет. Ворона? Удод?.. – Не совпадало. – Я – дятел! – наконец осенило его.
Вано посмотрел на себя в зеркало и поразился сходству. К тому же он любил работать молотком и стамеской. Вырезал на дереве красивые узоры…
Ему хотелось летать.
Он хотел улететь из этого города…
Но жалко было бросать родителей, жену, детей, друзей…
Он редко выходил на балкон, чтобы не искушаться.
Он ходил опустив голову, чтобы не видеть небо, которое искушало его.
Но желание улететь не проходило. Терзало его и днём и ночью…
И наконец он решился…
Вышел на балкон.
Увидел небо. Почувствовал себя счастливым. Почувствовал себя птицей…
Взмахнул руками.
Подпрыгнул.
И…
Раздался выстрел.
– Я же говорил, что ты – птица, – сказал Нико, склонившись над телом друга. Он перезарядил ружьё. – Хотел улететь! Как бы не так!..
…Пришла счастливая Гюльсара после бассейна. Волосы не обсохли. Прыгала с окна на стол и обратно. Бегала по стенам.
Мария пела киргизские песни и играла на губной гармошке.
Пришёл Перч. Сел верхом на стул.
– А вы понимаете по-киргизски?
– Горы! Горы! Горбы верблюдов гордых!
Перч читал свои прекрасные рассказы и тут же переводил их с армянского на русский.
Иван читал свои стихи по-украински, и все понимали.
И не надо было перевода, мы тогда все были вместе, и не было вражды меж нами. А он, Иван, ещё не был политиком. Он мог стать великим поэтом. Вторым после Кобзаря. А стал политиком.
Я варил кофе и сосал трубку. Хороший табак «Золотое руно»!
На мне шарф, тот, что я хотел подарить тебе или твоей бабушке. Пока поношу. На голове у меня колпак с кисточкой.
Пусть зубоскалят!
Почему нет тебя, Уля? В этот сороковой день после твоего отъезда к маме в Чебоксары.
Нет тебя. Но я чувствую твой взгляд из тени. Ты незримо сидишь, как всегда, в уголке, как всегда отдельно, и смотришь на нас.
Ты так переменчива и неожиданна, что иногда становишься своей соперницей. А теперь нет тебя здесь. И образ цельный, перестаёт двоиться.
С Ингой пришёл странный человек – Лев Глебыч. Он старше нас. Милый. Умный. Спокойный. Он сразу вписался в нашу молодую компанию. Ватагу метеоров, рождающихся звёзд. Я смотрел на него и думал, что вот человек, который прожил жизнь в любви и благополучии. Влюблённые глаза. Тихий голос. Говорили весь вечер. О чём угодно. Казалось, умный, но немного обсчитанный жизнью человек. Добряк с горчинкой. Казалось, постарел дома, в тиши и благополучии… А когда он ушёл, Инга сказала – у него три года Заксенхаузена и ещё восемь лет у нас, в лагере на Колыме… Первый раз его с любимой разлучила война. Во второй раз его увели со свадьбы уже после войны. Нервные болезненные дети. Жена, которая ждала его двенадцать лет. В прошлом году он выполнил наконец обещанное. Два бывших узника и два бывших охранника собрались за его столом. Сидели, пили, узнавали и не узнавали. Кто-то притворялся живым. Кто-то начисто забыл какие-то важные эпизоды прошлой жизни. Жена всё понимала, но была добра и счастлива. Пекла пироги с зубаткой. Наутро они разъехались…
Мои гости тоже ушли.
Твои гвоздики не торопятся покинуть меня… Три последние. Стоят белые… Бумажный колпак настольной лампы и особенно синий ободок почему-то напоминают об августе и море. Лампа горит почти весь день.
Я хочу, чтобы ты увидела этот бред. И, увидев, вошла… Или я вошел и увидел тебя здесь у окна…
Огонь голубой и красноватый охватывает турку. Мне не очень хочется кофе, но это ритуал. Вчера познакомился с удивительным человеком. Ах да, я ведь говорил тебе о Льве Глебыче…
Я что-то болею и худею. Отращиваю усы и курю трубку.
Я снова один.
Это было не сегодня. Это было очень давно, когда мы были молоды, через сорок дней после нашего знакомства в Москве. Я убеждал тебя, что тебе необходимо эту зиму прожить со мной, хотя бы потому, чтобы читать самиздат и быть среди интересных людей. Но ты уехала к маме в Чебоксары.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.