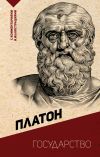Текст книги "Послевкусие страстей и превратности мнимой жизни"

Автор книги: Вадим Михайлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Он пробирался на своей подержанной тачке по незнакомой лесной дороге… Его подкидывало, качало. По ветровому стеклу и по боковым стёклам хлестали ветки придорожных деревьев…
Наконец он вырвался из леса.
И вдруг вырубил мотор.
Молиться он не мог, забыл слова. Вообще после смерти Ульяны редко молился. Ни утром, ни вечером. Потому просто лег на руль грудью и стал думать. Думал он примерно так:
– Вот, блин… Не вовремя… Что же делать?! Оставить тачку… разберут ведь всю на запчасти… А корпус подожгут… Вот, блин… Не вовремя… Ну да бог с ней, с машиной. Зачем мне она теперь?
…Он уходил от «Нивы» своей и слышал, как где-то далеко беспрестанно шли и шли товарняки, груженные под завязку лесом.
«Скоро здесь на нашем северо-западе лесов не будет, – подумал он с тоской. – Степь… А леса пропьют, прогуляют… Изведут на дурь. А сами подохнут…»
Уже почти не слышен стал стук колес, и электрички пробегали где-то далеко-далеко за деревьями. А здесь было чистое поле, давно не паханное и не сеянное. На поле среди диких трав всходил лес – маленькие отважные воины – ели, сосны и березы… На этой истерзанной, загаженной, разворованной земле зарождалась новая жизнь – новые леса, без которых не может быть России…
Платон Фолтин стоял в этом пустом месте, соображая, куда двинуться.
Далеко на горизонте чернела неровная стена ещё не тронутой тайги.
Жухлое пространство болота было с одной стороны.
Какие-то холмы, похожие на древние курганы, с другой.
Издали, от леса, возник гул большой машины. Потом проявился длинный, тяжело груженный лесовоз.
Фолтин сошёл на обочину, в высокие сухие травы. Махал лесовозу рукой, пытаясь остановить.
Не остановился. Водитель сидел высоко. Даже не взглянул на человека у обочины.
Потом проехал другой. Фолтин просто проводил его взглядом.
Остановился третий. Такой тяжёлой махине трудно было останавливаться.
– Чего тебе? – закричал со своей высоты молодой водитель.
– Юрьево в какую сторону?
– Чего?
– Деревня Юрьево!
– Без понятия! – Он задумался. – Погоди… А у нас тут две деревни рядом… Малые и Большие Уды. А за ними посёлок Шмоны… Там девки живут. Беженки из Средней Азии… Красивенные… А Юрьево… Без понятия…
Лесовоз рванул с места. Казалось, бревна непременно рассыплются. Фолтин отскочил подальше от дороги.
Жёлто-красные, натужно рыча и покачиваясь, двигались три бульдозера. Ничего особенного, никакой мистики, просто японская техника на лесоразработках… Вырубка… Обычное дело… Лес рубят, щепки летят. Но страшно почему-то…
В высокой траве валялась дощечка. «Совхоз «Родина» – написано было на дощечке. Дощечка приколочена была к длинной палке.
Фолтин долго втыкал палку в землю. Всё равно получилось косо.
Потом он нашёл фундамент какого-то дома. Просто четырёхугольник, составленный из закопчённых камней, полный углей и головешек.
Тогда он пошёл от этого бывшего дома, как пошёл бы по улице. Пожарище заросло травой. Даже не травой, а иван-чаем, сухим и коричневым в эту пору. На месте одного дома стояла железная кровать с сеткой.
Вместо другого – груда кирпича, оставшегося от печки.
Железная бочка для дождевой воды. Бутылки… Бутылки… Бутылки… Наверное, от нашего времени бутылок этих останется не меньше, чем за всю предыдущую историю.
Такая была улица.
Вышел пьяный мужичок, чернявый, губастый, с винтарём в руках – на всякий случай, – ждал приближения Платона. Стоял на крыльце. Крыльцо было, а дома не было. Разглядывал пришельца. Диковинным казался, но знакомым.
– Вы искатель?
– Чего?
– Кладоискатель?
– Нет, я ищу жену. Жену свою ищу.
– Ищи ветра в поле.
– Она ушла от меня… Её звали Ульяна.
– Не знаю… Здесь была усадьба, а вокруг парк. Сто лет назад… До сих пор среди леса следы дорожек. Видишь? Как тетрадь в клеточку.
– Вижу.
Мужичок передёрнул затвор винтовки.
Убивали здесь запросто. Причин к прекращению чужой жизни всегда достаточно.
Год назад Платон приехал сюда в конце марта на подлёдный лов. Ночью сильно подмораживало, а днём на солнце даже припекало.
А потом вдруг полили дожди, и реки ожили.
Платон возвращался из лесу с ведёрком берёзового сока.
На мосту через Шегринку ссорились два мужика. Один, покрупнее, нахраписто наступал на другого – хлипкого. Схватил его за грудки и норовил сбросить в гремящую вешним льдом реку.
В крупном мужике Фолтин признал местного охотника, которого все звали Бычком, естественно из-за фамилии. Тот, что помельче, был Юрчик, курчавый парнишка, недавно откинувшийся из зоны. Бомж. Юрчик коротал зиму в старой бане и помогал, кому что придётся, за еду, самогонку и чай.
– Нет, скажи мне, ты её застрелил?.. Или горло перерезал?..
– Отпусти…
– Я ведь видел, как ты с ней в лес ушёл…
– Ну да…
– А вернулся один…
– Ну, один…
– А она где?..
– Не стрелял я… Отпусти, дышать не могу… Она убежала…
– А где третий патрон? Я тебе три дал, а здесь только два.
– Потерял… Пусти! Не убивал я… Может, её волки… Там весь снег волками истыкан…
– Не верю я тебе, подонок, ни одному слову не верю… Не верю зэкам, бомжам и солдатам…
– Отпусти.
– Убил. За бутылку самогона…
– Спасите! – закричал Юрка.
Он не хотел падать в реку, он вцепился в поручни.
– Эй! – закричал Платон, расплёскивая на бегу берёзовый сок. – Эй! Не надо!
Бычок повернул к Платону опухшее лицо:
– Он мою любимую…
Слёзы мешали ему говорить.
– Кого?
– Альбу, падла. Альбу! Суку легавую!
– Да не плачь ты! У меня твоя Альба! – успокоил его Платон.
– Ты что, блин?!
– Я её покормил и запер дома – волчьи следы вокруг…
– Ну, ты! – Бычок задохнулся, смотрел на свои громадные пятерни, которые не по его воле, а сами по себе то сжимались в кулаки, то разжимались, белея. – Ну, ты, блин! – Наконец он чуток успокоился. – Чуть было не порешил Юрчика… и тебя заодно. Мне свидетели ни к чему… Ты, Платон, в наши дела не встревай, не путай нас… Мы сами меж собой разберёмся…
…Постепенно перед ним из мелколесья и зарослей бурьяна возникли призраки домов. Они обретали плотность и живой цвет. Его память воскрешала ушедшее время.
Сад её души…
Но там Ульяны не было.
Только угли домашнего крематория ещё источали тепло.
Там была не весна, а последнее утро августа.
Последняя белая бабочка ушедшего лета и первый жёлтый лист исполняли жеманный танец любви.
Вода в бочке после вчерашнего летнего дождя была тёплая. Два зелёных кузнечика учились плавать. Насекомых назойливых было немного, но как раз это и давало им возможность, используя притупление человеческой бдительности, неслышно присосаться к руке или устроиться возле уха. От убитого комара на коже оставалась большая кровавая клякса…
…Маленький паук нашёл сухой уже осенний красный лист и прикрепил к нему свою паутинку. Ветер подхватил лист и поднял его к небу, подальше от земли. Превратил в дельтаплан.
Полёт так понравился пауку, что он не стал спускать аварийный трос, который, как известно, у всех пауков находится где-то в районе желудка. Он полетел исследовать ушедшую от нас землю…
Народившиеся ночью мухоморчики пробирались в осенней траве, к ёлке, как толпа маленьких дедов-морозов, придавая этой грустной идиллии радость – надежду на приближение Рождества и Нового года.
Земля была прекрасна…
Но свет угасал.
Ему показалось, что мелькнул на дороге красный платок Ульяны, что она возвращается из своего леса с корзиной белых грибов. Но это был лишь осенний лист клёна.
Он увидел в траве её красную косынку, но это был тот же красный лист.
Он подошёл к тому маленькому домашнему крематорию. Тронул пепел. Он был ещё тёплый. Платон отряхнул боязливо руки.
«И всё? – подумал он. – Так всё просто? И сад её души исчезнет, когда и я тоже исчезну? Навсегда… Насовсем… Почему она? Почему не я? Она нужнее сыну. Нужнее людям, которые любят её стихи. Она могла написать ещё столько прекрасных песен…»
Он вошёл в избу. Пахло ладаном. Пахло ландышем.
Под иконой ещё теплилась лампадка.
– Благодарю Тебя, Господи, Владыко живота моего, за всё, что даровал Ты мне в этой быстротекущей жизни, – стал молиться он. – За радость! За печали! За боль! За годы, проведённые в нищете! За годы, проведённые в достатке! За сына! За подруг и друзей! За хороших и плохих людей! За прошлое и будущее! Не могу пока благодарить Тебя, что взял у меня жену мою. Любимую. Душу мою… Не готов. Не могу! Разумом понимаю – мы не вечны… Разумом понимаю, но сердце пока не готово, не может смириться… Прости меня, Господи! Прости моё сердце!
Полы были чисты и влажны после утренней уборки. Как будто Ульяна только что ушла к колодцу.
Но и там её не было.
– Ульяна! – позвал он. – Ульяна, где ты? Куда ты ушла?
Ему стало зябко, холодно.
Он затопил круглую печку-голландку. Но долго не мог согреться – дрожь била его, и печь не теплела, хотя гул стоял от огня. От матраца и одеяла веяло могильным холодом…
Дым вызывал слёзы.
Он не мог долго пребывать здесь, в её саду, в её родовой избе. В саду её души…
Реальная жизнь, в которой нужно есть, одеваться, искать и находить работу, работать, зарабатывать, требовала отдать всего себя ей – этой суетной, но реальной жизни.
Однако специфика, характер его работы в кино были таковы, что работа эта не могла существовать без постоянного пребывания в мире вымышленном, в мире, где каждая строчка рождается из внутренних судорог и страданий…
Духовные фантомы, мороки, видения, образы с изменяющимся обликом и большое лоскутное одеяло памяти заполняли пустоту, спасали теперь его от искушения перечеркнуть всё, прекратить затянувшийся, никчёмный, надоевший всем сериал, а плёнку и все исходные материалы – сжечь…
…Он шёл через зимний замёрзший парк. Чёрные бока прогулочной лошади были покрыты инеем. Лошадь выдыхала шумно лёгкий пар. Жевала сено.
А он шёл, чтобы покормить птиц у «поющего куста», где их обычно кормила Ульяна…
Не удержался, угостил лошадку куском хлеба.
Девушка в красном колпаке сметала снег с саней.
Остановилась. Смотрела на него «не видя в упор», но насторожённо.
– Что, нельзя?
Она не ответила. Снова сметала снег, хотя желающих покататься не было.
Колесо обозрения было неподвижно. И, слава богу, музыка эта варварская – поп – не звучала…
– Помнишь, как мы с тобой познакомились? – пробормотал он, глядя на колесо обозрения. – Нет, это я не вам… Я другой девушке говорю…
Он отошёл от саней. Смотрел в небо.
…Ты была школьницей. А я был безработным ассистентом по уборке прилегающих к дому территорий… по-простому – дворником… А ты в это время кончала школу и была влюблена в гениального парня… Поэта. Он потом уехал в Англию. У него там бизнес. Он смеялся над твоей боязнью высоты. Сказал, что покажет тебе лабораторию, в которой работал, если ты прыгнешь с парашютом или осмелишься сделать хотя бы круг на колесе обозрения.
Был морозный лютый день. Зима.
Я иногда видел тебя в метро. Пытался познакомиться. Но ты возмущённо отвергала мои попытки, потому что была влюблена в того парня – поэта, математика и альпиниста…
И вдруг я увидел тебя в Парке перед городком аттракционов. Ты смотрела на колесо обозрения и не решалась купить билет.
Я учтиво поздоровался.
Ты сначала отвернулась, а потом вдруг тебе пришла в голову мысль взять меня себе в подмогу от страха, ну, чтобы не бояться.
Но я ведь тоже с детства боялся высоты. Хотя всегда, сколько помню себя, мечтал стать альпинистом или прыгнуть с парашютом.
Я вспомнил блистательную актрису, которая снималась у меня на несколько лет позже этого случая и тоже боялась высоты. Но играла отважную альпинистку. Я был восхищён. Я был влюблён в неё. Впрочем, в неё все были влюблены. Весь Советский Союз…
После съёмки на скалах Малого Домбая я отвел её в сторону и спросил:
– Ты боялась?
Она усмехнулась, покачала головой.
– А я не заметил.
– Я ведь актриса, – ответила она. – Спасибо тебе. Я больше не боюсь… Я больше не боюсь высоты…
Мы расстались с ней, потому что у меня была жена и сын. И я любил их, и у неё была дочь и любимый мужчина – каскадёр. И наши маленькие дети дружили, бегали вдвоём по леднику и пытались набрать в свои красные пластмассовые вёдра тумана… Нет, это у Ростика было красное ведёрко, а у Ани – жёлтое…
Звезда нашего кинематографа и Ульяна стояли рядом и с улыбкой смотрели на меня. Они обе были прекрасны. Прекрасны, как наши маленькие дети. Эти красивые зрелые женщины как бы проецировались в будущее, обещая сыну и дочери такую же красоту и притягательность и, возможно, взаимную любовь, которой не насытились родители. И раскрытие личности. И расцвет таланта.
Господи, как это было давно…
…Я купил два билета и флягу коньяка. Отпил половину для храбрости, а контролёру дал стольник.
Первый круг мы нормально преодолели, если не считать безумных твоих глаз…
Второй было легче.
А потом что-то испортилось в механизме колеса.
И мы застряли в апогее. Было очень холодно. Холодно и ветрено. Я начал что-то рассказывать тебе о солнцепоклонниках и колесе – солнце. О свастике… Но ты всё это знала. Ты очень умная девочка была. Ты сама стала рассказывать мне подробности о солнцепоклонниках и вообще об Индии… Я зачарованно слушал. Мороз заставил нас приблизиться. Обняться. Заставил согревать друг друга. Мы отхлёбывали коньяк из фляжки. У тебя стучали зубы от холода. Но ты говорила. Говорила. Как будто в тебе было радио…
Мы не заметили, что колесо двинулось вниз и опустило нас на землю…
И снова боязнь высоты охватила наши души. Мы расстались. И стало очень холодно. И одиноко.
После смерти Ульяны он некоторое время не воспринимал её уход как реальность, но, приученный постоянной работой с трагическими сюжетами, надеялся в глубине души, что и этот сюжет его жизни можно изменить, отредактировать, написать вариант. Потом понял: смерть – это надолго. Возможно, навсегда. Она не подвластна редактированию.
В его голове назойливо созревал странный эпизод. То пропадал, то возвращался, мешая работать. Его некуда было применить, чтобы втиснуть между другими, нормальными эпизодами, как письмо в книгу, и забыть.
…Мы шли по канату от темноты к свету… От чёрных скал к белым… Внизу не видно было дна. Но слабо мерцали звёзды. А над нами звёзды сверкали. Ночь была светла от звёзд. Ульяна шла как лунатик. Она умела отключаться. А меня отвлекали ночные насекомые и летучие мыши, которые поедали комаров на лету. Ульяна раньше меня достигла другого берега… белых скал. Махнула мне рукой и исчезла. А я замешкался – мне хотелось рассмотреть, что там внизу, но я знал, что этого делать нельзя. Я видел только мрак и слабое мерцание. Я хотел увидеть настоящие яркие звёзды, но знал, что если подниму голову, то непременно упаду… Я знал, что нужно привыкать к одиночеству…
Платон жил теперь по инерции. Вроде бы выглядел как прежде, только глаза печальнее и отчётливее мешки под глазами от ночных слёз. Мир потерял яркость. Декабрьский короткий день с убыванием света. Полярная ночь. И до рассвета, кажется, не дожить. И северные сияния, не для него, а если и для него, только как память.
Позднее он поймал себя на мысли, что страдал и тосковал по стилю, который создали они за время их любви. По контакту. По ощущению рядом с собой мощного и благородного человека. По возможности дарить, отдавать всего себя, весь огонь страстей и мягкую теплоту сердца любимому человеку и принимать от него такой же щедрый и бесценный дар – энергию и тепло любви.
За неделю до смерти Ульяна написала письмо родным в деревню.
«Дорогие наши! Дядя Саша, тётя Зина, Вера, Миша! Особый привет и благодарность Людмиле за её подробное и трогательное письмо. Простите, что пишу не от руки, как положено по этикету, но совсем разучилась писать ручкой из-за компьютера. Почерк стал совсем неразборчивый…
Теперь немного о нашей жизни. А жизнь наша – в основном работа. Если бы не было постоянной работы над сценариями, для театра, для композиторов, то жизнь была бы тусклой.
Платон пишет уже пятый роман. Один роман, «Пристанище», издан. Другие напечатаны в журналах. Ещё один вывешен в Интернете английским издательством.
Сейчас по нашему сценарию начались съёмки двенадцати серий телефильма «Дом на берегу большой реки». Кино это о семейном детском доме. В основе сценария подлинная история нашего друга, врача, который вернулся на родину из Прибалтики и стал собирать всяких несчастных детей. Материал для нас очень дорогой. Посмотрим, что получится. Сейчас всё зависит от режиссёра. Платон много болел, и потому снимает другой режиссёр. Сценарий нам очень дорог. Мы вложили в него свои чувства и дорогие мысли. Ростик тоже много работает. Пишет хорошие картины, но живопись из-за кризиса плохо продаётся, поэтому для заработка он расписывает питерские дворы по заказу районных и городских администраций. У Ростика своя бригада – художники, администратор, помощники. Тут особая технология. Ростик разрабатывает эскизы, потом всё это делается в картоне, потом рисунок наносится на стены, потом роспись… А сейчас он где-то на Ладоге, уехал с друзьями на машине, с палатками… Приедет утром завтра. Только что звонил. Чтобы позвонить нам, ему пришлось залезать на гору…
Ну, что делать. Такой у нас сын… Экстремал… Слава богу, что не стал альпинистом, как отец…
Здоровье? Здоровье по-разному… У Платона что-то с ногой. Тромбофлебит. Оторвался тромб. Еле спасли… Да вы и сами знаете, что это такое. Все пытаемся вырваться в деревню. У нас там всё заросло травой… Может быть, ещё удастся провести август и осень в Юрьеве.
Какие трогательные подробности о моём отце вы вспомнили! Записывайте все, что вспомните! Я ведь совсем ничего не знаю! Ничего. А уж генеалогическое древо – так ценно и интересно. Пожалуйста, вспоминайте! И пусть Людмила все запишет.
Ну вот. Пока всё. Пишите. Звоните. Дорогие наши, дорогие…
Ульяна. Платон. Ростик».
Ульяна остро переживала своё старение. Она всё ещё считала себя красивой и сильной женщиной, но ей уже уступали место в метро мальчики и молодые мужчины.
– Я люблю тебя, – говорил Платон, когда она приходила в отчаяние от неумолимого бега времени.
– Ты жалеешь меня, – не верила она.
– Мужчина не способен жалеть, – объяснял он ей. – Мужчина может только любить или не любить… – Он верил в то, что говорил. – Жалость – достояние женщин. У мужчин только любовь или долг… Я люблю тебя. Я восхищаюсь тобой. Всегда. Всегда. Всегда!
Он продолжал любить её… В своей мужской тупости не заметил, как она приблизилась к границе жизни и смерти и уже с той запредельной высоты смотрела на него – любила и жалела…
Господи, утешь меня в час одиночества, чтобы не терзалось сердце моё от жалости к нему…
Господи, утешь меня в час одиночества, чтобы не терзалось моё сердце от жалости к ней!..
Смерть – окончание всякой драматургии. Смерть – не запятая. Она не восклицательный знак. Смерть не многоточие… Она – точка! Но! Иногда можно заметить, что у точки появляется хвостик – и она становится похожа на эмбрион, стремящийся к другой точке… И тогда смерть принимает вид вопросительного знака.
Но ответ на вопрос получают не все…
Платон заставил себя одеться. Выйти из дома.
Он ехал на метро в отдалённый район. Он слонялся по Питеру. Отирался возле вокзалов, заходил в недорогие пивные и кафе. Выбирал места потемнее, прислушивался к разговорам. Ездил в полупустом троллейбусе, глазея на открыточные виды Санкт-Петербурга.
Теперь, в эти горькие дни, он стал острее чувствовать красоту – красоту природы, красоту Петербурга, красоту петербуржцев.
«Красота вызывает слёзы и умеряет боль, – подумал он, а потом вспомнил о глобальном потеплении, о том, что через сто лет на месте Питера будет море. Стал молиться: – Господи, сохрани эту красоту и этот город. Сделай жизнь этих людей счастливой и радостной. Избавь нас от тоски разлуки с любимыми! Одари их любовью Твоей! Согрей их теплом Твоим! Подари им счастье веры в Тебя и Твою доброту!»
А потом снова думал о красоте.
Видимо, он отвык от трамвая. И люди не признавали в нём своего. Оглядывали, принимая за иностранца. Он забыл, сколько сейчас стоит проезд, протянул кондукторше тысячную купюру.
– Ты бы ещё зелёные мне сунул! – рассердилась кондукторша и закричала громогласно: – Граждане! Кто разменяет штуку?.. Да ладно, придурок, поезжай даром… Не обеднеем…
Он не выдержал любопытных взглядов чужих и опасных людей. Вышел на первой же остановке.
Он шёл и говорил, говорил. В прежние времена его бы забрали, как сумасшедшего, а теперь вокруг все говорили как бы сами с собой.
– Привет… Я тут рядом… Сейчас зайду… Что купить?.. Почему нельзя?.. Устала?.. Да брось ты… Не одна, да?.. Хочешь, скажу, кто у тебя?.. Сергей… Он тоже умер… Нормально… Я сам тебе его подсунул… Позови его… Ну, чего же ты не в Анталье?.. Что, там у вас лучше, чем в Анталье?! Серж, она хорошая, не обижай её там… Её нельзя обижать… Обязательно что-нибудь случится плохое… Разоришься дотла, или взорвут машину… Или крылья ампутируют. Передай трубку Ульяне… Уля! Не посмеет он обидеть тебя!.. Ну хорошо, пристрели… А лучше, если он сам застрелится… Хлопот меньше…
А вокруг была опасная ночь, и тёмная вода канала чуть шевелилась у парапетов и под мостами, мёртвая, без уток и чаек. Какие-то тени уже сопровождали его в этом непривычном, без машины, путешествии в ночи…
…Место аварии было окружено флажками. Люди обходили его по проезжей части. Впрочем, в этом не было опасности, потому что поток машин здесь двигался медленно и часто замирал в ожидании зелёного светофора.
Подъёмный кран вознёс над набережной красный «феррари» и бережно опустил его на асфальт.
По измятым бокам машины струилась вода.
Неживой водитель, смутно видимый, прильнул к рулю. Когда вода иссякла, стало понятно, что в машине угонщик – мёртвый мальчишка…
А он всё говорил и говорил, как будто сам с собой, потому что это была единственная и привычная его связь с ушедшей женой.
– Ну и как у тебя дела? – спрашивала она.
– Ульяна. Какие дела! Я как будто рак без панциря…
Мой двойник пытался покончить с собой… Нет, не волнуйся, я сам пока вроде цел и невредим… Приходи… Мне очень плохо…
Он продолжал любить её, хотя её больше не было в этом мире. Не образ её, не иконку. Её живую любил. Не покинувшую землю, но пребывающую здесь, на земле, проживающую в его душе, пока он жив.
Господи, упокой её душу. Прости ей все грехи её вольные и невольные. Даруй ей Царствие Твоё небесное… Она стремилась стать лучше. Она любила Тебя!
…Он пытался вспомнить первые стихи, которые Ульяна написала ему своим мелким, аккуратным, но тем не менее неразборчивым почерком на суперобложке альбома с репродукциями Боттичелли. Он вспомнил только первую строчку.
Трава добра…
Ульяна, при всей своей гордости, считала себя травинкой среди полей России.
Трава добра…
Эта суперобложка пропала вместе со стихами.
Она была добра, как трава – пища травоядных. Лекарство хищных.
Сколько нас – травинок в России! Незаметных, неамбициозных, старающихся жить по заветам предков…
И ещё миллиарды семян ждут своего часа, чтобы взойти и возродить нашу землю.
Дай же Господи, чтобы так было!
…Ульяна в своей цельности смела утверждать своё язычество наравне с православием. Она была, как почти весь наш народ, даже не из Средневековья, из тьмы веков… Как зерно, как семечка заряжена энергией жизни на тысячелетия. Она была безудержна в своих порывах. И только вера наша православная накладывала узду на неё, усмиряла…
– Почему в Риме, покупая лошадей, прежде чем увидеть их бег, накидывали попону и только потом решали, брать или не брать? – Эта странная на первый взгляд мысль вдруг возникла в его голове, возможно как защита от тоски. – Какая связь между попоной и одеждой? Может быть, им, как и нам, важно сразу было определить стать, гармонию, увидеть человека, как дерево поздней осенью, а потом уже оценить кору, листья и плоды… «Стать» – ёмкое слово нашего языка. Не забыть бы его, не заменить легкомысленно чужеродным термином «имидж», как заменили мы слово «совесть»… словом «мораль»…
Почему любимая лошадь радует сердце в табуне? И замирает дыхание, когда вдруг она на миг делается явной, зримой среди других! Радует сердце не в стойле, а на зелёном поле, когда резвится от радости бытия?! Когда щиплет радостно весёлую весеннюю траву…
…Платон сидел один на кухне. Его тарелка была пуста. А другая, которую он поставил для Ульяны, не тронута. И вилка была чистая. И вино в фужере не выпито. А под столом уже звенели под ногами пустые бутылки.
Он вспомнил старуху… Зинаиду Давидовну… Комсомолку двадцатых. Продотрядовку… Разорительницу имений… Ту, что хотела оставить ему свою квартиру.
Пошёл к ней через проходные дворы, в надежде найти собеседника.
Консьержка узнала его.
– Зинаиду Давидовну похоронили неделю назад.
Открылась кабина лифта, и он увидел Олю, студентку, которая смотрела за старухой.
– Ой, как хорошо, что я вас встретила, Платон Алексеевич. Вам Зинаида Давидовна оставила кое-что на память.
Они поднялись на лифте. Зашли в квартиру.
– Вот, медальон.
Под золотой крышкой была миниатюра – портрет молодого человека. Таких лиц больше не встретишь ни в России и нигде в мире. Они остались только в старых фотографиях и медальонах. Иногда в питерском метро.
– Что с вами? – спросила Оля.
– Всё нормально. Сердце прихватило, – ответил Платон.
Он вспомнил тот день.
Старуха стояла у обочины. Всё не решалась перейти улицу. Поток машин не иссякал, а если прерывался, то на минутку. Старуха боялась, что она в эту минутку не уложится. Оглянулась в поисках помощи. Выбрала Платона.
– Молодой человек! – позвала она. – Помогите.
Голос был спокойный и властный.
– У вас честное лицо, – сказала старуха. – Проводите меня в сберкассу. Я опасаюсь одна… Они знают, когда нам приходит пенсия.
– Кто?
– Математики… Ну, мальчишки из математического колледжа…
Фолтин нетерпеливо достал свой «брегет», всем своим видом показывая, что торопится. И это забавляло старуху. Её смешки раздражали Фолтина, но жалость и интерес не позволяли ему уйти и прекратить это неожиданное и нелепое знакомство.
Дали зелёный.
Он перевёл её через дорогу. Старуха крепко держала его за руку.
«Вот ещё одна старуха на мою голову», – подумал он с тоской, но тут же заинтересовался, обнадёжился, поверил, что это ещё один портрет в его коллекцию, а может быть, даже и сюжет, тип, загадка, антипод его матери.
– Подождите меня здесь, – так же спокойно приказала старуха. – Я опасаюсь одна…
Платон посмотрел на часы. Он чувствовал, что грядут интересные события.
Его интересовали люди на пересечении социальных силовых линий.
Он томился у двери сберкассы. Звонил по мобильнику.
– Уля!.. Ты в галерее?.. Скажи, что я задерживаюсь… Да… нелепая история… Да ладно, не ревнуй. Ты же знаешь, я не вру… Старуха… Я не могу её бросить… Надо проводить до дому… Потом расскажу… Ты не забыла, что после обеда нас ждут в Новой Голландии?.. Они там что-то обнаружили на раскопках… Надо взглянуть… Может, пригодится… Если пройдёт этот проект о Мировиче. Да о его попытке спасти Иоанна VI… Да, я эту чёртову старуху сторожу… Сколько лет?.. Восемьдесят, наверное… Да не ревнуй ты. Правда… Ей далеко за тридцать…
Наконец она вышла из сберкассы.
– Я знала, что вы меня не бросите, – сказала старуха. – Теперь опять на ту сторону.
Он снова повёл её через дорогу.
На той стороне ей стало плохо.
– Ноги, – сказала она, – не идут…
Он предложил ей валидол, который всегда был с ним. Она улыбнулась иронически и отказалась.
Старуха уже привычно держалась за его руку.
– У меня деловая встреча, – сказал он, – меня ждут.
– Позвоните… Скажите, что задерживаетесь… Вы же не бросите меня… В прошлый раз они отобрали у меня пенсию прямо во дворе…
Странно, как росла его зависимость от этой незнакомой старой женщины.
– Я, конечно, ношу два кошелька, – сказала она. – Один для денег. Другой с мелочью, чтобы отдать… Но в прошлый раз они догадались… Меня зовут Зинаида Давидовна. А вас Платон Фолтин… Я буду называть вас Плотик. Можно?
– Откуда вы меня знаете? – вздохнул он. – Разве мы знакомы?..
– Я ведь смотрю вашу передачу о вреде алкоголя… Но я-то вижу… по глазам… вы… вы любитель… В смысле – любите выпить…
– Я машину там бросил, – беспокоился Платон. – Вам далеко?
– Здесь рядом… Давайте дворами.
– Зачем дворами-то? Если боитесь.
– С вами я не боюсь.
И опять, сам не зная почему, он подчинился.
Любопытство ли вело его, предчувствие ли, но он пошёл за Зинаидой Давидовной к лифту.
– Всё спокойно? – спросила старуха у консьержки. – Никто не приходил?
– Всё спокойно, Зинаида Давидовна! – доложила консьержка, которая, видимо, хорошо знала характер старой жилички. – Никто.
– Ну, вот вы и дома, – сказал Платон. – Разрешите откланяться. У меня дела…
– Нет, мы должны выпить чаю… И поговорить… Мне так хочется с кем-нибудь поговорить!.. Я совсем одна.
Две комнаты и кухня в старинном питерском доме. Высокие потолки, лепнина, старинная роспись, камин, облицованный голландской плиткой.
Ей стало плохо с сердцем. Платон помог отыскать лекарство.
Он обратил внимание на фотографии, смонтированные на стене. Молодая красивая девка, в кожанке, туго подпоясанная ремнем, на фоне чёрного знамени. (Фотографии были чёрно-белыми.) Она же в окружении столь же юных и воинственных друзей.
– Наш продотряд, – пояснила Зинаида Давидовна. – Это когда мы в барской усадьбе квартировали…
Старуха хихикала, наблюдая впечатление, произведённое на гостя интерьером её жилища.
Взгляд знатока пристально и азартно отмечал то бронзовую решётку камина, то молочно-жемчужный оттенок плафонов, то тончайший рисунок на крупных плитках паркета, то бронзовые вычурные ручки на балконных дверях.
Всё было в порядке. Всё было на удивление сохранно. Даже позолоченная стрела на луке Амура не погнулась, не сломалась. Так и целился малыш с потолка из сиреневых облаков.
– Ну вот, – довольно сказала Зинаида Давидовна. – А вы не хотели… выпить со мной чаю… А ботиночки снимите… Вот гостевые тапочки… Видите, паркет-то какой?..
Странная это была старуха. Неприятная и жалкая. И в то же время – властная. Сейчас, когда она сняла свою шубейку и нелепую, с претензией на элегантность, шляпку, стало особенно видно, какая она старая.
Фолтин ходил по комнатам, снова и снова разглядывая детали удивительного интерьера.
На стене, как раз под молочно-жемчужным плафоном, как под огромной луной, висел фотографический, сильно и грубо отретушированный портрет красивой молодой женщины, гладко причесанной и строгой.
– Это я, – сказала Зинаида Давидовна. – Как раз перед войной… А это в блокаду…
Портрет заключён был в прекрасную рамку. Тёплых тонов благородное дерево, тонкий рисунок. Обрамление явно не гармонировало с фотографией.
– Какая удивительная рамка, – восхитился Платон. – Здесь было что-то другое?
– Что значит взгляд знающего человека, – хитро улыбнулась старуха.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.