Текст книги "Очерки истории европейской культуры нового времени"
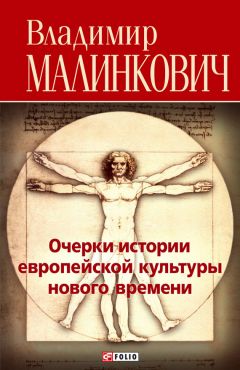
Автор книги: Владимир Малинкович
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Первые декаденты
Но все же начало декадансу положили, конечно, не реалисты – наследники Флобера, не «парнасцы», многие из которых увлекались символизмом, но в меру, а Шарль Бодлер и «проклятые поэты». Это они связали воедино символистов и декадентов с романтиками начала века. По сути, творчество Бодлера, Рембо и Верлена – это одновременно и романтика, и символизм, и декаданс.
В одном и том же 1857 году вышли в свет две книги – первый и лучший роман Флобера «Мадам Бовари» и первый и, по сути, единственный сборник стихов Бодлера «Цветы зла». Обе книги тут же подверглись цензуре, а их авторы (как возмутители спокойствия обывателей) – судебному преследованию «за оскорбление морали, религии и добрых нравов». Шесть стихотворений из «Цветов зла» (по нынешним временам совсем невинных) были запрещены к публикации. Скандал, однако, никак не помешал Бодлеру, а, напротив, привлек к его стихам общественное внимание и сделал поэта знаменитым.
Несомненно, в первую очередь Бодлер – романтик. Как всякий романтик, он мог жить и творить лишь в небесах воображения, потому что «исполинские крылья» поэзии (как он писал в «Альбатросе») мешали ему «ходить в толпе, средь шиканья глупцов». В этом Бодлер не оригинален, подобное ощущение типично для многих поэтов. Но есть в его стихах мотивы, не характерные для романтиков. Бодлер не желал бездумно тонуть в поэтической стихии и пытался понять, что побуждает поэта к творчеству. В его «Слепых» есть описание облика людей незрячих:
И странно: впадины, где искры жизни нет,
Всегда глядят наверх, и будто не проронит
Луча небесного внимательный лорнет,
Иль и раздумие слепцу чела не клонит?..
Мне крикнуть хочется – безумному безумным:
«Что может дать, слепцы, вам этот свод пустой?»
В этих строках звучит призыв к людям ничему слепо не доверять и обязательно пропускать сквозь свое сознание любое послание «сверху». Очевидно, что сам поэт в Бога не верит. Собственное безбожие его пугает, делает таким же безумным, как и те слепцы, что безо всяких раздумий отдают себя во власть верховной воли. В этих стихах Бодлера уже явно ощущается то отчаяние безысходности, что впоследствии станет типичным для творчества декадентов.
Подобно многим романтикам, Бодлер был пантеистом, верил в единство природного мира. В поэзии, по мнению Бодлера, это единство проявляет себя в бесконечном множестве символов. Причем автор «Цветов зла» довольно четко отделяет символ от аллегории. Поскольку все мироздание едино, считает Бодлер, все его элементы тесно переплетены между собой, связаны в единое целое. Во всяком признаке любого предмета или явления есть что-то символизирующее универсальную идею. Символы же беспрерывно перетекают из одного в другой. Взгляд поэта, на что бы он ни был направлен, всегда может, глубоко проникая сквозь частное, обнаружить сущность всеобщего. Поэтическое воображение, основанное на суммации простых человеческих чувств, перерастает в сверхчувственное мировосприятие. Бодлер рассказывает нам об этом в стихотворении «Соответствия»:
Неодолимому влечению подвластны,
Блуждают отзвуки, сливаясь в унисон,
Великий, словно свет, глубокий, словно сон.
Так запах, цвет и звук между собой согласны…
Повсюду запахи струятся постоянно,
В бензое, в мускусе и в ладане поет
Осмысленных стихий сверхчувственный полет.
Наличие сродства между всеми элементами бытия, между вещами-символами Бодлер называет «вселенской аналогией». Именно она соединяет во всеединстве человека и окружающий мир, поэта и объект его внимания. «Мир вокруг художника, – полагает Бодлер, – и сам художник совместились в одно». Подобная мысль о возможности преодоления расщепленности бытия на субъект и объект уже высказывалась Шеллингом, но во французскую поэзию она пришла не из книг немецкого философа, а из «Цветов зла» Шарля Бодлера.
Из «сокровищницы вселенской аналогии» поэт черпает эпитеты, сравнения, метафоры. Вера в символическое единство мира позволила Бодлеру использовать в своих стихах двухстороннюю метафору, прибегнуть к приему двойного зеркального отражения. Если прежде внешние по отношению к лирическому герою объекты служили поэтам лишь для того, чтобы с их помощью раскрыть характер и состояние этого героя, то Бодлер допускает и встречный процесс. В его стихотворении «Человек и море» не только герой познает «свой темный лик», следя за отсветом морской зыби, но и глубины моря познаются через «безудержный дух» человека:
Вы оба замкнуты, и скрытны и темны…
Вы в распре яростной так оба беспощадны,
Так алчно пагубны, так люто кровожадны,
О братья-вороги, о вечные борцы!
Предельная честность Бодлера и использование им метода двойного зеркала позволили ему глубоко просветить душу человека и обнаружить там пугающие бездны: «Глупость, грех, беззаконный законный разбой / Растлевают нас, точат и душу, и тело». Зло в мире творится не только в силу внешних обстоятельств, но и в силу врожденной «черноты» нашей души. Двойственным является отношение Бодлера к прекрасному.
У него нет односторонне восторженного отношения к красоте. Он знает, что красота «холодна, как снег», неподвижна и вечна, как «мечта из камня», что она способна погубить всякого, кто влюблен в прекрасное. Эту мысль Бодлера тоже унаследовали декаденты, но восприняли они ее совсем по-иному.
«Проклятые поэты» Рембо и Верлен восторгались Бодлером, в чем-то следовали ему в своем творчестве (особенно Рембо), но переходным мостиком к символизму и декадентству они стали прежде всего потому, что безрассудно бросили в бездну отчаянного поэтического возбуждения свою жизнь. Их судьба послужила, к сожалению, примером многим символистам и декадентам, сжигавших свою жизнь в пламени беспробудного пьянства, разврата и наркотиков. В какой-то момент поведение двух первых декадентов стало образцом жизненного стиля едва ли не всей европейской художественной богемы. И все же основоположниками символизма как нового художественного направления стали не Рембо и даже не Верлен. Организовать что-либо конструктивное эти поэты, конечно же, не могли. Новое направление во французском искусстве зародилось в конце семидесятых годов на литературных «вторниках», что устраивал в своем доме их друг (который, однако, никогда не бросался во все тяжкие) Стефан Малларме.
Прерафаэлиты
Очевидно, что декаданс – культурное явление общеевропейского, а не только французского масштаба. На его развитие оказали большое влияние немецкие философы Шопенгауэр и Ницше. Прямыми предшественниками символистов, несомненно, были англоязычные поэты, писатели, художники и критики – Уильям Блейк, Джон Ките, Эдгар По, прерафаэлиты, Джон Рёскин и Уолтер Пейтер.
У Уильяма Блейка декаденты переняли неприятие просветительства и утилитаризма, веру в неисчерпаемые возможности воображения, мистицизм, «угрюмый взор», отвращение к реальностям мира, что был им «не по нутру», и мечту о Юдоли Грез:
– Отец, отец! чего ж мы ждем!
Юдоль Отчаянья кругом!
В Юдоли Грез, блаженных грез,
Мы позабудем горечь слез!
Ощущение бренности жизни, ядовитой сладости чувственных наслаждений («жалящих Услад блаженных мед, / в яд обращающийся на устах») и меланхолию оставил в наследство декадентам Джон Ките. От Джорджа Байрона восприняли они демонизм и эгоцентризм. Близок им, конечно, был и любимый поэт Бодлера и Малларме Эдгар По, о творчестве которого русский декадент Константин Бальмонт писал: «Его поэзия, ближе всех других стоящая к нашей сложной больной душе, есть воплощение царственного Сознания, которое с ужасом глядит на обступившую его со всех сторон неизбежность дикого Хаоса».
О прерафаэлитах стоит, думаю, рассказать чуть подробнее хотя бы потому, что к ним был близок признанный лидер декадентов Оскар Уайльд. В 1849 году на выставке в Королевской академии художеств в Лондоне внимание публики привлекли картины молодых живописцев Россетти, Ханта и Милле. На полотне Данте Габриеля Россетти в нижнем углу стояли три буквы – РШЗ («братство прерафаэлитов»). Критика отнеслась к первым картинам прерафаэлитов, в общем – то, благосклонно – отмечали несомненный талант и хорошую живописную технику. Но уже на следующей ежегодной выставке их картины вызвали скандал. Все критики дружно набросились на двадцатилетних художников. Их называли доктринерами, ретроградами, «рабски имитирующими художественную неумелость». Лишь вмешательство авторитетного в кругах художественной элиты Джона Рёскина спасло прерафаэлитов от полного разгрома и скорого забвения.
Проблема, судя по всему, была вовсе не в техническом умении или одаренности Ханта, Россетти или Милле. Талант их никуда не делся, никаких радикально новых живописных приемов они, спустя год, не предложили. Их картины были светлее картин признанных мэтров (за счет большего использования белил и удаления излишков масла), заметно больше внимания эти художники уделили деталям и работе с натурой. И все же никакой революции в технике живописи (как это сделали импрессионисты) прерафаэлиты не совершили. Все дело было в теме картин, точнее, в ее трактовке. Во всех трех полотнах, подписанных РШЗ, присутствовала религиозная тема («Иисус в доме своих родителей» Милле, «Благая весть» Россетти, «Миссионеры в Британии» Ханта). Но трактовали ее художники иначе, чем было принято в викторианскую эпоху. Здесь нет подчеркнутой таинственности, образы лучше освещены, обстановка обыденна, без вычурных украшений, обычно присутствующих на полотнах академиков. Но зато лица и позы персонажей и, главное, общая атмосфера этих картин настраивают зрителя на особый лад, вызывают у него желание заглянуть вглубь, увидеть то, что скрыто за изображением.
Члены братства много говорили о необходимости вернуться к традициям Раннего Возрождения и даже Проторенессанса, но четко определить свои задачи они сами так и не смогли. Помог им в этом Джон Рёскин, ставший идеологом движения. Он предложил художникам «изображать среди трав и растений тайны созидания и сочетаний, которыми природа говорит нашему пониманию… находить во всем, что кажется самым мелким, проявление вечного божественного новосозидания красоты и величия, показывать это немыслящим и незрящим». Легко заметить, что Рёскин, подобно Бодлеру, обращает внимание художников на сочетание символов «вселенской аналогии». Но он, в отличие от Бодлера, все еще верит в «красоту и величие» сотворенного Богом мира, тогда как французский поэт эту веру уже утратил. Поэтому Рёскина нельзя рассматривать как предшественника декадентов.
Прерафаэлиты доверились Рёскину, и поначалу их творчество было проникнуто религиозно-нравственным духом. Особенно четко этот дух был выражен в работах Уильяма Холмана Ханта «Светоч мира» и «Козел отпущения». Хотя эти картины часто относят к категории «типологического символизма», религиозная тема в них раскрывается, на мой взгляд, не при помощи единой системы символов, а за счет вполне конкретных аллегорий. Истощенный, замученный козел (один из двух жертвенных козлов, которого древние иудеи не убивали на алтаре, а отправляли умирать в пустыню) изображен Хантом на берегу соленого Мертвого моря среди скелетов других козлов и верблюдов. И олицетворяет он собой жертвенный подвиг Иисуса Христа, пострадавшего и погибшего за людские грехи. Здесь нет характерной для символа «неисчерпаемой многозначности образа» (Аверинцев), зато есть, как во всякой аллегории, воплощение общей идеи (в данном случае жертвы Христа) в абсолютно конкретном художественном образе. Не случайно Ханту часто приходилось разъяснять зрителям смысл своих картин – перетекания символов, которое могло бы подтолкнуть их к самостоятельному постижению сути изображенного, в картинах этого художника, на мой взгляд, нет.
Уже в начале шестидесятых братство распалось, и вскоре большинство прерафаэлитов вообще отказалось от религиозной тематики. Связи между прерафаэлитами сохранились и после распада братства, но теперь в их среде доминируют взгляды Эдварда Берн-Джонса и Уильяма Морриса. Моррис увлекает прерафаэлитов в сторону декоративно-прикладного искусства и социалистических идей, а Берн-Джонс, при поддержке Россетти, в сторону средневековой рыцарской гламурности, эстетизма, воспевания женской красоты, эротизма и углубленного символизма. Свои идеи художники стремятся воплотить не только в творчестве, но и в быту. Они живут среди антиквариата и экзотической роскоши, влияя на вкусы и жизненный стиль английской элиты. В 1875–1876 годах прерафаэлиты разъезжают со своими выставками по всей Европе. В это время они встречаются с французскими поэтами и художниками, и результатом этих встреч стало рождение в конце 1870-х нового европейского культурного движения, позже названного «символизмом».
Символизм и декаданс
Поэтов, писателей и художников направления, о котором идет речь, попеременно называют то символистами, то декадентами, а чаще всего символистами и декадентами. Связь между этими двумя понятиями, безусловно, есть, но так ли уж она неразрывна? Неужели любое проявление символизма обязательно должно порождать упаднические настроения? Казалось бы, прорыв художника посредством символов сквозь пелену видимости должен стимулировать его движение в сторону все более сложных и масштабных целей, а вовсе не подавлять творческую волю и вызывать чувство отчаяния. Думаю, так оно часто и происходит, и не всегда мы вправе ставить знак равенства между символизмом и декадансом.
Вполне естественной представляется связь символизма с религией, с мистикой. Особенно такая связь характерна для русских символистов, прежде всего для последователей Владимира Соловьева – богоискателей. Но верующих символистов вряд ли можно считать декадентами, потому что их символизм – это стремление прорваться к сущности бытия, к Божественному началу. А такое стремление не оставляет места тотальному пессимизму. Правда, на Западе, где церковь давно утратила значительную часть былого авторитета, религиозность символисты часто подменяли мистицизмом, обычно восточного и языческого происхождения. И этот мистицизм у многих художников был проявлением своеобразного (экзотического) эстетизма, а вовсе не веры в Бога.
Немало символистов пытались поставить свое искусство на службу вполне земным, но, тем не менее, весьма значительным целям, которые в тот момент казались важными и весьма привлекательными для миллионов людей. Речь идет в первую очередь о ставших популярными в те годы идеях социализма, о национализме, империализме и набирающем силу расизме. Те, кто служил этим целям (а среди них были Уильям Моррис, Рихард Вагнер, Габриэле Д’Аннунцио и даже марксисты-богостроители), ждали осуществления в скором времени своей мечты, и, естественно, не собирались предаваться упадническим (декадентским) настроениям. Их всех (с большой долей условности, разумеется) можно считать религиозными символистами, поскольку они руководствовались в своем творчестве каким-либо макронарративом, т. е. верили в высокую, как им казалось, идею, способную преобразовать весь мир.
К символистам, вероятно, можно причислить Ницше и ницшеанцев. Самого автора идеи о Сверхчеловеке, несмотря на его частые депрессии, декадентом назвать нельзя. Ведь идея-то была вовсе не пессимистической. Должна была бы она вдохновлять и последователей Ницше, но многие из них ничего позитивного в его творчестве так и не нашли, а потому упали духом. Со временем разочаровались и стали пессимистами многие из тех символистов, которые надеялись реализовать свои идеалы с помощью политических и национальных революций. Но до тех пор пока у них сохранялась вера в избранный макронарратив, декадентами они не были.
Были, конечно, среди символистов и те, кто никаких глобальных задач перед собой не ставил и ни в какое переустройство мира (ни по Божьей воле, ни по человеческому разумению) не верил. А лицемерие, грязь и пошлость современной им земной жизни они категорически не принимали. Этих-то художников, думаю, и следует отнести к числу декадентов. Заметим, кстати, что число их было не таким уж маленьким.
Но может ли человек, особенно творческий, создать что-либо ценное, не имея перед собой высокой цели? Постмодернисты уверяют нас, что это возможно. Правда, все то новое и ценное, что есть сейчас в европейском искусстве, создано за счет былых культурных достижений, используемых либо напрямую, либо в виде пестрой комбинации цветных осколков. Все остальное в нынешнем искусстве – продукт, приготовленный на потребу обывателю, такой себе «новый бидермейер».
Сегодня с этим, увы, мирятся, но декаденты в свое время бидермейер терпеть не могли, да и классическое искусство не очень-то жаловали. Мелкотемье их привлечь, конечно же, не могло. Ведь все они были символистами и, подобно Бодлеру, верили, что за «вселенской аналогией символов» скрывается суть бытия. О том, в чем заключается эта суть, декаденты могли только догадываться, поскольку твердого знания на сей счет у них, в отличие от «религиозных символистов», не было. А тем, кто не имеет твердой веры в Бога или другой вселенского масштаба идеи, погружаться в мир символов особенно опасно. Уходя от реальности, которую они считали всего лишь видимостью, декаденты вели себя, подобно герою русских сказок, который должен был идти туда – неизвестно куда, искать то – неизвестно что. Неудивительно, что, делая свой выбор, они часто ошибались и оказывались в тупике.
Одни идеи у декадентов неожиданно сменялись другими, иногда прямо противоположными. Показательна в этом смысле творческая судьба автора манифеста декаданса Жориса-Карла Гюисманса. Всю жизнь этот мятежный писатель спокойно прослужил чиновником в министерстве внутренних дел Франции. Его первые стихотворения в прозе, опубликованные в 1874 году, написаны под явным влиянием Бодлера и «проклятых поэтов». Затем Гюисманс вдруг сближается с писателями «натуралистической школы». Но ненадолго. В 1884 году он публикует уже упомянутый скандальный роман «Наоборот», воспринятый в штыки как «натуралистами», так и приверженцами классической литературной традиции. Герой этого романа Дез Эссент коллекционирует экзотические безделушки, морские карты, секстанты и… запахи, наслаждается творчеством Эдгара По, Бодлера, Верлена, Корбье, Малларме – всех тех, кто бросал в мир мощные сгустки негативной энергии, чтобы нарушить покой обывателя «взрывами истерии, путаными кошмарами, скабрезными выходками и мрачными видениями». Герой романа проклинает все, что находится за пределами его маленького мирка: «Катись в тартарары, общество; умри, старый мир!» По сути, под всем тем, о чем говорил Дез Эссент, готовы были подписаться большинство декадентов. Через несколько лет Гюисманс пишет еще один скандальный роман «Там, внизу», где с симпатией описывает «черную массу» сатанистов, то есть опускает своих героев уже в полный мрак. Но потом совершает очередной кульбит – переходит в католичество. После чего пишет книгу о святой Лидвине и роман о средневековой символике. Незадолго до смерти Гюисманса избирают президентом Гонкуровской академии и награждают орденом Почетного легиона. Такие вот метаморфозы.
Впрочем, неожиданное возвращение художника в лоно церкви – явление не столь уж редкое в декадентской среде. Как не ошибиться в дороге, если нет компаса и не знаешь, куда идти? Можно, конечно, совсем отказаться от серьезного отношения к реальности и от поисков сущности бытия, превратить свое творчество (и свою жизнь) в забавную игру. Многие так и сделали. Но не сразу, а лишь после того, как совсем запутались в своих поисках. А сначала они все-таки пытались искать.
Мораль и эстетика
Абсолютная идея, скрываемая «вселенской аналогией символов», с точки зрения художника, должна была быть либо этической, либо эстетической. А потому вопрос о том, что важнее – красота или нравственность, был для символистов, вероятно, важнейшим.
На чем все же основывается наша мораль? Этот вопрос давно уже навяз на зубах. В какой-то момент жизни его задает себе каждый человек, но никто не знает общего для всех ответа. Искренне верующие люди оправдание этики находят в божественной основе миропорядка. Для агностиков и атеистов, коих совсем немало, такое обоснование, конечно, кажется неприемлемым. Думаю, что как верующие в Бога, так и неверующие могли бы согласиться с кантовским обоснованием нравственного долга: «Поступай так, чтобы максима твоего поведения могла бы стать всеобщим законом… Всегда относись к человечеству (и в своем лице, и в лице всякого другого) как к цели и никогда только как к средству». По всей вероятности, этот постулат верен, но кто в практической жизни будет оценивать каждый свой шаг с точки зрения его соответствия всеобщему закону? Кто в момент искушения откажется от соблазна лишь потому, что этого требует логика разумного поведения?
Один из основоположников так называемой «философии жизни» Анри Бергсон был, думается, прав, утверждая, что лишь немногие руководствуются «размышлением относительно предпочитаемого пути». Подавляющее же большинство людей следуют по путям, проложенным обществом, и делают это настолько естественно, что своей зависимости от общества даже не замечают. Зачем формулировать максиму, рассуждать по поводу возможных последствий, если гораздо проще привычно подчиниться уже выработанным обществом правилам. А если кто-то все же спросит, почему ему надо действовать так, а не иначе, то, скорее всего, получит ответ: «Надо, потому что надо». И самое любопытное, что такой ответ, в принципе, верен. Каждое отдельное правило, устанавливаемое обществом, конечно, может быть обосновано логически, но ведь речь в данном случае идет не о том или другом конкретном правиле, а о принципиальной необходимости подчиняться общественным требованиям. А эту подчиненность рационально объяснить невозможно, как нельзя объяснить солдату, почему он должен слепо выполнять все приказы начальников, рискуя при этом своей, а не их жизнью.
Бергсон называл совокупность моральных привычек человека (то есть его принципиальную готовность исполнять требования общества) «целостной обязанностью» и считал, что она заложена в самом основании общества. Эта «целостная обязанность» обладала бы, по его мнению, силой инстинкта, «если бы человеческие общества не были наполнены изменчивостью и умом». В первобытной общине гораздо сильнее, чем в цивилизованном обществе, действовал природный инстинкт. Тогда-то и появились первые предписания и табу. Те из них, которые содействовали безопасности и благосостоянию больших коллективов, постепенно отделялись от всего лишнего. Но «целостность обязанности», принципиальная необходимость подчиняться общественным требованиям при любых условиях сохранялась. Потому что люди в ней нуждались всегда. Причем нуждалось не только общество в целом, но и каждый отдельный человек, поскольку он изначально принадлежит не только самому себе, но и обществу. Без непрерывных контактов с другими людьми, без так называемых «интерсубъективных связей» не могла бы развиться даже самая оригинальная личность. Даже Робинзон на необитаемом острове, считал Бергсон, оставался материально и морально привязанным к обществу, из которого был выброшен волею случая. Он пользовался уцелевшими после шторма вещами и полученными прежде знаниями (т. е. продуктами цивилизации), без чего не смог бы выжить, а энергию для поддержания «разумного образа жизни», спасительного в условиях полного одиночества, ему давала общественная мораль.
В своей книге «Два источника морали и религии» Анри Бергсон четко различает мораль общественную и мораль общечеловеческую. Он убежден, что в их основе лежат два совершенно разных чувства. В первом случае – любовь к отечеству, во втором – ко всему человечеству. «Социальная сплоченность (основа общественной морали. – В. М.), – пишет Бергсон, – в значительной мере связана с необходимостью для членов данного общества защищаться от других обществ… Прежде всего против всех других людей заключается союз. И любят только тех, с кем вместе живут». Эта сплоченность унаследована из прошлого и основана на первобытном (природном, по своей сути) инстинкте. Общечеловеческая же мораль должна основываться на любви ко всем людям, независимо от того, к какой расе, нации, социальной группе они относятся, гражданами какого государства являются. Сейчас такой моралью руководствуются лишь единицы (те, кого принято считать святыми). Первобытный инстинкт, по мнению Бергсона, становлению такой морали помочь не может. Движение по восходящей (сначала любовь к семье и близким, затем – к своей нации и, наконец, – ко всему человечеству) здесь невозможно именно потому, что общественная мораль всегда направлена против других.
К сожалению, Бергсон в книге, написанной уже после империалистической войны и российской революции, основой общественной морали полагал «любовь к отечеству» и нации. Во второй половине XIX века это еще было как-то объяснимо, потому что тогда чаще всего в роли представителя общественных интересов выступало государство. Что неудивительно: именно государство закрепляло в законе нормы поведения своих граждан и защищало их не только и столько обычаем, сколько куда более действенной силой – угрозой официально дозволенного насилия. Но в 1932 году, когда вышли в свет «Два источника морали и религии», общество внутри государственных образований давно уже было резко дифференцировано, состояло из антагонистических классов, а внутри империй еще и из конфликтующих друг с другом национальных групп. Люди жертвовали своей жизнью не только за отечество-государство, но и за классовые интересы, и за освобождение своей нации из-под «имперского гнета». Говорить о любви к отечеству как единственной основе социальной морали в это время уже было некорректно.
В теории Анри Бергсона есть, тем не менее, важные постулаты, актуальные как для эпохи символистов, так и для нашего времени. Это признание необходимости и важности общественной морали и, одновременно, того факта, что люди ради осуществления своего личного интереса «часто будут делать совсем не то, чего требует интерес общий». И второй (на мой взгляд, главный) вывод: любовь к человечеству не может быть основана на какой-либо социальной морали, поскольку всякая социальная мораль всегда направлена против других.
Особый интерес к моральному учению Анри Бергсона объясняется в данном контексте тем, что формировалось оно почти в то же время и в тех же обстоятельствах, что и символизм. И сам дух этого учения близок символизму. Ведь Бергсон писал об особой роли искусства в формировании общечеловеческой морали. Подобно символистам, Бергсон утверждал, что новые чувства, охватывающие человека при его знакомстве с произведением искусства, вовсе не извлекаются художником из глубины жизни, а порождены его творческим гением. Художник – творец новых эмоций. Причем эмоция, пробуждаемая в нас картиной или драматическим произведением, имеет совершенно иную природу, чем эмоция, основанная на представлениях повседневной жизни. Бергсон пишет: «Единственная в своем роде, эта эмоция, прежде чем потрясти нашу душу, родилась в душе поэта, и только там». И только такие, вновь сотворенные эмоции способны создать атмосферу, в которой может вызреть принципиально новая – общечеловеческая – мораль.
Но далеко не все символисты, думаю, согласились бы с теорией Бергсона, если б знали ее. Именно отношение к теме нравственности разделяло декадентов и религиозных символистов. Последние (к примеру, Владимир Соловьев и богоискатели) шли, по существу, тем же путем, что и Анри Бергсон – в направлении всеобщего братства, экуменизма и поисков «Мировой души» как основы общечеловеческой нравственности. Декаденты же, резко противопоставляя искусство жизни, эстетику – этике, напротив, публично демонстрировали свой имморализм.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































