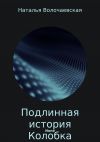Текст книги "Рукопись, найденная в Сарагосе"

Автор книги: Ян Потоцкий
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 46 страниц)
Дону Кристовалю до всего этого не было никакого дела – он не обратил на меня ни малейшего внимания, поклонился женщинам, отвел сеньору Сантарес на другой конец террасы и долго с ней разговаривал, после чего без всякого приглашения сел за стол. Он ел и пил молча, но когда разговор зашел о бое быков, оттолкнул свою тарелку и, ударив кулаком по столу, сказал:
– Клянусь патроном моим, святым Кристовалем, почему должен я корпеть в этом проклятом министерстве? Лучше быть последним тореадором в Мадриде, чем верховодить в кортесах Кастилии.
С этими словами он выбросил вперед руку, словно нанося удары быку, и при этом выставил нам на удивленье огромные мускулы предплечья. Затем, чтоб показать свою силу, усадил всех трех женщин в одно кресло и стал носить их по комнате.
Он находил такое удовольствие в этой забаве, что постарался продлить ее как можно дольше. Наконец взял шляпу и шпагу, собираясь уходить. До тех пор он не обращал на меня ни малейшего внимания, но тут, повернувшись ко мне, сказал:
– Послушай-ка, мой благороднорожденный друг, скажи мне, кто после смерти сапожника Мараньона лучше всех тачает башмаки?
Женщинам слова эти показались просто еще одной шуточкой, каких много слетало с губ дона Кристоваля, но я пришел в ярость. Побежал за шпагой и бросился догонять дона Кристоваля. Догнал его у поворота в переулок и, встав перед ним, воскликнул:
– Ты заплатишь мне за свои подлые оскорбления, наглец!
Дон Кристоваль взялся было за рукоять шпаги, но, увидев на земле обломок палки, схватил его, ударил по моему клинку и выбил у меня шпагу из рук. Потом подошел, взял меня за шиворот, отнес к водосточной канаве и бросил на землю, как накануне, только еще грубей, так что я еще дольше лежал, оглушенный, не зная, что со мной.
Кто-то взял меня за руку, чтоб поднять; я узнал того самого дворянина, который велел унести тело моего отца и дал мне тысячу пистолей. Я упал к его ногам, он ласково меня поднял и велел мне идти за ним. Мы шли молча и пришли к мосту через Мансанарес, где увидели двух вороных коней. Полчаса скакали мы вдоль реки – наконец остановились у ворот пустого дома, двери которого сами открылись перед нами. Мы вошли в комнату, обитую темной саржей и освещенную свечами в серебряных подсвечниках. После того как мы уселись в креслах, незнакомец обратился ко мне со следующими словами:
– Сеньор Эрвас, ты видишь, какие дела творятся на этом свете, устройство которого, вызывая общее изумление, отнюдь не предполагает справедливого распределения благ. Одним природа дала восемьсот фунтов силы, другим восемьдесят. К счастью, изобретены уловки, отчасти восстанавливающие равновесие. – Тут незнакомец открыл ящик стола, вынул оттуда кинжал и прибавил: – Посмотри на эту штуку. Конец ее, имеющий форму оливки, переходит в острие тоньше волоса. Заткни эту вещь за пояс. Прощай, юноша, и не забывай истинного своего друга дона Велиала де Геенна. Если я тебе понадоблюсь, приходи в полночь на мост через Мансанарес, ударь три раза в ладоши – и сейчас же увидишь вороных скакунов. Да, постой: я забыл самое важное. Вот тебе второй кошелек – тебе может понадобиться золото.
Я поблагодарил великодушного дона Велиала, сел на вороного скакуна, какой-то негр вскочил на другого, и мы приехали к мосту, где надо было расстаться.
Я вернулся к себе. Лег в постель и заснул, но меня мучили страшные сны. Кинжал я положил под подушку; мне казалось, что он выходит оттуда и вонзается мне прямо в сердце. Видел я и дона Кристоваля, похищающего у меня из-под носа трех моих красавиц.
На другой день хмурая печаль овладела мной, и даже присутствие обеих девушек не могло ее рассеять. Их старания развеселить меня производили обратное действие, и ласки мои стали менее невинными. А оставаясь один, я хватал кинжал и грозил им дону Кристовалю, который, мне казалось, все время передо мной.
Вечером ненавистный нахал снова явился и снова не обращал на меня внимания, зато еще усиленней ухаживал, за женщинами. Дразнил их, а когда они начинали сердиться, обращал все в шутку и смеялся. Глуповатые остроты его имели больший успех, чем моя учтивость.
Я велел принести ужин не столь обильный, но изысканный, дон Кристоваль почти все съел сам. Потом взял шляпу и, вдруг обращаясь ко мне, сказал:
– Благороднорожденный друг мой, скажи мне, что это за кинжал у тебя за поясом? Ты бы лучше заткнул себе за пояс сапожное шило.
Он расхохотался и ушел.
Я пустился вдогонку и, настигнув его на углу, изо всех сил ударил его кинжалом в левую часть груди. Но негодяй оттолкнул меня с такой же силой, с какой я напал на него. Потом повернулся ко мне и хладнокровно промолвил:
– Ты что, дурачок, не знаешь, что у меня на груди стальная кольчуга?
После этого он опять схватил меня за шиворот и бросил в водосточную канаву, но на этот раз – к великой моей радости, так как не дал мне совершить убийства. Я поднялся довольно весело, вернулся домой, лег в постель и спал много спокойней, чем прошлой ночью.
На другой день женщины увидели, что я гораздо веселей, чем был накануне, и выразили по поводу этого свою радость. Однако я не решился остаться с ними ужинать. Побоялся глядеть в глаза человеку, которого хотел убить. Весь вечер я пробродил злой по улицам, размышляя о волке, забравшемся в мою овчарню.
В полночь я пришел на мост и ударил три раза в ладоши; появились вороные скакуны, я вскочил на своего и поскакал за проводником к дому Велиала. Дверь открылась сама собой, мой благодетель вышел мне навстречу, ввел меня в ту же самую комнату и произнес голосом, в котором слышалась насмешка:
– Что же, молодой мой друг, убийство не удалось нам? Не огорчайся; желание зачтется как поступок. К тому же мы решили избавить тебя от твоего нахального соперника. Властям сообщено, что он выдавал государственные тайны, и его посадили в ту самую тюрьму, где сидит отец сеньоры Сантарес. Теперь от тебя зависит воспользоваться своим счастьем лучше, чем это ты делал до сих пор. Возьми от меня в подарок вот эту коробку конфет, у них – необычайные свойства, угости ими свою хозяйку и сам скушай несколько.
Я взял коробку, которая очень приятно пахла, и сказал дону Велиалу:
– Я не знаю, сеньор, что ты называешь «пользоваться своим счастьем». Я был бы чудовищем, если бы злоупотребил доверием матери и невинностью ее дочерей. Я не такой развратник, сеньор, как ты думаешь.
– Думаю, – возразил дон Велиал, – что ты не лучше и не хуже остальных детей Адама. Люди обычно колеблются перед тем, как совершить преступление, а совершив его – испытывают угрызения совести, думая, что таким способом сумеют удержаться на стезе добродетели. Они не знали бы этих неприятных ощущений, если б дали себе труд понять, что такое – добродетель. Они считают добродетель идеальной ценностью, принимая ее существование без рассуждений, и тем самым относят ее к числу предрассудков, которые, как ты знаешь, являются суждениями, не подкрепленными предварительным исследованием вопроса.
– Сеньор дон Велиал, – ответил я, – мой отец дал мне как-то раз шестьдесят седьмой том своего труда, содержащий основы этики. Там не сказано, что предрассудок – суждение, не подкрепленное предварительным исследованием, а говорится, что это – мнение, установившееся еще до нашего появления на свет и переданное нам, так сказать, по наследству. Навыки детских лет сеют в душе нашей первые зерна этих мнений, пример помогает им развиться, а знание дела их укрепляет. Если мы руководимся ими, то являемся порядочными людьми, если делаем больше, чем требуют законы, то становимся добродетельными.
– Это неплохое объяснение, – сказал дон Велиал, – и делает честь твоему отцу. Он хорошо писал и еще лучше мыслил. Кто знает, может быть, и ты пойдешь по его следам. Но вернемся к твоему объяснению. Я согласен с тобой, что предрассудки – уже установившиеся мнения, но это не основание, чтобы мы не могли сами о них судить, если чувствуем в себе созревшую способность суждения. Пытливая мысль подвергает предрассудки критике и рассматривает, для всех ли законы равно обязательны. Поступая так, ты ясно увидишь, что правопорядок выдуман только для холодных и ленивых натур, которые ждут наслаждений только от брака, а благосостояния от бережливости и труда. Но совсем другое дело – гении, натуры страстные, жаждущие золота и наслаждений, которые желали бы в одно мгновение пережить годы. Что сделал для них общественный порядок? Они проводят жизнь в тюрьмах и кончают ее в застенках. К счастью, человеческие законы – не то, за что они себя выдают. Это загородки, перед которыми прохожий сворачивает на другую дорогу, но те, кто желает их преодолеть, перепрыгивают через них либо под них подлезают. Но этот предмет заведет нас далеко, а уже поздно. Прощай, молодой друг мой, отведай моих конфеток и всегда рассчитывай на мою поддержку.
Я простился с сеньором доном Велиалом и пошел домой. Мне отворили дверь, я бросился в постель и постарался заснуть. Коробка стояла рядом, распространяя чудное благоухание. Я не удержался от соблазна, съел две конфетки и, заснув, провел очень беспокойную ночь.
В обычное время пришли мои молодые приятельницы. Они нашли, что у меня какой-то другой взгляд, и я в самом деле глядел на них другими глазами. Мне казалось, что каждое их движенье продиктовано неудержимым желанием произвести впечатление на мою чувственность; такой же смысл придавал я и словам их, даже самым безразличным. Все в них привлекало мое внимание и погружало меня в хаос помыслов, о которых я до тех пор не имел ни малейшего представления.
Соррилья увидела коробку. Она съела две конфетки и несколько конфеток дала сестре. Скоро иллюзии мои превратились в действительность. Обеими сестрами овладела тайная страсть, и обе они бессознательно ей покорились. Сами испугавшись этого, они убежали от меня, побуждаемые остатками стыдливости, в которой чувствовалось что-то дикое.
Вошла их мать. С тех пор как я освободил ее от заимодавцев, ее обращение со мной приобрело невыразимую нежность. Эта трогательность на время успокоила меня, но скоро я и на мать стал глядеть такими же глазами, как на дочерей. Она поняла, что со мной творится, смутилась, и взгляд ее, избегая моего, остановился на злосчастной коробке. Она взяла несколько конфеток и ушла, но тотчас же вернулась, стала осыпать меня ласками и сжимать в объятиях, называя сыном.
Оставила она меня с явным неудовольствием, внутренне себя принуждая. Буйство чувств моих дошло до безумия. Я ощущал огонь, бегущий у меня по жилам, еле видел окружающие предметы, какой-то туман стоял у меня в глазах.
Я хотел выйти на террасу. Дверь в комнату девушек была приоткрыта; я не мог удержаться и вошел. Их чувства были еще в гораздо большем смятении, чем мои. Я испугался, хотел вырваться из их объятий, но не хватило сил. Вошла мать, упреки замерли у нее на устах, и вскоре она уже потеряла всякое право упрекать нас в чем бы то ни было.
– Извини, сеньор дон Корнадес, – промолвил Пилигрим, – извини, что я говорю о вещах, самый рассказ о которых – уже смертельный грех. Но история эта нужна для твоего спасенья, я решил избавить тебя от гибели и надеюсь добиться этой цели. Не забудь явиться сюда завтра в этот самый час.
Корнадес вернулся домой, и ночью его снова преследовала тень убитого графа де Пенья Флор.
Тут цыгану опять пришлось с нами расстаться, отложив дальнейшее повествование на завтра.
День пятьдесят второй
Мы собрались в обычное время, и старый цыган, видя наше нетерпение, поспешил с продолженьем истории, которую Бускерос рассказывал по желанию Толедо.
Продолжение истории вожака цыган
Когда Корнадес явился в назначенное время, Пилигрим стал продолжать свой рассказ.
Продолжение истории Осужденного Пилигрима
Коробка моя была пуста, все конфетки съедены, но взгляды наши, казалось, жаждали оживить угасшие восторги. Наши мысли питались порочными воспоминаниями, и в нашей слабости было свое грешное очарование.
Одно из свойств порока – в том, чтобы заглушить голос природы. Сеньора Сантарес, целиком отдавшаяся необузданной похоти, забыла, что отец ее стенает в узилище и что ему, быть может, уже вынесен смертный приговор. Я думал о нем еще меньше, как вдруг необычайное обстоятельство заставило меня вспомнить о нем.
Однажды вечером ко мне пришел какой-то незнакомец, тщательно окутанный широким плащом. Я немного испугался, тем более что на лице у него была маска. Этот таинственный человек сделал мне знак, чтоб я сел, и, сев тоже, сказал:
– Сеньор Эрвас, ты, кажется, друг сеньоре Сантарес, и я хочу поговорить с тобой открыто и прямо. Дело важное, и я не хотел бы говорить о нем с женщиной. Сеньора Сантарес доверяла ветренику – некоему дону Кристовалю Спарадосу. Он теперь в тюрьме, вместе с сеньором Гораньесом, отцом твоей хозяйки. Этот безумец воображал, что овладел тайной, известной лишь нескольким сановникам, но он ошибался; зато я знаю ее прекрасно. Передам ее тебе в нескольких словах. Ровно через неделю, считая с сегодняшнего дня, через полчаса после захода солнца я приду к вашей двери и назову три раза имя арестованного: Гораньес, Гораньес, Гораньес. После третьего раза ты дашь мне кошелек с тремя тысячами пистолей. Сеньора Гораньеса уже нет в Сеговии: его перевели в мадридскую тюрьму. Судьба его должна решиться в половине той же самой ночи. Вот все, что я хотел тебе сказать.
С этими словами замаскированный посетитель встал и ушел.
Я знал, вернее догадывался, что у сеньоры Сантарес нет никаких сбережений, поэтому решил прибегнуть к милости дона Велиала. Я сообщил своей хозяйке, что дон Кристоваль взят под подозренье своим начальством и больше не может у нее бывать, но что у меня есть знакомые в министерстве, и я надеюсь, мои хлопоты увенчаются успехом. Надежда сохранить жизнь отцу наполнила сердце сеньоры Сантарес величайшей радостью. Ко всем чувствам, которые она испытывала ко мне, прибавилась еще благодарность. Ее отданность мне стала казаться ей уже менее преступной. Великое благодеяние всецело оправдывало ее в собственных глазах.
Все наши минуты переполнились новыми наслаждениями.
Я вырвался на одну ночь, чтобы встретиться с Велиалом.
– Я ждал тебя, – сказал он мне. – Знал, что колебания твои долго не продлятся, а угрызения совести будут еще короче. Все сыновья Адама вылеплены из одной и той же глины. Но я не думал, что тебе так скоро наскучат наслаждения, не ведомые даже королям этого маленького шарика, которые никогда не пробовали моих конфеток.
– Увы, сеньор дон Велиал, – ответил я, – ты наполовину прав, но что касается моего теперешнего образа жизни, то он нисколько мне не наскучил. Напротив, я боюсь, что, если б он когда-нибудь изменился, жизнь потеряла бы для меня всякую прелесть.
– И тем не менее, – сказал дон Велиал, – ты приходишь ко мне за тремя тысячами пистолей, за которые хочешь купить свободу для сеньора Гораньеса. Ты, наверно, не знаешь, что как только он будет оправдан, так сейчас же возьмет к себе в дом и дочь, и внучек, которых давно предназначил в жены двум чиновникам из своей канцелярии. Ты увидишь в объятиях этих двух счастливых супругов два восхитительных создания, отдавших тебе свою невинность и в награду потребовавших только определенной доли в наслаждениях, которых ты сам был центром. Движимые скорей чувством соревнования, чем ревностью, каждая из них видела высшую награду в счастье, которого была причиной, и без зависти радовалась счастью, которым дарила тебя другая. Их мать, более опытная, но не менее страстная, благодаря моим конфеткам могла без досады смотреть на счастье дочерей. После таких минут чем наполнишь ты остальную свою жизнь? Станешь искать законных наслаждений в браке или вздыхать о чувстве прелестницы, неспособной дать тебе даже тени наслаждений, которых не знал до тебя ни один смертный. – Тут дон Велиал вдруг изменил тон: – Но нет, я не прав. Отец сеньоры Сантарес в самом деле невиновен, и освобождение его зависит от тебя. Наслаждение, доставленное добрым делом, должно превышать все другие.
– Сеньор дон Велиал, – сказал я, – ты довольно холодно говоришь о добрых делах и очень горячо – о наслаждениях, которые греховны. Можно подумать, что ты желаешь моей вечной погибели и что ты…
Дон Велиал перебил меня.
– Я, – сказал он, – один из главных участников могучего сообщества, поставившего себе целью делать людей счастливыми и излечивать их от бессмысленных предрассудков, всасываемых с молоком матери, которые потом становятся поперек дороги всем их желаниям. Мы уже выпустили немало ценных книг, где нагляднейшим образом показываем, что любовь к самому себе есть основа всех человеческих поступков и что любовь к ближнему, привязанность детей к родителям, горячая и нежная любовь, милость королей – только утонченные формы себялюбия. А раз пружина наших поступков – любовь к самому себе, то естественной целью их должно быть удовлетворение наших желаний. Об этом хорошо знали законодатели и потому так составляли законы, чтобы можно было их обойти, чем люди не упускают воспользоваться.
– Как же это, сеньор дон Велиал? – перебил я. – Разве ты не считаешь, что справедливость и несправедливость – действительные ценности?
– Это относительные ценности, – ответил он. – Тебе легче будет понять это с помощью притчи, – только слушай внимательно.
По стеблям высокой травы ползали маленькие насекомые. Одно из них сказало другим: «Посмотрите на этого тигра, который лежит рядом. Это добрейшее существо, оно никогда не делает нам ничего плохого; а вот баран – дикий зверь: приди он сюда, сейчас же сожрал бы нас вместе с травой, которая служит нам приютом. Но тигр – справедлив: он отомстил бы за нас».
Отсюда ты можешь сделать вывод, молодой мой друг, что все представления о справедливости и несправедливости, зле и добре относительны, а никак не абсолютны и не безусловны. Я согласен, что существует своего рода глупое удовлетворение, связанное с так называемыми хорошими поступками. Ты его непременно испытаешь, если спасешь невинно осужденного Гораньеса. И не колеблись ни минуты, если тебе уже наскучила его семья. Подумай хорошенько, у тебя еще есть время. Ты должен вручить деньги незнакомцу в субботу, через полчаса после захода солнца. Приходи сюда в ночь с пятницы на субботу, ровно в полночь тебя будут ждать три тысячи пистолей. А пока прощай; вот тебе еще коробка конфет.
Я вернулся домой и по дороге съел несколько конфет. Сеньора Сантарес и ее дочери еще не спали, ожидая меня. Я хотел поговорить о несчастном узнике, но мне не дали… Впрочем, к чему рассказывать про все эти постыдные дела. Достаточно тебе знать, что, отпустив поводья разнузданной похоти, мы потеряли меру времени и перестали считать дни. Узник был совершенно забыт.
Субботний день уже кончался. Солнце, заходя за тучи, казалось, разбрасывает по небу кровавые отблески. Сильный раскат грома поверг меня в тревогу, я постарался вспомнить последний свой разговор с доном Велиалом. Вдруг я услышал глухой, замогильный голос, повторивший три раза:
– Гораньес! Гораньес! Гораньес!
– Праведное небо! – воскликнула сеньора Сантарес. – Кто это – небесный или адский дух обращается ко мне, вещая о смерти моего бедного отца?
Я потерял сознание. А придя в себя, побежал по дороге к Мансанаресу – последний раз просить Велиала о милости. Альгвасилы задержали меня, повели на незнакомую улицу, в незнакомый дом, в котором я скоро узнал тюрьму. Меня заковали в кандалы и кинули в темное подземелье. Я услышал рядом звон цепей.
– Это ты – молодой Эрвас? – спросил меня товарищ по неволе.
– Да, – ответил я. – Я Эрвас и узнаю по голосу, что со мной говорит дон Кристоваль Спарадос. Тебе известно что-нибудь о Гораньесе? Он был не виноват?
– Совершенно ни в чем не повинен, – сказал дон Кристоваль. – Но обвинитель сплел против него такую хитрую сеть, что мог по своему желанию либо погубить, либо спасти. Он требовал от него три тысячи пистолей. Гораньес нигде не мог их достать и только что удавился в тюрьме. Мне тоже дано на выбор – либо такая смерть, либо пожизненное заключение в замке Лараке, на побережье Африки. Я выбрал последнее – в надежде убежать при первой возможности и потом перейти в магометанскую веру. Что же касается тебя, друг мой, то ты вскоре будешь подвергнут пытке и тебя будут спрашивать о вещах, о которых ты не имеешь ни малейшего представления. Ты жил вместе с сеньорой Сантарес – так думают, что ты соучастник ее отца.
Вообрази человека, дух и тело которого расслаблены наслаждениями и которому вдруг грозят ужасами продолжительных пыток. Мне показалось, что я уже чувствую боль от мучений. Волосы на голове у меня встали дыбом, ужас сковал мне руки и ноги, и они, перестав мне повиноваться, начали судорожно дрожать. Вошел тюремщик и увел Спарадоса, который, уходя, кинул мне стилет. У меня не было сил поднять его, не говоря уже о том, чтобы заколоться. Отчаянье мое дошло до того, что сама смерть не могла бы его успокоить.
– О Велиал! – воскликнул я. – Велиал, я знаю, кто ты, но – призываю тебя.
– Ты меня звал? Я здесь! – крикнул нечистый дух. – Возьми этот стилет, добудь крови из пальца и подпиши бумагу, которую я тебе протягиваю.
– О мой ангел-хранитель! – воскликнул я. – Неужели ты совсем оставил меня?
– Ты поздно вспомнил о нем, – взревел дьявол, скрежеща зубами и пылая пламенем.
И он вонзил когти мне в лоб.
Я почувствовал жгучую боль и потерял сознание, верней, впал в какой-то столбняк. Вдруг свет озарил темницу. Златокрылый херувим подставил мне зеркало и промолвил:
– Ты видишь у себя на лбу перевернутый «тав». Это знак вечного проклятья. Ты увидишь его на лбах других грешников, выведешь двенадцать на путь спасенья и потом вступишь на него сам. Надень облачение пилигрима и ступай за мной!
Я очнулся, или, верней, у меня было такое впечатление, что я просыпаюсь; в действительности я находился уже не в тюрьме, а на дороге в Галисию. На мне была одежда странника.
Вскоре я увидел вереницы пилигримов, идущих к святому Иакову Компостельскому. Присоединившись к ним, я обошел все святыни Испании. Мне хотелось попасть в Италию и посетить Лорето. Находясь в это время в Астурии, я направился в Мадрид. Придя в этот город, пошел на Прадо, чтоб отыскать дом сеньоры Сантарес. Однако не нашел его, хотя узнал все соседние дома. Мне стало ясно, что я нахожусь еще под властью дьявола.
Больше я не решился продолжать розыски.
Я посетил несколько церквей, потом отправился в Буэн-Ретиро. В саду никого не было, кроме какого-то человека, сидящего на далекой скамье. Большой мальтийский крест, вышитый на его плаще, дал мне понять, что незнакомец принадлежит к высшим начальникам этого ордена. Казалось, он сидел, погруженный в задумчивость.
Когда я подошел ближе, мне показалось, что у ног его разверстая пропасть, в которой лицо его отражается наоборот, как у сидящих под водой. Но пропасть эта полна огня.
Сделав еще несколько шагов, я увидел, что виденье исчезло; но, присмотревшись к незнакомцу, обнаружил, что на лбу у него – перевернутый «тав», знак вечного проклятья, который херувим показал мне в зеркале на моем собственном лбу.
Тут к вожаку пришел цыган с отчетом за день, и старику пришлось с нами расстаться.