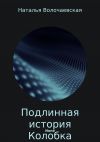Текст книги "Рукопись, найденная в Сарагосе"

Автор книги: Ян Потоцкий
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 46 страниц)
Парижские обычаи и балет Людовика XIV до того вскружили голову Бланке, что она не видела ничего вокруг.
Однажды за обедом герцогу подали придворную депешу. Это было письмо министра следующего содержания:
«Светлейший герцог!
Его королевское величество, наш всемилостивейший государь, дает согласие на брак твоей дочери с доном Карлосом Веласкесом, кроме того, жалует ему титул гранда и назначает его первым полковником артиллерии.
Твой покорный слуга и т. д.».
– Что это значит? – воскликнул герцог в величайшем гневе. – Откуда взялось в этом письме имя Карлоса, когда я предназначал Бланку в жены Энрике?
Попросив герцога, чтобы он соблаговолил терпеливо его выслушать, мой отец сказал:
– Я не знаю, ваше сиятельство, каким путем в это письмо попало имя Карлоса вместо моего, но уверен, что брат мой к этому совершенно непричастен. И вообще, в этом никто не виноват, и, быть может, подмена эта предусмотрена провиденьем. В самом деле, вы сами заметили, что Бланка не имеет ко мне ни малейшей склонности и, наоборот, очень неравнодушна к Карлосу. Так пускай ее рука, особа, титулы и владения достанутся ему. Я отказываюсь от всех моих прав.
Герцог обратился к дочери:
– Бланка! Бланка! Неужели ты так легкомысленна и непостоянна?
Бланка заплакала, лишилась чувств и в конце концов призналась, что любит Карлоса.
Герцог, огорченный до крайности, сказал моему отцу:
– Дорогой Энрике, хотя брат твой отнял у тебя возлюбленную, он не может лишить тебя звания первого полковника артиллерии, к которому я присоединяю определенную часть моих владений.
– Прости, герцог, – возразил дон Энрике, – имущество твое принадлежит все целиком твоей дочери; что же касается звания первого полковника, король правильно поступил, отдав его моему брату, так как я в теперешнем душевном состоянии не способен отправлять ни этой, ни какой-либо другой должности. Позволь мне, герцог, удалиться в какую-нибудь святую обитель, успокоить свою боль у подножья алтаря и посвятить ее тому, который столько претерпел ради нас.
Отец оставил дом герцога и поступил послушником в монастырь камедулов. Дон Карлос женился на Бланке, но свадьба была сыграна без всякой пышности. Сам герцог не присутствовал. Бланка, доведя своего отца до отчаянья, терзалась теми несчастьями, которых была поводом. Даже Карлос, несмотря на свое обычное легкомыслие, был смущен этой всеобщей печалью.
Вскоре герцог заболел подагрой и, чувствуя, что ему уже недолго осталось жить, послал к камедулам, желая еще раз увидеть своего любимого Энрике. Дворецкий герцога Альварес поехал в монастырь и выполнил порученье. Камедулы, согласно уставу, налагающему на них обет молчанья, не ответили ни слова, но провели его к келье Энрике. Альварес застал его лежащим на соломе, покрытого лохмотьями и прикованного цепью к стене.
Отец мой узнал Альвареса и промолвил:
– Друг мой, как тебе понравилась сарабанда, которую я танцевал вчера? Сам Людовик XIV остался доволен – жаль только, музыканты скверно играли. А что говорит об этом Бланка?.. Бланка! Бланка!.. Говори, несчастный!..
Тут отец мой тряхнул цепью, начал грызть себе руки, и с ним случился неистовый припадок безумия. Альварес вышел, заливаясь слезами, и рассказал герцогу о печальном зрелище, которое представилось глазам его.
На другой день подагра вступила герцогу в желудок, и жизнь его оказалась под угрозой. За мгновенье до смерти он обратился к дочери со словами:
– Бланка! Бланка! Скоро Энрике со мной соединится. Мы прощаем тебя… Будь счастлива.
Эти последние слова вошли в душу Бланки и отравили ее ядом сердечных угрызений. Она впала в глубокую меланхолию.
Молодой герцог ничего не жалел, чтобы развеселить жену, но, не в силах этого добиться, предоставил молодую женщину ее печали. Выписал из Парижа знаменитую прелестницу по имени Лажарден, а Бланка удалилась в монастырь. Чин первого полковника артиллерии мало подходил Карлосу; некоторое время он старался выполнять связанные с этим званием обязанности, но, будучи не в состоянии делать это по-настоящему, подал королю прошение об отставке и о предоставлении какой-нибудь должности при дворе. Король назначил его главным хранителем королевского гардероба, и герцог, вместе с сеньоритой Лажарден, переехал в Мадрид.
Мой отец провел у камедулов три года, в течение которых почтенные монахи с помощью неусыпных забот и ангельского терпенья в конце концов вернули ему здоровье. После этого он отправился в Мадрид и пошел к министру. Его провели в кабинет, где сановник обратился к нему с такими словами:
– Твое дело, дон Энрике, дошло до короля, который очень разгневался на меня и на моих чиновников за эту ошибку. К счастью, у меня еще было письмо с подписью «Дон Карлос». Вот оно. Будь добр, объясни мне, почему ты не подписался своим именем.
Отец взял письмо, узнал свой почерк и промолвил:
– Я припоминаю, что в ту минуту, когда я подписывал это письмо, мне сообщили о приезде моего брата; радость, испытанная по этому поводу, видимо, и была причиной моей ошибки. Но не этот промах повлек за собой мои несчастья. Даже если бы патент на чин полковника был выдан на мое имя, я был бы не в состоянии отправлять эту должность. Теперь ко мне вернулись прежние умственные способности, и я чувствую, что могу выполнять обязанности, которые его королевское величество возлагал тогда на меня.
– Дорогой Энрике, – возразил министр, – со времени представления проектов фортификации много воды утекло, и у нас при дворе не привыкли освежать в памяти то, что забыто. Единственное, что я могу тебе предложить, это должность коменданта Сеуты. В данный момент у меня только это место не занято. Если согласен занять его, то поезжай, не повидавшись с королем. Я признаю, что эта должность не соответствует твоим способностям, и понимаю, что в твоем возрасте не очень приятно поселиться на пустынной африканской земле.
– Как раз эта последняя причина, – сказал мой отец, – побуждает меня просить о предоставлении этого места. Я надеюсь, покинув Европу, избежать ударов судьбы, которые меня преследуют. В другой части света я стану другим человеком и, под влиянием более благосклонных светил, найду счастье и покой.
Получив назначение, отец занялся приготовлениями к отъезду, потом сел в Алхесирасе на корабль и благополучно высадился в Сеуте. Ликуя, вступил он на чужую землю – с тем чувством, которое испытывает моряк, оказавшийся в порту после страшной бури.
Новый комендант постарался прежде всего хорошенько узнать свои обязанности – не только для того, чтобы иметь возможность их исполнять, но чтобы исполнять их как можно лучше; что же касается фортификаций, то над ними ему не было надобности трудиться, так как Сеута благодаря самому местоположению своему была достаточно неуязвима для берберийских набегов. Зато все свои умственные способности он направил на улучшение жизни гарнизона и жителей. Сам он отказался от всяких материальных выгод, какими обычно не пренебрегал ни один из его предшественников. Весь гарнизон боготворил его за такое поведенье. Кроме того, отец заботливо пекся о вверенных его охране политических заключенных и часто отступал от суровых правил, облегчая им отправку писем к родным, устраивал для них разные развлечения.
После того как в Сеуте все было приведено в надлежащий порядок, отец снова занялся математическими науками. Два брата Бернулли наполняли тогда ученый мир отголосками своих споров. Мой отец называл их в шутку Этеоклом и Полиником, но в душе глубоко интересовался ими. Он часто вмешивался в сражения, посылая письма без подписи, оказывавшие одной из сторон неожиданную поддержку. Когда великая изопериметрическая задача была представлена на рассмотрение четырех знаменитейших европейских геометров, отец мой переслал им метод анализа, который можно считать шедевром математического мышления; но никто не допускал, чтобы автор захотел сохранить инкогнито, и его приписывали то одному, то другому брату. Это неверно; отец мой любил науки, но не ради славы, которую они приносят. Испытанные несчастья сделали его диким и боязливым.
Якоб Бернулли умер в тот момент, когда должен был одержать решающую победу; поле боя осталось за его братом. Мой отец прекрасно знал, что этот брат совершает ошибку, принимая в соображение только два элемента кривых линий, но не хотел продолжать борьбу, тревожившую весь ученый мир. Между тем Николай Бернулли не мог сидеть спокойно и объявил войну маркизу де Лопиталю, оспаривая право на все его открытия, а через несколько лет после этого выступил даже против Ньютона. Предметом этих новых раздоров было дифференциальное исчисление, которое Лейбниц открыл одновременно с Ньютоном и которое англичане считали своей национальной гордостью.
Таким образом, отец мой потратил лучшие свои годы на наблюдения издали за теми великими боями, в которых знаменитейшие тогдашние умы применяли самое острое оружие, какое человеческий гений только в состоянии раздобыть. Однако, при всей своей влюбленности в точные науки, не забывал он и о других отраслях знания. На скалах Сеуты можно найти множество морских животных, по природе своей близких водорослям и образующих переход от растительного мира к животному. Отец мой всегда держал несколько штук в банках и с удовольствием рассматривал их странное строение. Кроме того, он собрал полную библиотеку творений древних историографов; этой библиотекой он пользовался для подкрепления доводами, основанными на фактах теории вероятности, изложенной Бернулли в его произведении «Ars conjectandi»[28]28
«Искусство предугадываний» (лат.).
[Закрыть].
Таким образом, всецело отдавшись наукам, переходя по очереди от исследования к размышлению, отец мой почти никогда не выходил из дома; более того, вследствие неустанного умственного напряжения он забыл о том страшном периоде своей жизни, когда несчастия одержали победу над его разумом. Однако порой сердце вступало в свои права – обычно к вечеру, когда мысль уже изнемогает после целодневной работы. Тогда, не имея привычки искать развлечений вне дома, он поднимался на бельведер, глядел на море и небосклон, переходящий вдали в темную полоску испанского берега. Этот вид напоминал ему о днях славы и счастья, когда в окружении любящих родных, обожаемой своей возлюбленной, почитаемый знаменитейшими в стране людьми, с душой, горящей юношеским одушевлением и озаренной светом зрелого возраста, он ведал все чувства, составляющие наслаждение жизнью, и углублялся в исследованье истин, делающих честь человеческому разуму. Потом он вспоминал брата, отнявшего у него возлюбленную, богатство, сан и оставившего его помешанным на охапке соломы. Иногда он, схватив скрипку, играл ту несчастную сарабанду, которая соединила сердца Карлоса и Бланки. Эта мелодия заставляла его обливаться слезами, и тогда ему становилось легче на душе. Так прожил он пятнадцать лет.
Однажды королевский наместник Сеуты, желая повидаться с моим отцом, зашел к нему вечером и застал его, как обычно, в тоске. Подумав немного, он сказал:
– Милый наш комендант, будь добр, выслушай меня внимательно. Ты несчастлив, страдаешь, это не тайна, мы все это знаем, и моя дочь знает тоже. Ей было пять лет, когда ты приехал в Сеуту, и с тех пор не было дня, чтоб она не слышала, с каким обожанием люди говорят о тебе, так как ты на самом деле ангел-хранитель нашей маленькой колонии. Часто она говорила мне: «Наш милый комендант так страдает оттого, что никто не делит с ним его огорчений». Дон Энрике, позволь уговорить тебя, приходи к нам, это развлечет тебя больше, чем вечный подсчет морских валов.
Мой отец дал увести себя к Инессе де Каданса, через полгода женился на ней, а через десять месяцев после их свадьбы на свет появился я. Когда моя слабенькая особа увидела сиянье дня, отец взял меня на руки и, подняв глаза к небу, промолвил:
– О всемогущая власть, чей показатель – бесконечность, последний член всех возрастающих прогрессий, великий боже! Вот еще одно чувствующее создание, брошенное в пространство. Но если ему суждено быть таким же несчастным, как его отец, пусть лучше доброта твоя отметит его знаком вычитания.
Окончив эту молитву, отец радостно прижал меня к своей груди со словами:
– Нет, бедное дитя мое, ты не будешь так несчастлив, как твой отец. Клянусь святым именем божьим, я никогда не позволю учить тебя математике, а вместо этого ты выучишься искусству танцевать сарабанду, выступать в балетах Людовика XIV и творить всякие нелепости и наглости, о каких только я услышу.
После этого отец облил меня горькими слезами и отдал акушерке.
Теперь прошу вас обратить внимание на мою странную судьбу. Отец клялся, что я никогда не буду учиться математике, а выучусь танцевать. А оказалось совсем наоборот. Я обладаю теперь большими познаниями в точных науках, но никогда не мог научиться вообще никакому танцу, не говоря уже о сарабанде, которая давно вышла из моды. Право, я не понимаю, как можно запомнить фигуры контрданса. Ни одна из них не исходит из одного центра, не подчиняется твердо установленным принципам, ни одну нельзя выразить с помощью формулы, и я просто не могу представить себе, как это находятся люди, знающие все эти фигуры на память.
Когда дон Педро Веласкес рассказал нам свою историю, в пещеру вошел старый цыган и объявил, что нужно спешно совершить переход и углубиться в горы Альпухары.
– Слава Всевышнему! – сказал каббалист. – Так мы еще скорей увидим Вечного Жида, а так как ему не позволено отдыхать, он пустится вместе с нами в поход, и мы сможем с ним побеседовать. Он многое повидал, и никто не может быть его осведомленней.
Старый цыган повернулся к Веласкесу и промолвил:
– А ты, сеньор, желаешь пойти с нами, или дать тебе проводника, чтобы он отвел тебя в ближайшее селенье?
Веласкес минуту подумал, потом ответил:
– Я оставил кое-какие важные бумаги возле постели, на которой третьего дня заснул, а потом проснулся под виселицей, где меня нашел сеньор капитан валлонской гвардии. Будь любезен послать в Вента-Кемаду. Если я не найду своих бумаг, мне незачем ехать дальше, придется вернуться в Сеуту. А пока, если позволишь, могу путешествовать с вами.
– Все мои люди – к вашим услугам, – ответил цыган, – я сейчас пошлю несколько человек в трактир; они присоединятся к нам на первом ночлеге.
Шатры были убраны, мы двинулись в путь и, отъехав на четыре мили, устроили ночлег на пустынной вершине горы.
День двадцатый
Утро прошло в ожидании прихода тех, кого старейшина послал в венту за бумагами Веласкеса, и мы, охваченные невольным любопытством, всматривались в дорогу, по которой они должны были прийти. Только сам Веласкес, найдя на склоне скалы кусок сланца, отполированного дождем, покрывал его цифрами, иксами и игреками.
Написав множество цифр, он вернулся к нам и спросил, почему мы так встревожены. Мы ответили, что тревожимся за судьбу его бумаг. На это он сказал, что тревога о его бумагах говорит о доброте наших сердец и что, как только он кончит свои вычисления, он придет тревожиться вместе с нами. После этого он довел свои выкладки до конца и спросил, почему мы все ждем и не пускаемся в дальнейший путь.
– Но, сеньор геометр дон Педро Веласкес, – сказал каббалист, – если ты сам никогда не испытывал тревоги, то, наверно, тебе случалось наблюдать ее у других?
– Действительно, – ответил Веласкес, – я часто наблюдал тревогу и всегда думал, что это, наверно, пренеприятное чувство, с каждой минутой прогрессирующее, но так, что никогда невозможно точно обозначить темп этой прогрессии. Но все же можно в общем утверждать, что он находится в отношении, обратно пропорциональном силе инерции. Отсюда следует, что я, будучи вдвое невозмутимей вас, только через час достигну данной степени волнения, тогда как вы будете уже на следующей. Рассуждение это относится ко всем страстям, которые можно считать возбудителями волненья.
– Мне кажется, сеньор, – сказала Ревекка, – что ты прекрасно знаешь пружины человеческого сердца и что геометрия – самый верный путь к счастью.
– Поиски счастья, – возразил Веласкес, – по моему разумению, можно рассматривать как решение уравнения высшей степени. Вы знаете, сеньорита, последний член и знаете, что он составляет сумму всех оснований, но прежде чем исчерпаешь делители, приходишь к мнимым числам. А там смотришь – и день прошел в непрерывном наслаждении вычислениями и подсчетами. Так и жизнь: приходишь к мнимым величинам, которые ты считал действительными ценностями, но в то же время ты жил и даже действовал. Действие – всеобщий закон природы. В ней ничто не бездействует. Кажется, вот эта скала находится в покое, в то время как земля, на которой она стоит, оказывает противодействие, превосходящее силу ее давления, но если б вы, сеньора, могли подложить ногу под скалу, то сразу убедились бы в том, что она действует.
– Но разве чувство, которое называется любовью, – сказала Ревекка, – тоже может быть оценено путем вычислений? Утверждают, например, что близость у мужчин уменьшает чувство любви, а у женщин – усиливает. Можешь, сеньор, объяснить это?
– Вопрос, который сеньора задает мне, – ответил Веласкес, – говорит о том, что одна любовь развивается в возрастающей прогрессии, а другая в убывающей. Следовательно, должен наступить такой момент, когда влюбленные будут любить друг друга одинаково. Таким образом, проблема разрешается на основе теории максимумов и минимумов, и ее можно представить себе в виде кривой линии. Я нашел очень удобный способ разрешения всех проблем такого рода. Допустим, например, что икс…
В ту минуту, когда Веласкес дошел до этого пункта своего анализа, показались посланные с найденными в венте бумагами. Веласкес взял, внимательно просмотрел их и сказал:
– Здесь все мои бумаги, кроме одной, которая хоть и не очень мне нужна, но сильно заинтересовала меня в ту ночь, когда я оказался под виселицей. Но – не важно, я не хочу вас больше задерживать.
Мы двинулись в путь и ехали большую часть дня. А когда остановились, общество собралось в шатре вожака цыган и после ужина попросило его продолжить рассказ о его приключениях. Он начал.
Продолжение истории вожака цыган
Вы оставили меня наедине со страшным вице-королем, рассказывавшим мне о своем богатстве.
– Я прекрасно помню, – сказал Веласкес, – состояние его составляло шестьдесят миллионов двадцать пять тысяч сто шестьдесят один пиастр.
– Совершенно верно, – подтвердил цыган и продолжал дальше.
– Если вице-король испугал меня в первую минуту встречи, то еще больший страх я почувствовал после того, как он сообщил мне, что на нем вытатуирована иглой змея, обвивающая его тело шестнадцать раз и кончающаяся на большом пальце левой ноги. До меня уже не доходило все, что он говорил о своих богатствах, но зато тетя Торрес набралась смелости и сказала:
– Богатства твои, сиятельный сеньор, конечно, велики, но и доходы этой молодой особы тоже значительные.
– Граф Ровельяс, – возразил вице-король, – своим мотовством нанес большой ущерб своему состоянию, и, хотя я не жалел расходов на процесс, мне удалось отстоять только шестнадцать плантаций в Гаване, двадцать две акции серебряных рудников в Санлукаре, двенадцать акций – Филиппинской компании, пятьдесят шесть в Асьенто и некоторые более мелкие ценные бумаги. В настоящее время общая сумма составляет всего лишь около двадцати семи миллионов пиастров.
Тут вице-король вызвал своего секретаря, велел ему принести шкатулку из драгоценного индийского дерева и, преклонив одно колено, промолвил:
– Дочь дивной матери, которую я до сих пор боготворю, благоволи принять плод тринадцатилетних трудов, так как столько времени понадобилось мне на то, чтобы вырвать это добро из рук твоих алчных родственников.
Я хотел было взять шкатулку с благодарной улыбкой, но мысль, что у моих ног стоит на коленях человек, сокрушивший столько индейских голов, а также стыд играть роль, не соответствующую моему полу, наконец сам не знаю, какое еще замешательство, чуть не привели опять к обмороку. Но тетя Торрес, которой придали удивительную отвагу эти двадцать семь миллионов пиастров, заключила меня в объятия и, схватив шкатулку жестом, быть может слишком уж обнажающим алчность, сказала вице-королю:
– Светлейший государь, эта молодая особа никогда не видела коленопреклоненного перед ней мужчины. Позволь ей удалиться в ее покои.
Вице-король поцеловал мне руку и проводил меня в наши покои. Оставшись вдвоем, мы заперли дверь на два засова, и только тут тетя Торрес предалась неописуемым восторгам, целуя без конца шкатулку и благодаря небо за то, что она обеспечила Эльвире не то что приличное, а блестящее положение.
Вскоре в дверь постучали, и вошел секретарь вице-короля вместе с судейским чиновником. Они составили опись находившимся в шкатулке бумагам и взяли с тети Торрес расписку в их получении. Что касается меня, то, по их словам, так как я несовершеннолетняя, моей подписи не требуется.
Мы опять заперлись, и я сказал обеим тетям:
– Судьба Эльвиры уже обеспечена, но надо еще подумать о том, как отправить фальшивую сеньориту Ровельяс к театинцам и где отыскать настоящую.
Не успел я это сказать, как обе дамы горько зарыдали. Тете Даланосе показалось, будто она уже видит меня в руках палача, а сеньора де Торрес задрожала, вспомнив об опасностях, угрожающих бедным детям, которые бродят где-то без приюта и поддержки. Мы разошлись в глубокой печали по своим постелям. Я долго думал о том, как бы выпутаться из затруднения; можно убежать, но вице-король сейчас пошлет погоню. Я заснул, ничего не придумав, а между тем до Бургоса оставалось только полдня пути.
Положение мое становилось все затруднительней; однако на другой день пришлось садиться в носилки. Вице-король скакал у моей дверцы, смягчая свои обычно суровые черты нежными улыбками, при виде которых кровь стыла у меня в жилах. Так приехали мы к тенистому берегу ручья, где нас ждало угощенье, приготовленное к нашему приезду жителями Бургоса.
Вице-король помог мне выйти из носилок, но вместо того, чтоб подвести к накрытому столу, отвел в сторону от остальных, посадил в тень и, сев рядом, сказал:
– Дивная Эльвира, чем больше имею я счастье сближаться с тобой, тем больше я убеждаюсь, что небо предназначило тебя для того, чтоб украшать закат бурной жизни, отданной благу родного края и славе моего короля. Я обеспечил Испании владение Филиппинским архипелагом, открыл половину Новой Мексики и привел к покорности немирные племена инков. Все время я только и делал, что боролся за жизнь: с волнами океана, непостоянством климата или ядовитыми испареньями открытых мной рудников. Кто же вознаградит меня за лучшие годы жизни? Я мог посвятить их отдыху, сладким радостям дружбы или чувствам, в сто раз еще более приятным. Как ни всемогущ король Испании и Индии, что может он сделать, чтоб вознаградить меня? Награда эта – в твоих руках, несравненная Эльвира. Если я соединю свою судьбу с твоей, мне больше нечего будет желать. Посвящая все дни свои открытию новых сторон твоей прекрасной души, я буду счастлив каждой твоей улыбкой и полон радости при малейшем доказательстве твоей привязанности, какое ты захочешь мне дать. Картина этого спокойного будущего, которое наступит после всех пережитых мною бурь, приводит меня в такой восторг, что ночью я решил ускорить наше соединенье. Теперь я оставлю тебя, прекрасная Эльвира, и поеду как можно скорей в Бургос, где ты узнаешь, что дала нам моя поспешность.
С этими словами вице-король преклонил колено, поцеловал мне руку, вскочил на коня и помчался в Бургос. Нет надобности описывать вам мое состояние. Я рисовал себе самые неприятные последствия, неизменно кончавшиеся немилосердной поркой на дворе отцов театинцев. Хотел было подойти к обеим теткам, которые подкреплялись за столом, думал сообщить им о новом решении короля, но это не удалось: недреманный гофмаршал настаивал, чтоб я скорей садился в носилки, и пришлось ему подчиниться.
У ворот Бургоса нас ждал паж моего будущего супруга, объявивший нам, что нас ждут во дворце архиепископа. Холодный пот, выступивший у меня на лбу, дал мне почувствовать, что я еще жив, но в то же время страх погрузил меня в такое состояние безволия, что, только встав перед епископом, я пришел в себя. Прелат сидел в кресле против вице-короля. Духовенство занимало места ниже, наиболее знатные жители Бургоса сидели возле вице-короля, и в глубине помещения я увидел алтарь, приготовленный для совершения обряда. Архиепископ встал, благословил меня и поцеловал в лоб.
Терзаемый тысячью чувств, раздирающих всю мою внутренность, я упал к ногам архиепископа, и тут меня словно осенило, – я воскликнул:
– Высокопреосвященный отец, сжалься надо мной, я хочу быть монахиней, да, желаю быть монахиней!
После этого заявления, поразившего слух всех присутствующих, я почел за благо упасть в изнеможении. Поднялся, но тотчас снова упал в объятья обеих теток, которые сами еле держались на ногах. Приоткрыв глаза, я увидел, что архиепископ в почтительной позе стоит перед вице-королем и как будто ждет его решенья.
Вице-король попросил архиепископа, чтобы тот сел на свое место и дал ему подумать. Архиепископ сел, и тут я увидел лицо моего высокопоставленного обожателя: более суровое, чем когда-либо, оно имело теперь выражение, способное устрашить самых смелых. Некоторое время он казался погруженным в свои мысли; потом, гордо надев шляпу на голову, промолвил:
– Мое инкогнито окончено. Я – вице-король Мексики, – прошу архиепископа не вставать.
Все почтительно поднялись со своих мест, а вице-король продолжал:
– Сегодня исполнилось ровно четырнадцать лет, с тех пор как бесстыдные клеветники распустили слух, будто я – отец этой молодой девушки. Я не мог тогда принудить их к молчанью иным способом, как только присягнув, что, когда она придет в возраст, я женюсь на ней. Пока она возрастала в прелести и добродетели, король, благосклонно оценивая мои услуги, возвышал меня с чина в чин и в конце концов удостоил меня звания, которое приблизило меня к трону. Пришел час исполнения обещания; я попросил у короля разрешения приехать в Испанию для женитьбы, и Совет Индии от имени монарха ответил согласием, но с условием, что я сохраню свое звание вице-короля только до того, как состоится свадьба. Одновременно мне было воспрещено приближаться к Мадриду ближе, чем на пятьдесят миль. Я понял ясно, что мне надлежит отказаться либо от брака, либо от монаршего благоволения. Но я дал торжественную клятву, и выбора не было. Увидев дивную Эльвиру, я подумал, что небо хочет свести меня с дороги почестей, одарив новым счастьем спокойных домашних радостей, но так как это завистливое небо призывает к себе души, которых недостоин мир, я отдаю ее тебе, высокопреосвященный отец архиепископ; вели отвести ее в монастырь салезианок, и пусть она сейчас же вступит там в послушницы. Я поклялся никогда не иметь другой жены и сдержу клятву; напишу королю и попрошу у него разрешения приехать в Мадрид.
Вслед за этим страшный вице-король простился с присутствующими мановеньем шляпы, потом, строго взглянув, надвинул ее себе на глаза и пошел к карете, провожаемый архиепископом, чиновниками, духовенством и всей своей свитой. Мы остались в комнате одни, не считая нескольких ризничих, разбиравших алтарь.
Тогда я затащил обеих теток в соседнюю комнату и кинулся к окну, в надежде придумать какой-нибудь способ скрыться и избежать монастыря.
Окно выходило на большой двор с фонтаном посредине. Я увидел двух мальчиков, оборванных и изнемогающих от усталости, которые утоляли жажду. На одном из них я узнал одежду, которую отдал Эльвире, и сейчас же узнал ее саму. Другой мальчик был Лонсето. Я вскрикнул от радости. В нашей комнате было четыре двери; первая, которую я отворил, вела на лестницу во двор, где находились наши беглецы. Я со всех ног бросился к ним, и тетя Торрес чуть не умерла от радости, обнимая своих детей.
Вдруг мы услышали шаги архиепископа, который, проводив вице-короля, вернулся, чтоб приказать отвести меня в монастырь салезианок. Я еле успел кинуться к двери и запереть ее на ключ. Тетя моя крикнула, что молодая особа снова потеряла сознание и не может никого видеть. Мы поспешно обменялись одеждой, завязали Эльвире голову, будто она ее ранила, падая, и таким способом, для большей неузнаваемости, закрыли ей почти все лицо.
Когда все было готово, я и Лонсето исчезли, и дверь была открыта. Архиепископ уже ушел, но оставил своего викария, который препроводил Эльвиру и сеньору де Торрес в монастырь. Тетя Даланоса отправилась в гостиницу «Лас-Росас», где мы назначили сбор и где она сняла удобное помещение. Целую неделю радовались мы концу этого приключения и смеялись над тем страхом, которого нам пришлось натерпеться. Лонсето, уже переставший быть погонщиком, жил с нами под своим собственным именем, как сын сеньоры де Торрес.
Тетка моя несколько раз ходила в монастырь салезианок. Было условлено, что сначала Эльвира обнаружит неудержимое желание стать монахиней, но потом ее пыл понемногу остынет, и в конце концов она покинет монастырь и обратится в Рим с просьбой разрешить ей выйти за своего двоюродного брата.
Вскоре мы узнали, что вице-король прибыл в Мадрид и был принят там с великими почестями. Король разрешил ему даже передачу в порядке наследования владений и титулов племяннику, сыну той самой сестры, которую когда-то он привозил в Вильяку. Вскоре после этого он уехал в Америку.
Что касается меня, то события этого необычного путешествия еще больше развили во мне легкомысленную склонность к бродяжничеству. С отвращеньем думал я о том мгновенье, когда меня запрут в монастыре театинцев, но дядя моей тетки желал этого, и пришлось после всех проволочек, какие мне удавалось создать, покориться своей участи.
Тут один из цыган пришел дать вожаку отчет о событиях за день. Все мы заговорили о подробностях этой удивительной истории. Но каббалист посулил, что мы услышим куда более любопытные вещи от Вечного Жида, и поручился, что завтра мы непременно увидим эту необычайную личность.