Текст книги "Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1."
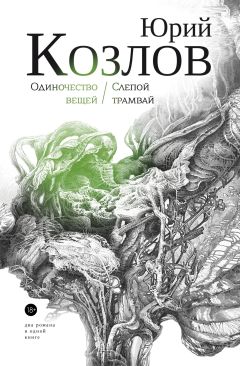
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 43 страниц)
Написал статью, что Куньинский район – исконная эстонская земля, должен немедленно отойти к Эстонии, тогда, мол, будет порядок. Спит и видит, как бы наладить отправку во Францию раков. Раки у нас еще кое-где сохранились. Эти ребята обещали ему помочь, подарили магнитофон. Он распорядился, что они могут снимать что хотят, где хотят и сколько хотят. В районе самый приличный арендатор Петька. Смотри проще. Какое тебе дело, что они там наснимают? Мне и то плевать! Один хрен, не увидим. Где он?
Француз открыл дверь в дом. Леон не был в доме со вчерашнего утра. Мух за это время прибавилось. Они размножались в геометрической прогрессии. Черный рой ударил французу в лицо.
– О! – опешил француз, направил видеокамеру на самое мушное место – буфет, потом на зияющие внутренности искалеченного шаровой молнией телевизора.
На пороге патио появилась еще одна женщина. Видимо, она задержалась в вертолете. Эта была без видеокамеры, но очень решительная. «Начальница», – догадался Леон. Она наклонилась к переводчице, что-то спросила.
– Интересуется, где туалет, – бестрепетно возвестила дурища-переводчица.
– Не нашла? – председатель вытащил из кармана платок, промокнул сытую, спрятавшуюся в воротнике рубашки шею. Вокруг нее так и вились комары.
– Рядом со свинарником, – сказал Леон. – Только с туалетной бумагой напряженка. Пусть под ноги смотрит, там доски гнилые.
– Оленька, сделай милость, – смачно пришлепнул на шее очередного комара председатель, – отведи ее куда-нибудь.
Дамы вышли.
Француз снимал переполошившихся от такого количества гостей ласточек.
– Нор-маль-но! – произнес по слогам француз, опять похлопал председателя по плечу.
– Где хозяин? – хмуро спросил председатель, едва удержавшись, чтобы не съездить дружелюбному французу по руке.
– В Кунью поехал, – сказал Леон.
– Зачем?
– Звонить на завод насчет трактора, – Леону и самому сделалось смешно.
– В воскресенье? – охотно разделил его веселье председатель.
– К бабе. Баба у него в Кунье на хлебозаводе.
– Не верю. Как Станиславский. Запил? – в голосе председателя было больше любопытства, нежели негодования.
Бидон с брагой был вчера с песней «Из-за острова на стрежень…» укачен в баню. Из-под грязного, брошенного на табуретку ватника выглядывал кончик змеевика. В воздухе живо и кисленько попахивало бражкой. Француз потянул за кончик и, как философскую диалектическую цепь за основное звено, вытащил из-под ватника змеевичище – трудовой, извилистый, зеленый.
– О! – озадаченно понюхал француз кончик змеевика.
– Так точно, – подтвердил председатель. – Похоже, месье арендатор того. Свободный человек в свободной стране. Имеет право. Ты какой язык в школе учишь? – спросил у Леона.
– Английский, – Леон подумал, что «учишь» – это сильно сказано.
Председатель выглянул во двор. Там было пусто и ветрено. Видимо, Оленька увела журналистку далеко. Леон некстати вспомнил про чернобыльского волка.
– Спроси у них, закончили в доме? Хочу провести их по деревне.
Леон, как камни ворочая во рту чужие слова, спросил.
Французы вряд ли поняли, но радостно закивали. Вероятно, Зайцы представлялись им настоящим журналистским Эльдорадо. Они были готовы идти куда угодно. Из их реплик Леон, как из мата банных строителей, выловил пару понятных слов: «фантастик» и «Еуропа».
– Они говорят, – с гордостью объяснил председателю, – фантастик, что здесь Еуропа.
– Еуропа? – спросил председатель. – Какая Еуропа? А, Европа! В самом деле, Европа, исконная эстонская земля! Твою мать! Действительно, фантастик.
На крыльце встретились с переводчицей и начальницей.
– Успешно? – полюбопытствовал председатель.
– Очень стеснительная. В поле пришлось отвести, – славная переводчица все больше и больше нравилась Леону. – Пчела ее ужалила.
– Ну да? – повеселел председатель, ласково взглянул на пригорюнившуюся француженку. – Скажи ей, нет арендатора, уехал арендатор, мы же не предупреждали, что будем, в соседний колхоз за комбикормом, поздно вечером вернется.
Пока Оленька переводила, на главной и единственной зайцевской улице появился Егоров. Он шел от сожженной кузницы, нес на плече ржавую косу на обугленном черенке, очевидно обнаруженную среди недогоревшего хлама. Был он, естественно, в ватнике, естественно, черен и сумрачен, как Отелло после разговора с Яго, естественно, в тяжелых, как бы чем-то наполненных, штанах и двигался, естественно, коленями назад, так как иначе попросту не умел.
Егоров никак не отреагировал на наведенные жужжащие видеокамеры. Шагал неотвратимо и безучастно с косой на плече, как смерть.
Французы заволновались.
– Интересуются, кто такой и можно ли с ним поговорить, – перевела Оленька.
– Егоров, местный колхозник, – почесал шею председатель. – Николай Егорыч! – махнул рукой. – Будь друг, подойди к нам!
Молча, не меняя выражения лица (оно у него всегда было одно-единственное: косой по ногам!), Егоров приблизился к крыльцу, снял с плеча ржавую косу.
«Неужто сейчас французов как рожь?» У Леона аж дух захватило.
– Федорыч, – тусклым, ничего не выражающим голосом обратился Егоров к председателю, не удостоив стрекочущих камерами французов взглядом, – не уберешь обанного арендатора, сожжем к обанной матери, как кузню! – и, развернувшись, чудом не снеся некстати подсунувшемуся сбоку французу ржавой косой, как гильотиной, башку, двинулся восвояси.
– Они хотят подарить ему сувенир и задать несколько вопросов, – быстро проговорила Оленька. – Просят перевести, что он сказал.
– Какие тайны, – махнул рукой председатель. – Николай Егорыч! Погодь, тут тебе иностранные журналисты хотят вопрос задать.
Спешить Егорову было некуда. Он вернулся.
Француз проворно сунул ему в скрюченную черную руку синюю пачку сигарет «Галуаз».
– Они интересуются, как он, африканец, относится к политике реформ, проводимой президентом, что лично ему, колхознику, сулят новшества, вводимые российским правительством, каким ему видится будущее России, не намеревается ли он в связи с ликвидацией железного занавеса, как многие евреи, греки и немцы, репатриироваться на историческую родину в Африку? – как горох сыпанула Оленька.
Егоров неторопливо – куда ему было спешить? – и с достоинством вскрыл пачку «Галуаза», достал из глубокого и черного, как шахта, кармана спички, закурил.
– Добро сигареты, – с удовольствием выдохнул дым. – С фильтром, а забирают. Поблагодари их, Федорыч, третий месяц пропадаем без курева, не отоваривают талоны. Чтоб до осени с арендатором решил, – и, развернувшись, пошел прочь.
Так бы и стоять французам с разинутыми ртами, если бы не вышла с битой лейкой в одной руке и с клюкой в другой тряпичная бабушка.
– O! – простонали французы, как барьерные бегуны, рванулись сквозь жерди с камерами наперевес.
Бабушке это не понравилось. Бросив лейку, махнув клюкой, она ловко скрылась в косой избе.
Французы изумленно перешептывались возле страшного (зеленая членистая нога его окончательно оделась корой) георгина, когда на крыльцо твердо ступил представительный Гена в подтяжках и с берданкой в руках.
– Федорыч! – Гена вскинул берданку на замахавших руками французов, но разобравшись, что они не с оружием, а с… (вряд ли Гена в своей жизни близко видел видеокамеры, но сумел отличить их от стрелкового оружия), опустил берданку. – Убярай арендатора! Не убярешь, бяда будет, Федорыч! – прорычал почему-то с белорусским акцентом и скрылся в доме.
Французам пришлось довольствоваться наружными съемками: вбитого в землю бабушкиного дома, крытого косматой соломой сарая, пламенеющего от ненависти к иноземцам, жаждущего влаги георгина да доброго, что-то беззвучно шепчущего бабушкиного лица сквозь немытую муть оконного стекла.
По мере того как французы терялись, председатель колхоза, он же Федорыч, веселел.
– Значит, так, – подвел он неутешительные итоги. – Поле парень не поднял. Пропало поле. Свиньи худые. Кролики, дай Бог, натянут к осени на два кг. А приемный вес два семьсот, не меньше. По договору ему двести штук сдать, он хорошо если сотню привезет. Мужики из Песков жалобу прислали, что браконьерствует на озере, по полкилометра сетей выметывает! Кузню я ему отдал, а он не сберег. В общем, завалил аренду. На хрен нам такой арендатор? Соберем общее собрание, расторгнем договор. Пусть по суду возвращает ссуду. Так и передай, – повернулся к Леону. – Ссуду по суду!
– Ссуду по суду в посуду! – странно как-то пошутил Леон.
Председатель не понял.
Вниманием французских журналистов завладела Платина, незаметно подкравшаяся в пушкинских шортах, в просторнейшей рубашке с пальмами, в узких, как осиные зрачки, солнцезащитных очках. Ей был вручен крохотный, как из страны лилипутов, флакончик то ли духов, то ли туалетной воды.
Платина этим не удовлетворилась.
Она обнаружила сомнительное знание французского языка. Операторы блудливо заулыбались. Начальница покосилась на нее с нескрываемым презрением. Платина вела себя, как если бы долгое время была от чего-то насильственно отлучена и вот наконец дорвалась. При этом Леона не замечала в упор.
Леону стало грустно, как в день, когда он выстрелил себе в голову дробью. «Момент» был всего лишь отвлекающим маневром. Теперь он не сомневался. Так лисица водит хвостом, сбивая с толку собак. Действительность предстала такой, что «Момент» в сравнении с ней был едва ли не добродетелью. Не сумел застрелиться, подумал Леон, сдохну от СПИДа, так мне и надо, козлу!
Перед лицом неизбежной, лишь отсроченной во времени смерти, ему (в который уже раз?) открылась неизбывная бренность бытия, смехотворная (в сравнении с Вечностью) ничтожность их – французов и русских, – неизвестно зачем бродящих по Зайцам с видеокамерами и без.
С этих-то всечеловеческих русских роковых высот и обрушился Леон на совершенно того не ожидавшего председателя.
– Поле, говоришь, не вспахал? – закричал Леон, испытывая одновременно внезапную любовь и жалость к не знающему сна и отдыха дяде Пете (как-то вдруг позабылось прошлое и нынешнее его обезумелое пьянство), темное, пронзительное (как перед эпилептическим припадком) просветление, связанное с мнимым освобождением (через безмозглый выкрик) от мучающих, безысходных мыслей, а также острую неприязнь к председателю, который, вместо того чтобы изо всех сил помогать дяде Пете, шел на поводу у здешнего темного царства, царюющего зла, потому что сам был частицей темного царства, царюющего зла, разве только чуть в более пристойном обличье – в шляпе и в пиджаке. – Чем он должен был вспахать? X…? – Французы встрепенулись, видно, усвоили это слово, взялись тормошить впавшую вдруг в тупость Оленьку. – Трактор обещали? Где трактор? – ревел Леон. – Свиньи и кролики как из Бухенвальда? А чем кормить? Скажи спасибо, что хоть не сдохли. Ты ему обещал десять тонн комбикорма? Где комбикорм? Сети на озере поставил? А что ему жрать нечего, что в магазине только хлеб раз в неделю, что он первый год на земле, еще ни одного урожая не снял, это тебя не касается, да? Сбросил, как парашютиста на необитаемый остров, и уже через полгода хочешь его обстричь? Что ж твой колхоз (это Леон слышал от дяди Пети) с тридцать второго года убыточный? Что ж ты его не закрываешь?
Было тихо. Все смотрели на Леона. Даже Платина отлепилась от облюбованного француза, устремила на Леона узкий слепящий взгляд.
– Ну-ну, продолжай! – с веселой ненавистью похлопал председатель Леона по плечу. – Еще ведь много чего можно сказать.
Был он плотный, крепкий, налитой, как последняя живая ветка на засыхающем дереве.
Леон подумал, что со стороны их компания выглядит странно. Ходят по нищей черной деревне и без конца хлопают друг друга по плечам.
Интимно ужаленная пчелой дамочка напомнила Оленьке об ее обязанностях.
Председатель не иначе как считал себя крутым интеллектуалом. И как всякий интеллектуал-самоучка (да и не обязательно самоучка, и даже не обязательно интеллектуал), был не чужд особенного русского скепсиса, вызываемого не столько болью за перманентно гибнущее Отечество, сколько за перманентное же отсутствие поблизости равного по интеллекту собеседника. Один я, один как перст, посреди дерьма! Странному этому скепсису почему-то было подвержено немалое число русских людей. Хотя бы сам Леон. Или нацепившая на нос слепящие очки малолетняя проститутка Платина, считавшая себя умнее всех на свете. Или дядя Петя, возвысивший свой скепсис из хлева до таких вершин мирового зла, как Наполеон и Гитлер.
Леон подумал, что по двум причинам председатель простил ему хамство. Потому что почувствовал в нем родственную (по части скепсиса) душу. И потому, что сам был хамом. Да и ненужное внимание к разговору французов, которые прилетели в глухой Куньинский район снимать фильм об аренде, стреноживало председателя, как шаловливого конишку. Хотя Леон был убежден: плевать он хотел на аренду и на французов! Однако негоже было внаглую идти против прогресса, каким полагались аренда и иностранцы. Не столько даже против них, сколько против новой власти, считавшей Куньинский район исконной территорией Эстонской республики.
«И ведь отдадут!» – подумал Леон.
– Ты слышал мнение народа, я никого за язык не тянул, – эдаким бесстрастным мудрецом-констататором решил выступить председатель, наподобие Тацита или Джакомо Леопарди. – Земля пока что принадлежит колхозу. Колхозники не хотят, чтобы на ней был фермер-арендатор. Экономический эффект от аренды – ноль! При колхозе это поле худо или бедно, но обрабатывалось. Арендатор взял, но ничего не сделал. Зачем брал? Если где есть совершенно безлюдная земля, – миролюбиво закончил председатель, – там, может, получится аренда. А где живут люди, там, извини, как было, так и останется. Там арендатору не то что подняться, выжить не дадут.
Ох, смягчал крепенький интеллектуал-председатель! Выносил за скобки собственную живейшую принадлежность к засыхающему колхозному древу. Он как бы являлся старшиной нищих. Власть его над ними была огромной. Мог дать, а мог не дать. Заплатить и не заплатить. Позволить и не позволить. Государство поддерживало эту его власть, потому что стояло над председателем уже как складской прапор над старшиной. Могло дать, а могло и не дать колхозу корма, стройматериалы, технику. Могло списать, а могло и не списать (что, в сущности, большого значения не имело) увеличивающиеся с каждым годом долги. Наконец, могло посадить, а могло и не посадить председателя. Был этот порочный круг отвратителен. Но и выгоден всем. Егоров, тряпичная бабушка, Гена, прочие колхозники могли жить и не работать. Председатель – воровать. Государство – существовать, как если бы никаких колхозов в природе не было: продавать золото, лес и нефть, кидать что-то этим самым колхозам, чтобы не протянули ноги с голоду. Туда-то, в немой преступный сговор, и лез зачем-то со своей арендой дядя Петя, выступал в роли перевоспитавшегося вора, который вознамерился сделаться героем труда. Как будто не знал, что воры не только поклялись сами никогда не трудиться, но и не давать честно трудиться другим ворам.
Вот что рвалось у Леона с языка, но ни ему, ни председателю не хотелось выставлять перед иностранцами русских уже не просто несчастными, а подленько приспособившимися, предпочитающими лень, пьянство и воровство честному труду, сомнительными страдальцами.
Поэтому Леон возразил коротко, сухо и безжизненно, как парторг на партсобрании:
– Вы обязаны расчищать почву для новых отношений на селе, а вы держитесь за отжившее.
– Расчищать? – обрадовался председатель. – Каким же образом прикажете расчищать?
Леон хотел ответить, что образ, собственно, один – бульдозером! Соскрести тряпичную бабушку, Гену, косую избу с земляным полом, косматым сараем, черного Егорова с косой, чучело-памятник, сожженную кузницу, прочее колхозное убожество, как соскребают плесень, совершенно при этом не думая, что плесень – тоже совокупность живых, имеющих право на существование организмов. Но ответить так значило объявить себя троцкистом, новоявленным сталинским коллективизатором наоборот, фашистом. Это они были уверены, что отдельных людей, а то и целые народы не можно, а должно соскребать с лица земли, как плесень. И некоторые народы, как, к примеру, немецкий, странным образом откликались на дикие эти идеи, дружно брались за скребки.
– Каким-каким, – недовольно пробормотал Леон. – Откуда я знаю…
– Насильственным? – проницательно (как если бы человек вставил в рот папиросу, а он догадался, что тот собирается закурить) осведомился председатель. – Как же так? Демократия, провозглашенный парламентом примат общечеловеческих ценностей над классовыми предполагает безусловное уважение прав граждан, всеобщее безусловное равенство перед законом. Пока что нет законов, позволяющих сгонять с земли одних людей, потому что они якобы реакционны, передавать ее другим, потому что они якобы прогрессивны.
– У нас сейчас вообще нет никаких законов, – буркнул Леон.
– Совершенно верно, – как какой-то профессор согласился председатель. И как профессор же продолжил: – Отсутствие законов, молодой человек, предполагает… что?
– Беззаконие, – пожал плечами Леон.
– А беззаконие в свою очередь, – продолжил председатель, – предполагает разрешение спорных вопросов посредством…
– Силы, – закончил Леон.
Странный какой-то пошел у них русский разговорчик. Начали как непримиримые противники, заканчивали как полнейшие единомышленники. А могло бы быть и наоборот.
– Где окажутся сильнее арендаторы, – подвел черту председатель, – там не быть колхозам. Где колхозники – там не быть арендаторам! – и вдруг гулко, как в пустую бочку, расхохотался. Хотя решительно ничего не было смешного в нарисованной им картине.
Французы тем временем перегруппировались, наставили объективы камер на Леона. Их ужаленная пчелой начальница подтянулась, приободрилась, поправила волосы, белозубо улыбнулась в камеру, как будто пчелиный укус решительно ее не беспокоил, заговорила с быстротой сумасшедшей.
– Она хочет говорить с тобой, – ткнула Леона в бок острым кулачком Оленька.
– Со мной? – Леон испугался не столько того, что придется говорить, сколько – что в таком же темпе.
– Она просит, чтобы ты отвечал коротко и по существу.
Леон пожал плечами. Всю жизнь он стремился, чтобы все в жизни было коротко и по существу. Но получалось длинно и против существа.
– Кем тебе приходится фермер-арендатор? – чтобы лучше слушать и переводить, Оленька сняла с головы пестрый пиратский платок, обнаружив под ним длинные острые уши.
Леон вспомнил чернобыльского волка. В волчьем полку прибыло. «Человек человеку волк, товарищ и брат, – тупо подумал Леон. – Человек человеку друг, волк и брат. Человек человеку друг, товарищ и волк».
– Волком. Нет, дядей!
– Сколько тебе лет?
– Четырнадцать, – Леон вспомнил, что скоро у него день рождения, испытал мимолетную тоску и обиду, что никому в Зайцах нет дела до его дня рождения. Смешно ждать в Зайцах подарков и поздравлений.
– Где ты живешь?
– В Москве.
– Ты приехал сюда на школьные каникулы?
– Я приехал сюда на школьные каникулы. – Леону подумалось, что неплохо бы продолжить беседу в его комнате наверху. – Здесь ветер, – сказал Леон, – я приглашаю всех в свою комнату. – и, не дожидаясь ответа, вернулся в дом, полез вверх по лестнице.
В комнате Леона, где на стеллаже стояли книги, на столе – транзистор и электронные часы-будильник, а на подоконнике поместился танковый прицел, французы озадаченно насупились. Чистота, приметы цивилизации, приближающие Леона к ним самим и, следовательно, русских (во всяком случае, какую-то их часть) к французам, их встревожили. В деревянной комнате Леона не было ни единой мухи. Что тоже не понравилось французам. Они так и шарили глазами по стенам, желая высмотреть хоть одну муху. И еще косились на прицел. Они не знали, что это. Спросить же у Леона стеснялись. Спросить – означало косвенно признать, что подобные (определенно высокой технологии) вещи не часто встречаются на подоконниках во французских деревнях. Французам, одаривающим русских из мешка копеечными сувенирами, похлопывающим их по плечам, как дикарей, признавать этого не хотелось. Леон не мог уяснить причин неудержимого их стремления не держать русских за людей. Хоть и смешно было не понимать это в Зайцах. «Вся их помощь – ложь! – подумал Леон. – С какой стати им нам помогать?»
– Чем занимаются твои родители?
– Они преподаватели научного коммунизма, авторы научных работ и учебников по теории и практике марксизма-ленинизма. Мать – кандидат, отец – доктор философских наук. – Леон подумал и добавил: – Отец – близкий друг Жоржа Марше.
Лицо ужаленной журналистки выразило живейшую досаду. Она перестала улыбаться. Какую-то не ту информацию обрушивал на нее Леон. Сначала пчела. Теперь Жорж Марше. При чем здесь, черт бы его побрал, Жорж Марше?
– Она говорит, – перевела после некоторой заминки Оленька, – что для нее большая неожиданность встретить в глухой русской деревне молодого столичного интеллектуала.
– Скажи ей, – пожал плечами Леон, – я не меньше ее удивлен встречей со съемочной группой французского телевидения. И еще скажи, что обстоятельство, что родители являются преподавателями научного коммунизма, не дает оснований считать их сына интеллектуалом. Скорее, наоборот. Во всяком случае, в нашей стране.
Операторы громко рассмеялись. Один не удержался, навел камеру на танковый прицел.
– Она высоко ценит твою скромность, интересуется: как ты относишься к марксизму-ленинизму?
– Как к мерзости, – ответил Леон, – принесшей моему народу неисчислимые беды, поставившей его на грань физического исчезновения с лица Земли.
– Чем ты тогда объяснишь, что твой народ так долго – с семнадцатого года – терпит эту, как ты выражаешься, мерзость?
– Привык, – в черных Зайцах, в разговоре с чужими людьми Леон чувствовал себя легко и приятно, так как говорил что думал. – Усвоил на собственной шкуре: любые изменения – к худшему. Вы видели здешних людей. И вот он, – кивнул на председателя, – целиком на их стороне. Чтобы не было фермерских хозяйств.
– По-твоему получается, что народ не просто терпит марксизм, но еще и держится за него? Почему, если марксизм, как ты утверждаешь, поставил его на грань физического уничтожения?
– Как наркоман, – покосился на Платину Леон, – который знает, что наркотик смерть, но не имеет сил отстать. Сил и воли. А «ломка» для него страшнее смерти.
– Но ведь другие народы не хотят мириться с марксизмом, – бедная Оленька вспотела переводя, без конца поддувала себе под челку, – к примеру, эстонский или литовский.
– Когда-то русские тоже были народом, – сказал Леон, – сейчас нет. Когда люди перестают осознавать себя народом, они готовы терпеть что угодно, лишь бы пьянствовать да не работать. С ними можно делать что угодно. Они неспособны сопротивляться.
– Видится ли тебе выход из этой ситуации? Русский народ обречен? Или воспрянет, если получит, как твой дядя, землю в аренду или в собственность?
До сих пор Леон отвечал бойко. Как настольный теннисист, с треском вколачивал и подкручивал ракеткой шарик в половину стола противника. А тут вдруг впал в долгую – как заснул – задумчивость. Подобно мифическим белым медведям, которых он считал в детстве, когда не мог заснуть, потянулись перед глазами русские люди: голубоглазая, широкоскулая мать с льняной головой; отец с чуть скошенным, не сильно волевым подбородком, кривящимися в скептической усмешке тонкими губами; злой, гибкий плейбой Плаксидин; друг-предатель Фомин с лицом как тыква; золотоглазая прорицательница Катя Хабло из Мари Луговой, где луга и гуси, гуси и луга; трудовой алкаш дядя Петя с сутулой спиной, длинными обезьяньими руками; тряпичная бабушка с варежкой-ртом; бюргерского вида слабоумный (хотя Леон так, в сущности, и не уяснил: в чем помимо предполагаемого сожительства с матерью заключается слабоумие?) Гена в подтяжках; черный, как сковавшая Россию чугунная ночь, Егоров; стонущая и содрогающаяся в волнах у камня водяная развратница Платина; волчьеухая переводчица Оленька; крепкошеий председатель, которого можно было бы считать достойным человеком и консерватором, если бы он не консервировал такую дрянь, как зайцевский колхоз, с такими землепользователями, как зайцевцы и похитившие из озера дяди Петины сети песковцы. Одному Богу было известно, есть ли выход из ситуации, обречены ли русские люди или же воспрянут, если получат, как дядя Петя, землю в аренду или в собственность. И почему именно от получения земли воспрянут? И к чему, интересно, воспрянут?
– Я не знаю, есть ли выход из ситуации, – ответил Леон. – Не знаю, обречен ли русский народ, – и, помолчав, добавил: – Хочется верить, что воспрянет. Только это уже не будет связано с тем, получит он или не получит землю. Сначала, вероятно, ему будет не до земли. Потом слово «получит» предстанет смешным. Сами подумайте: от кого народ, живущий на своей земле, должен эту землю получать? Одним словом, народ воспрянет, когда поймет.
– О! – один из операторов сделал вид, что его взволновали слова Леона. На самом деле ему, конечно, было плевать. Будто бы по рассеянности он схватил с подоконника прицел, бросил видеокамеру на кровать, влип лицом в резиновую рамку, притих, как охотничий сокол под черным колпачком.
– Она говорит, – мотнула головой в сторону француженки Оленька, – что в русской истории такое уже не раз бывало. Это называлось разинщиной, пугачевщиной, ленинщиной.
– А я считаю, что то, что мы имеем сейчас, – разинщина, пугачевщина, ленинщина. Только сверху, от власти. Снизу:
народ грабит богатых. Сверху: богатые грабят народ через биржи. Любой народ инстинктивно стремится к стабильности и порядку. Стремление к порядку не разинщина, пугачевщина или ленинщина, а антиразинщина, антипугачевщина, антиленинщина. Можете назвать это мининщиной и пожарщиной.
– Когда же, по-твоему, народ воспрянет к стабильности и порядку?
– Когда? – удивился Леон глупейшему вопросу. – А когда… – спохватился: если скажет, что, когда на смену полумертвым от пьянства зайцевцам и песковцам в деревнях, бессловесным очередевыстаивателям, орущим хамским глоткам на митингах в городах, придут такие, как… да хотя бы он, Леон! – получится не очень скромно и совсем не умно. Пришлось лукаво подкрутить шарик: – Когда на смену нынешнему двуногому хламу, ходячему отродью, которое стыдно назвать людьми, придут новые русские люди.
– Какие же? – как клещ, впилась француженка.
– Если я скажу: красивые, сильные, религиозные, приверженные свободному труду, национальным ценностям, благу Отчизны – это вам не понравится. Так можно говорить о французах, американцах, китайцах, венграх, латышах и татарах, но почему-то нельзя о русских. Поэтому я просто повторю: новые.
– Она говорит, что это знакомые речи, – вновь отделила себя от переводимых слов Оленька, темно и задумчиво посмотрела на Леона. – Она говорит, что не хочет тебя обижать, но то, что ты только что сказал, это… Она не хочет называть, ты сам понимаешь. Так она говорит.
– Природа человека изначально несовершенна, – Леон был готов к продолжению разговора. – Когда людям плохо, они склонны к крайностям. Но нельзя в каждом стремящемся к социальной справедливости видеть коммуниста, точно так же, как в каждом желающем своему народу более счастливой участи – фашиста. Это все равно что повсеместно запретить спички, зажигалки, электроприборы, потому что от неумелого с ними обращения иногда возникают пожары. Становясь на эту точку зрения, я могу заявить, что называть фашистом человека, мечтающего о национальном возрождении своего народа, еще больший фашизм.
– Она говорит, – волчьеухая Оленька окончательно взяла сторону Леона, косилась на ужаленную пчелой француженку, как на врага, – что предпочитает избегать дискуссий на подобные темы, хотя это, может, и неправильно. Она как бы выступает от имени благополучных. Ее доводы поэтому умозрительны и недейственны, как евангельские проповеди. Противная же сторона – от имени неблагополучных и униженных. В ее доводах – доходящая до каждого сердца логика и энергия несправедливости и обиды. Симпатии телезрителей неизменно оказываются на стороне собеседника, если, конечно, он не полный кретин, не говорит, что убивать людей хорошо и полезно.
Приняв сторону Леона, Оленька изрядно похорошела. Уши ее более не казались волчьими. Нормальные девичьи ушки, разве чуть длинненькие.
– Я понял ее мысль, – сказал Леон. – Простые люди, а их в любом народе большинство, одинаково темны. Чем примитивнее, грубее, низменнее аргументация, тем она ближе подлому в массе своей народу. Спроси у нее: неужели лучше глушить людей порнографией, позорной рекламой и чернухой, нежели побуждать их думать?
– Она говорит, – Оленька вдруг так улыбнулась француженке, что та скользящим шажком отошла от нее подальше, – что есть и иной взгляд на эту проблему. Ты говорил об идеальных молодых русских людях, которые должны прийти на смену нынешним несовершенным, одураченным марксизмом поколениям. Сейчас границы распавшегося государства приоткрылись. Они у себя на Западе, в частности во Франции, имеют возможность наблюдать новых молодых русских людей, так сказать, в деле. Так вот, у них сложилось мнение, что большинство этих молодых людей – проститутки, сутенеры, воры, педерасты, спекулянты, фальшивомонетчики, наемные убийцы, мразь без достоинства и чести, оккупировавшее автомобильные и прочие свалки отребье, готовое на все. Она интересуется, сколько потребуется времени, чтобы эта преступная падаль превратилась в богобоязненных, приверженных свободному труду патриотов, о которых ты только что говорил?
– Еще какая падаль, представляю! – рассмеялся Леон, таким наивным показался вопрос. – От них к нам едет не лучшее! Падаль интернациональна, как банковский капитал, система бирж или международный союз педерастов. Приличные люди не ищут способов мгновенного обогащения в чужих странах. Как, впрочем, и в ограблении собственного народа. Судить о русских по хлынувшей в Европу мрази – все равно что судить об американцах по Дину Риду или доктору Хаммеру. Но я отвлекся. Разве я говорил, что для того, чтобы исправить нашу молодежь, возложить на ее плечи новые задачи, необходимо время?
Француженка молчала.
Оленька смотрела на нее торжествующе-изничтожающе. Леон испугался, что сейчас она вцепится сбитой с толку, пострадавшей от пчелы журналистке в волосы.
– Смешно ждать, пока люди исправятся сами, – мягко, как добрый учитель туповатой ученице, объяснил Леон недовольной нашествием на Париж советской сволочи француженке. – Надо помочь им исправиться.
– Она спрашивает, – поморщилась Оленька, как будто француженка спрашивала что-то в высшей степени неприличное, – неужели тебе известен рецепт исправления людей? Если он неизвестен даже Господу Богу?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































