Текст книги "Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1."
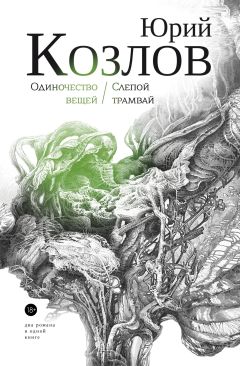
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 43 страниц)
– Обнародовать гороскоп, выходить на астрологическую арену, – прошелестела Катя горячими сухими губами.
– Великие люди – ранние люди, – перевел дух Леон.
– А мне кажется, это никак не связано с величием, – сместилась в сторону, как перевела стрелку на железнодорожных путях, Катя.
Леон догадался, что это маневр, но поздно. Вместо кровати они оказались у окна. Оно тянулось вдоль стены, напоминающее грань аквариума окно. В нем было безумно много неба и ничтожно мало земли. Черный лимузин члена президентского совета показался бы отсюда крохотным начищенным башмачком. Леон вспомнил про дымные средневековые подвалы с летучими мышами, жабами, пауками, вонючим пламенем в печах. Что ж, подумал Леон, достаток возвышает и очищает астрологию и астрологов, как любую профессию, любых людей.
Из окна открывался впечатляющий вид. Леону оставалось надеяться, что Кате, которая смотрит из окна каждый день, он прискучит скорее, нежели ему, и тогда удастся перевести стрелку на прежний маршрут – к кровати.
Чем пристальнее всматривался Леон в закатное небо, тем явственнее стучался в его сознание какой-то образ. Он был почти уловим, этот образ. Вот он, казалось, здесь, но всякий раз ускользал за край сознания, как падающая звезда за край неба. Леон опять, как баран, смотрел в окно.
– Ага, – подтвердила Катя, как если бы Леон уже с ней поделился. – Ты прав, именно так.
– Так? – Леон уставился в окно, мучительно сознавая, что нельзя быть таким кретином, и становясь от этого еще большим кретином. – Это же солнце на… На…
– На носилках, – сказала Катя. – Ты хотел сказать: на носилках. Видишь, куда несут носилки?
Леон проследил, насколько можно было скосить глаза. Сомнений не было: неведомые санитары уносили бездыханное солнце на чудовищных дымных носилках прямо к лозунгу, которого не было, но который каждый вечер по субботам появлялся на разных языках, включая нерасшифрованные письмена майя.
– А там? Под лозунгом? – спросил Леон, хотя мог бы не спрашивать.
– Солнце несут в смерть, – ответила Катя. – Солнце – это Россия. Россию под лозунг в смерть. Неужели не ясно?
– Но ведь она жива? – не очень уверенно возразил Леон.
– Жива? – переспросила Катя. – Ты посмотри в окно!
Действительно, только очень большой оптимист мог посчитать живой бездыханную красную гору на дымных носилках. Вероятно, там продолжалась какая-то жизнь, но остаточная. И у покойника растут ногти и щетина, щелкает дроздом селезенка.
– Каждый вечер закат, – пробормотал Леон, – а утром рассвет.
– И лозунг? – спросила Катя. – Неужели тебе не жалко?
– Чего?
– Потому и несут, – сказала Катя, – что русским плевать.
Леон как бы увидел себя и Катю со стороны, подумал, что, не будучи сумасшедшими, они ведут сумасшедший разговор.
Его следовало закончить, приступить к другому, более конкретному, чем предполагаемые похороны неведомой России.
Какой России?
Ту, какую Леон знал с детства, ему было не жалко. Не жалко было ему и новую, в одночасье возникшую из ничего, обретшую газетно-радио-телевизионный голос. Это была суетливая, вороватая, с бегающими глазками, хлопочущая то об армянах, то о литовцах, но помалкивающая о русских, славящая брокеров и дилеров, загадочных отечественных миллионеров, которые не могли внятно объяснить, чем занимаются, как зарабатывают миллионы, Россия, напоминающая наглую, каркающую по любому поводу, хлопающую крыльями помоечную ворону. Леон не знал, откуда она взялась, почему присвоила себе имя Россия. Вероятно, Катя Хабло имела в виду третью Россию. Но третью Леон не знал, а потому не мог ее жалеть или не жалеть. Третья Россия, подобно граду Китежу, некогда ушла в глубокие воды и пока не спешила подниматься. Должно быть, были люди-медиумы, ощущающие сквозь толщу воды связь с ней. Леон себя таковым не считал. Его удел был неприкаянно маяться между двумя чужими – коммунистической и брокерской – Россиями.
– Ну хорошо, – устало согласился Леон. – Что из всего этого следует?
– Война гороскопов, – сказала Катя. – У нас с мамой получились разные гороскопы. А это, – кивнула в окно, – подтверждение, что оба правильные.
– Отчего же война? – спокойно, так как только сохраняя спокойствие можно было продолжать сумасшедший разговор, спросил Леон. – Если оба правильные?
– Оттого и война, что оба правильные, – объяснила Катя. – Когда сходятся два правильных гороскопа на один предмет, им перестает хватать этого предмета. Он может принадлежать лишь одному правильному гороскопу.
Леон незаметно теснил Катю от окна к кровати. Но делал это скорее по инерции. Он родился в год змеи, читал переводы восточных календарей – сомнительные, скверно напечатанные книжонки. Знал, что беда змеи – в постоянных колебаниях энергии. Сейчас он чувствовал, как холодеет кровь, стынет кожа, обесцвечиваются краски, уходит интерес к происходящему. С этим, впрочем, он бы примирился. Не впервой. Гораздо хуже было, что Леон совершенно не ощущал в себе силы, потребной для того, чтобы что-нибудь предпринять в кровати. В книжонках, правда, утверждалось, что и в периоды исхода энергии змея может собраться, сосредоточиться, блистательно довести до конца начатое дело.
Леона, однако, ожидало два дела: гороскопы и Катя. Исход энергии не противоречил дальнему (а впрочем, не столь уже и дальнему) ружейному стратегическому плану, но весьма противоречил плану ближнему, постельному, тактическому. Программа-максимум и программа-минимум не стыковались.
– А что там, в ваших гороскопах? – Леон решил выполнить обе программы. Уподобиться РСДРП или змее, кусающей собственный хвост, чтобы положить предел исходу энергии.
– Мама составила классический гороскоп, – сообщила Катя. – Собственно, я не понимаю: почему они боятся его обнародовать?
А если, подумал Леон, подхватить ее на руки и эдаким кавалером?.. А про гороскопы потом…
– Мама определила, что космические составные элементы коммунизма с древнейших времен присутствуют над территорией России. К семнадцатому году они сложились в решающую комбинацию. Пик коммунизма как идеи пришелся на тридцать пятый год. Самое сильное энергетическое поле у него было в сорок девятом. Начни Сталин в тот год мировую войну, он бы победил. Но прозевал. А потом пошло на растяг. К двухтысячному году космическая коммунистическая комбинация окончательно распадется и соберется вновь только в две тысячи четыреста шестом, но уже над территорией Антарктиды.
– Может, у пингвинов получится! – предположил Леон.
– Они записали в студии мамино выступление. Несколько раз звонили, что пустят по телевидению, но не пустили. На прошлой неделе сказали, что гороскоп на экспертизе в Институте Маркса – Энгельса – Ленина.
– Где-где? Зачем?
– А там сейчас крупнейший в мире астрологический центр. Миллионный бюджет, компьютеры, библиотека, специалисты из Тибета, африканские колдуны, шаманы, даже этот, голый из Индонезии, который сто лет на дереве сидел.
Леон молчал. Институт Маркса – Энгельса – Ленина был от него так же далек, как преисподняя. И одновременно близок. В том смысле, что Леон не удивился, что он превратился в капище оккультистов и чернокнижников. Преисподняя всегда ближе к человеку, чем ему кажется. А если по-простому: в нем самом.
Леон объявил войну собственному змеиному гороскопу. Так зверски сосредоточился на процессе концентрации энергии, что глаза налились свинцом (Сатурном), кровь застучала в висках красными (коммунистическими) молоточками, ему стало жарко, как в бане (на партсобрании, где разбирают его персональное дело). Вот только там, где всего нужнее (для осуществления программы-минимум), желательного притока энергии не ощущалось. Наверное, еще не сложилась решающая комбинация, успокаивал себя Леон.
– Но я-то знаю, почему они испугались, – задумчиво произнесла Катя.
Леону не оставалось ничего, кроме как полюбопытствовать: почему?
– Гороскопы составляют с помощью компьютеров, – объяснила Катя. – У каждого астролога, конечно, свой метод, но принципы программирования общие. Солидные организации принимают гороскопы на специальных типовых бланках. Компьютер облегчает труд астролога, но и ставит на поток, лишает полета, озарения. Мама у меня человек добросовестный. В бланке есть графа: привходящие элементы. Ей определили: международное рабочее движение, иностранные компартии и прочую муть. Только она начала программировать, объявили, что создалась какая-то РКП, вроде бы то же самое, что КПСС, но не совсем. Мама возьми да включи РКП в привходящие. А вместе с ней попало слово «Россия» партия-то российская. Компьютер и выдал: к двухтысячному году перестанут существовать не только коммунизм, КПСС, РКП, но и Россия вместе с русскими.
– Перестанут существовать? Всех убьют? – не понял Леон.
– Не знаю, – ответила Катя, – перестанут, и все тут.
– То есть не будет коммунизма, но и России не будет? – уточнил Леон.
– Именно так, – подтвердила Катя. – Не будет коммунизма и не будет России.
– Какой России? – Леон подумал, что двух – коммунистической и брокерской – ему не жалко, а третьей он не знает.
– Никакой, – сказала Катя. – В том-то и дело, что не будет никакой.
– Значит, Россия и коммунизм одно и то же?
– Трудно сказать, – вздохнула Катя, – но перестанут существовать они одновременно.
– Ты хочешь сказать, что русские люди, как один, умрут в борьбе за это, за коммунизм? Как в песне?
– По маминому гороскопу.
Какую же Россию спасать? – подумал Леон. Коммунистическую, чтобы вновь укрепилась? Или брокерскую, чтобы побыстрее сломала хребет коммунистической? Или тащить со дна китежную? Только где она, китежная?
– А по твоему гороскопу? – Леон сам не заметил, как преобразился. Его переполняла энергия. Кровь вскипала покалывающими пузырьками. Новая кожа зудела под старой. Леону казалось: еще чуть-чуть, и он вспыхнет, как лампочка.
– По моему гороскопу коммунизм вечен, – спокойно сообщила Катя.
– Вечен? Вот как? И после двухтысячного года? – Леон испугался едва ли не сильнее, чем когда узнал, что коммунизм и русские исчезнут к двухтысячному году.
– Тебе ничем не угодишь. И то плохо, и это. Да, вечен. И следовательно, неизбежен. Не зря же неопалимый лозунг на крыше!
– Вечен и, следовательно, неизбежен, – зачем-то повторил Леон.
Недавно он осилил роман под названием «1984». Там тоже герои повторяли друг за другом. Но если там за повторением скрывалось многое, за Леоновым повторением не скрывалось решительно ничего. Леон подумал, что достойнейший английский писатель переусложнил природу человека. Страх через несколько поколений вырождается в равнодушие к собственной судьбе. Леон не мог полюбить ни коммунизм, ни Большого брата, ни Россию брокерскую, потому что ему было плевать. Благородный англичанин не допускал, что так может быть, ибо тайно верил в человека. А между тем Леон достиг точки падения, с которой начинался новый отсчет. Интересно было бы прочитать роман «2000», подумал Леон.
– Мама составляла официальный гороскоп, поэтому была вынуждена возиться со всеми этими химерами, словесными обозначениями неизвестно чего: КПСС, РКП, международное рабочее движение. А я решила определить истинный привходящий элемент коммунизма. И я его определила. Это смерть.
– Долго думала? – усмехнулся Леон.
– Не смейся, – сказала Катя. – Никто никогда не составлял гороскопа на смерть.
– Разве можно составить гороскоп на смерть?
– Трудно, – согласилась Катя. – Невозможно установить точное время и место рождения смерти. Но поскольку смерть – вечно длящееся настоящее, допустимо взять любую точку во времени и пространстве. Не ошибешься. У меня получилось на территории древней Ассирии. Я посмотрела исторические карты. Там был храм смерти.
– Нормально, – одобрил Леон, – не подкопаешься.
– Я начала рассчитывать, – пропустила мимо ушей глупую реплику Катя, – и в процессе расчета привходящий элемент – смерть – и коммунизм поменялись местами. Я сделала астрологическое открытие, сопоставимое с открытиями Пифагора в геометрии. Если проще: не коммунизм – смерть, как мы думаем, а смерть – коммунизм. Стало быть, коммунизм вечен и неизбежен. Мы все – итоговые коммунисты.
Леон припомнил выделенное напечатанное заклинание из прежней (устаревшей?) программы КПСС: «Партия торжественно провозглашает – нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Выходит, подумал Леон, не больно-то партия и ошиблась. Наоборот, поскромничала. Каждое поколение советских и несоветских людей рано или поздно будет жить при коммунизме. Но тогда при чем тут партия?
Посмотрел в окно.
Солнце (Россия?) недвижно покоилось на дымных носилках, крепко спеленутое холодными синими простынями.
– Я тут не вижу открытия, – пожал плечами Леон, – по-моему, ты всего лишь пытаешься дать очередное определение смерти.
– Слушай дальше, – с любопытством посмотрела на него Катя. – Жизнь, пока не настала смерть, – все-таки жизнь. А смерть, пока длится жизнь, – еще не смерть. Есть грань, когда жизнь уже не жизнь, а смерть еще не смерть. В медицине это называется кома. Чувствуешь, как похоже: кома и коммунизм?
– И комиссионный магазин, – зачем-то добавил Леон.
– Жизнь и смерть – два мира, существующие каждый по своим законам, – поморщилась Катя. – Кома – граница между ними, нейтральная зона, если угодно, четвертая грань треугольника.
– Далась тебе эта кома, – усмехнулся Леон.
– Два мира существуют в состоянии относительного равновесия, пока ни один из них не пытается подчинить другой. Живые, как того хотел философ Федоров, не рвутся воскресить мертвых. Мертвые не стремятся во что бы то ни стало умертвить живых. Так вот, – тихо произнесла Катя, – коммунизм – это попытка мертвых подчинить живых, распространить кому на живую жизнь. Марш мертвецов.
– Но ведь жизнь, наверное, тоже вечна и неизбежна? – возразил Леон.
– Увы, – вздохнула Катя, – по моему гороскопу, конечна и избежна. Сквозь прорехи в озоновом слое из мертвого мира в живой хлещет коммунизм.
– Но почему его так много в мертвом мире? – поинтересовался Леон.
– Люди раньше верили, да и до сих пор верят, особенно перед смертью, в загробную жизнь, – сказала Катя. – В земной же ведут себя скверно. Я думаю, коммунизм – это загробная жизнь. Вернее, какой она стала, как Бог отступился от людей.
– А он давно отступился? – почему-то шепотом спросил Леон.
– А как изгнал из рая Адама и Еву. Бог был в отчаянье, вот рай и превратился в коммунизм.
– А ад?
– Про ад ничего не могу сказать, думаю, его нет.
«Ну, если Бог в отчаянье, если рай превратился в коммунизм, а ада нет…» – Леона перестало пугать предстоящее. Он легко поднял Катю на руки, поднес к кровати. В конце концов, какого хрена? Россия унесена на носилках. Коммунизм вечен и неизбежен. Бог в отчаянье. Ада нет.
– Я действительно не собиралась так рано! – Катя обхватила его за шею.
Они лежали на невероятно пружинистой квадратной кровати. Леон пошлейшим образом шептал Кате, что раньше лучше, чем позже, а с ним лучше, чем с другим, потому то он… Леон имел в виду, что он до сего дня ни-ни, следовательно, у него не может быть СПИДа. Но тут до него дошло: а с чего это он взял, что и Катя ни-ни? Смолк посреди шепота. Получилось гнусно. Что он, собственно, имеет в виду? Что у него богатейший опыт? Что он лихой парень с большим ковшом из кроссворда?
Некоторое время Катя раздумчиво молчала. Леон почувствовал себя на невидимых весах.
– Сегодня четверг, – сказала Катя. – Сегодня в принципе подходящий день.
Их уста слились, пальцы переплелись, взгляды скрестились. На круглой стеклянной столешнице лежал единственный предмет – ножницы.
– У меня было предчувствие с утра, – сказала Катя, – положила на всякий случай.
Леон протянул руку, взял ножницы, зачем-то туго щелкнул ими в смеркающемся воздухе.
– У меня тоже в сумке. Принести?
– Мои острее, – усмехнулась Катя. – Ты уж поверь. Значит, под «рано» она имела в виду время суток, подумал Леон, всего лишь время суток, и ничего более.
– Зачем? Какой в этом смысл? – Леон решил, что если резать, так по шву, чтобы потом можно было сшить.
– Оставлю на память лоскутки, – прошептала Катя.
Леон легко разрезал на Кате платье по шву от подшитого подола до белого кружевного воротничка.
Он хотел сказать ей, что скоро будет все знать про коммунизм, но уже сейчас знает, что там по шву ничего не сшивают, но это было не совсем то, что говорят в подобных ситуациях девушкам. Поэтому Леон просто сказал Кате, что любит ее и будет любить всегда. «У меня просто не будет времени полюбить кого-нибудь еще», – подумал Леон.
Леон спускался с чердачного Катиного этажа вниз по бесконечной лестнице, радуясь абсолютной ясности своего сознания, внезапно обострившемуся обонянию. Он, как в бинокль, видел каждую щербинку на плитах, прочитывал мельчайшие (большей частью невероятно глупые) надписи на стенах, вдыхал многослойные лестничные запахи, знал, за какой дверью жарят баранину с картошкой, за какой варят капусту, за какой не сильно свежую рыбу. Мелькнула пробензиненная дверь некоего кустаря-технаря. Самогонно-бражная алкоголическая дверишка.
Леон подумал, что жизнь весьма многообразна, но вряд ли эту мысль можно было считать откровением.
Леон пересек холодный вечерний двор: беседки, машины, цветущие яблони.
Переступил порог родного дома.
В доме были гости.
Из кухни донесся громкий уверенный голос: «Я не хочу сказать, что прежняя идеология была во всех отношениях совершенна, скорее всего, нет, но она была хороша уже тем, что была! Народ, общество ни на день, ни на час нельзя оставлять без идеологии. Не суть важно какой. Подобная детерминированность, возможно, вносит раздражение в умы отдельных образованцев, обществу же в целом она гарантирует спокойствие и стабильность. На Западе это прекрасно понимают. Люди не должны задаваться мировоззренческими, социально-политическими вопросами. Люди должны жить и работать! У нас сейчас люди не живут и не работают. В результате мы имеем хаос во всем, и чем дальше, тем сильнее потребуется шок, чтобы привести в норму».
Леон подумал, что это радио, но нет, говорил пожилой, плотный, с седым клоком на лбу, с рюмкой в одной руке и с пустой вилкой в другой.
Леон молча прошел в свою комнату.
– Ты дома? Ужинать будешь? – спросила мать. Она хмельными глазами врозь смотрела на Леона, но мысли и чувства ее были там, на кухне.
– Попозже, – Леон притворил дверь в свою комнату, закрыл на задвижку.
Сочленяя пахнущие ружейным маслом ствол и ложе, вставляя в светящиеся отверстия патроны из пачки с токующим пионером-тетеревом, Леон все надеялся услышать из кухни человеческие слова. Ведь это будут последние слова, которые он здесь услышит. Следующие услышит (если услышит) уже при коммунизме. Но слова произносились неинтересные, скверные.
«О чем они?» – Леон разулся, примерился большим пальцем ноги к куркам.
Держать равновесие было трудно. Он стал похож на цаплю, высматривающую в болоте лягушку.
Леон решил уйти в паузу.
Но вместо паузы отчетливо, как будто не было закрытой на задвижку двери, прозвучало:
– Что бы ни городили эти ублюдки, будущее за социализмом. Русский народ никогда не примет другого строя! За русский народ, за социализм!
Леон дождался звона рюмок, уткнул двухдырное дуло себе в висок, наступил большим пальцем ноги на курок.
Часть вторая
У дяди в зайцах
Машина была не то чтобы безнадежно неисправна, но и, конечно же, не до такой степени исправна, чтобы пускаться на ней в дальний путь.
Каждый раз после поездки, поставив машину на стоянку, а с недавних пор в кирпичный гараж-коробок на пустыре, придя домой, отец подробно, с каким-то даже сладострастием перечислял неисправности.
Казалось бы, дело за малым: взять да наведаться в автосервис. Однако отвращение к автосервису пересиливало у отца страх ездить на неисправной машине. «Автосервис без блата, – сказал как-то отец, – еще хуже, чем социализм без привилегий». – «А ну как встанешь, скажем, в туннеле под площадью Маяковского?» – спросил Леон. «Будут орать, – вздохнул отец, – будут оскорблять, но, по крайней мере, за дело. Когда у нас оскорбляют за дело, значит, уважают, считают за человека. Это звучит как музыка».
Таким образом, отец позорно капитулировал перед автосервисом, малодушно бежал от здравого смысла. То был путь миллионов. Суть происходящих в стране событий, казалось, заключалась в определении рубежа, до которого эти самые миллионы готовы позорно капитулировать, малодушно бежать. Пока что рубеж был (если вообще был) за горизонтом.
В середине мая, доставив Леона из больницы домой, отец заявил, что машине конец: засорился карбюратор, сгнил бензонасос, выходит из строя электронный блочок зажигания, которого днем с огнем.
Несколько дней отец не ездил, пытался дозвониться в автосервис, естественно, безуспешно. Бывалые люди советовали отправиться туда к пяти утра, но предупреждали, что можно неделями ездить к пяти утра и все равно не попасть.
Тут как раз приспела повестка из районного ГАИ. Оказывается, машина два года не была на техосмотре. ГАИ грозило штрафом. Пройти техосмотр в ГАИ было невозможно, потому что невозможно было попасть в автосервис и исправить машину. «Невозможно» представлялось единым и неделимым, как Россия в безумных мечтах белогвардейцев.
Отец впал в безысходную ярость, сравнимую со знаменитым гневом Ахиллеса, Пелеева сына. Вновь начал ездить на неисправной машине, одной лишь силой гнева преодолевая неисправности.
Так, впрочем, ездил едва ли не каждый второй советский автовладелец.
«Где два года, там и три. Бог троицу любит, – определился отец насчет ГАИ. – Прижмут, скажу, работал в Антарктиде, только вернулся, что они меня, посадят? Может, уже и не будет скоро никакого ГАИ».
Схожим явилось и решение, точнее, нерешение относительно автосервиса. Пока машина ездит, пусть себе ездит, что с того, что часто глохнет, у других еще чаще глохнет, и ничего, ездят люди, да и реже стала глохнуть, сама, видать, исправляется.
Иррациональная вера в самоустранение неисправностей, чудотворную природу мотора оставалась уделом едва ли не каждого второго советского автовладельца.
А между тем время дальней поездки настало скоро, а именно первого июня, когда Леон, благополучно закончив восьмой класс, перешел, освободившись по состоянию здоровья от экзаменов, в девятый.
Надо было куда-то ехать из бесхлебной, жаркой и вонючей Москвы.
Собственная – на шести сотках в Тульской области – дача строилась десятый год. Пока что «строительство» выразилось в том, что посреди их овражистого участка вырыли за триста пятьдесят (это еще когда!) глубокий котлован под фундамент, который немедленно до краев наполнился водой.
Весной вода заливала весь участок вместе с оврагом, и смотреть, как идет «строительство», приходилось с сухого пригорка издали. Летом вода в котловане изумрудно цвела, в ней угадывалась простейшая жизнь. Осенью по поверхности плавали флотилии красных и желтых листьев, подмерзшие берега хранили слепки птичьих лап и звериных копыт. Зимой все шесть соток представляли из себя плохо залитый шишковатый неосвещенный (если только луной) каток. «Может, что-то изменилось в дачной политике? – спросила однажды мать. – И мы уже не садоводы, а рыбоводы? Вдруг нам надо разводить карпов, а мы не знаем?» На других участках дела обстояли примерно так же. Только светился трехэтажный с башнями дворец председателя садоводческого товарищества, которое так и называлось – «Товарищ».
Было время, снимали халупу в местечке с социалистическим названием «Семьдесят второй километр».
Но в этом году съемные переговоры закончились неудачей. Отец как чувствовал – не хотел звонить таксисту, владельцу этой самой халупы. Позвонил только после того, как мать заявила, что, если он и сегодня не позвонит, она пойдет и отдастся таксисту прямо в машине. Леона как раз выписали из больницы. Он никуда не выходил, сидел дома с головой, обмотанной бинтами, как янычар в чалме, с ноющим, залепленным мазью, заклеенным специальной светонепроницаемой нашлепкой глазом. Потому и слышал разговор. Таксист (как выяснилось, уже и не таксист, а помощник крупье в казино «Нимфа») запросил сумму в… конвертируемой валюте. «Увы, Коленька, – даже обрадовался, что переговоры оказались короткими, отец, – мы люди неконвертируемые. Что? Да, Карл Маркс написал “Капитал”, но это не про то, как сделать капитал, а как сделать, чтобы никто никакого капитала не сделал. В особенности помощник крупье из казино. Да, Коленька, живу по Марксу. Нет, боюсь, поздновато мне разносить напитки играющим, хотя, конечно, все в жизни может случиться. От сумы, тюрьмы, подноса с напитками не зарекаюсь».
Раньше каждое лето Леон с матерью или отцом, а то и все вместе по месяцу живали в домах отдыха Академии наук. Отец покупал путевки через свой институт. Он и в этом году подал заявление. Но отказали. «Они перестали считать научный коммунизм наукой, – с грустью констатировал отец. – Отныне придется заниматься научным коммунизмом без летнего отдыха». – «Неужели никак нельзя с отдыхом? – вздохнула мать. – Еще в прошлом году можно было». – «Все течет, все меняется, – процитировал отец, надо думать, знавшего толк в отдыхе Гераклита, – в прошлом да, в этом нет. Куда, кстати, мы в прошлом году ездили? Неужели в Литву?» – «Там были сложности с компотом, – напомнила мать. – Всем, даже неграм, консервированный, русским – из сухофруктов. И с лампочками напряженка. Ты еще в сортире вывинтил, чтобы мы могли перед сном почитать». – «Мелочной народец, – согласился отец, – но в этом году Литва нам не светит». – «А Подмосковье?» – «Глухо. Я узнавал. Даже этого старого пня, нашего завкафедрой отфутболили». – «Но ведь надо же его куда-то везти? – с жалостью и ужасом посмотрела на Леона мать. Она была уверена, раз у него забинтована голова, он ничего не слышит. Только страшно смотрит одним глазом. – Не держать же его все лето с простреленной башкой в городе?»
Тогда-то и вспомнили про новоявленного фермера-арендатора дядю Петю из деревни Зайцы Куньинского района Псковской области.
Отыскали письмо.
Отец внимательно изучил тетрадный, исписанный аккуратным – буква к букве – почерком листок.
Леон ожидал, что он выскажется по сути письма, отец же пустился в сомнительные графологические изыскания.
По его мнению, у дяди Пети был «неразработанный» почерк. Так пишут люди из народа, для большинства из которых время писания навсегда заканчивается со школой. Вот они до старости и пишут как школьники.
Если же человек из народа вдруг увлечется кляузами, доносами, перепиской с официальными инстанциями, апелляциями, поисками правды (по отцу все это находилось в одном ряду), почерк его разрушается, теряет чистые первозданные линии, приобретает размашистую шизоидную мерзость.
– Что удивительно, – продолжил отец, – человек при этом не становится ни лучше, ни грамотнее. А почерк портится.
Леон и мать переглянулись.
– Пете теперь придется много писать, – заключил отец. – Гораздо больше, чем раньше.
Некоторое время Леон и мать молчали. Мысль отца была слишком затейлива, чтобы вот так сразу ее постигнуть.
– Когда неприспособленному, с девственным, замороженным алкоголем разумом человеку приходится много писать, излагать на бумаге заявления и просьбы, – снисходительно разъяснил отец, – он может сойти с ума! Ты там присматривай за дядькой! – весело подмигнул Леону.
Леон подумал, что немного сумасшествия в жизни – это вполне допустимо. Как барбарис в плове, долька лимона к осетрине, вишня в стакане с коктейлем. Но когда отец в результате сумасшедшего рассуждения приходит к мысли, что его брат может сойти с ума из-за того, что ему придется много писать (?), призывает сына, чудом избегнувшего психбольницы (мерзавцы, не хотели верить, что он случайно прострелил себе голову!), присматривать за этим самым, могущим сойти с ума из-за писания дядей, – это уже Зазеркалье, поход грибов, как если бы грибы двинулись с ножами и корзинками на людей, суд деревьев над дровосеком, трибунал рыб над утонувшим по пьянке рыбаком. Всякое здравое слово тут начинает восприниматься как спасительная, отбивающая дух сумасшествия специя.
– Он просит пятьсот рублей, – бросила в дымящееся сумасшествием блюдо эту специю мать, – скажешь, что не в долг, что не надо возвращать, пусть Ленька поживет у него летом.
– А ты уже послала? – мгновенно стряхнул дурь отец. Как только о деньгах, усмехнулся про себя Леон, сразу сумасшествию конец, недавний безумец вмиг становится не только нормальным, но еще и скупым. Что в общем-то странно, так как нет на свете ничего более сумасшедшего, нежели пустые, с каждым днем обесценивающиеся советские деньги.
– Нет, – ответила мать. – Сами отвезете.
– Отвезем? На чем? – взъярился отец.
– На машине, на чем же еще? – спокойно ответила мать. – Не думаю, что туда можно долететь на самолете.
– Ты соображаешь, что говоришь? На какой машине? – чуть не задохнулся отец. – Машина сломана!
– Починишь! – отрезала мать.
Леон подумал: она перебарщивает со специями. Отец, пошатываясь, выбежал из комнаты.
Леон пожалел отца. Слишком много неразрешимых вопросов, свистя, летели в него, безоружного, как вражеские дротики. Отцу следовало быть каким-то сверхъестественным деловым рыцарем, чтобы с честью их отразить. Он таковым не являлся. Единственно, что мог: дать в долг (или без отдачи) брату пятьсот рулей, но это было не бог весть что в талонно-купонной разоренной стране. Леон подумал, что, вероятнее всего, проведет лето в Москве.
Собственно, это не очень его огорчило. Из жизни Леона ушло то, что сообщает физическому существованию видимость смысла, а именно переживания. Ему было все равно, где проводить время: в Москве, у дяди Пети в Зайцах, где-нибудь еще.
Леон ходил через день в поликлинику на перевязки. Медсестра разматывала чалму, пинцетом отдирала присохшие тампоны, накладывала новые, закручивала вокруг головы свежую чалму.
Мать с утра уносилась читать лекции. Ей удалось прицепиться к издыхающему, как она выразилась, обществу «Знание».
Отцу, похоже, спешить больше было некуда. За завтраком он просматривал (если их к этому времени приносили, что случалось все реже, как если бы вся печать в стране сделалась исключительно вечерней) газеты. Затем энергично потирал руки, как алкаш перед выпивкой, подсаживался к телефону. «Так-так, – начинал разговаривать сам с собой на разные голоса, как в радиопостановке. – На московских станциях технического обслуживания автомобилей начался рабочий день. Механики, электрики, жестянщики и прочие специалисты готовы обслужить клиентов. Они ожидают заказов. Звоним на Десятую линию Красной сосны, пять. Что там? Ту… Ту… Сосна-Сосна, я – Береза, прием! Не отвечают. Беспокоим Пролетарский пр., двадцать четыре, корп. три. Занято. Что у нас на Сталеваров, семь дробь один? Ура! Девушка, могу я… Бросила трубку. Связь нарушена. Выхожу вторично. Сталеваров, семь дробь один, как слышите, как слышите?»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































