Текст книги "Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1."
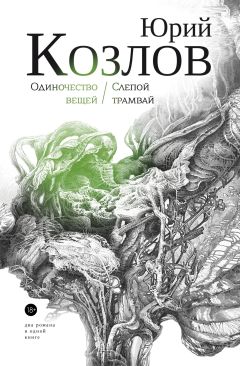
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 43 страниц)
11
Жизневода была ключевым элементом в периодической системе краткого человеческого существования. Внутри нее человек расцветал, как тюльпан на клумбе, тянулся к солнцу, блаженствовал в согретых струях беззаботным моллюском. Почему-то именно с запрятанным в раковину пупырчатым моллюском сравнивала обобщенного, существующего исключительно в ее воображении человека Ангелина Иосифовна. Государство она уподобляла атмосферному столбу, не до смерти придавливающему моллюска. Чем мудрее и менее подверженной непереносимым порокам была власть, тем переносимее был (давил) столб, тем веселее ходил по дну головоногий (это определение годилось и для моллюсков, и для людей). Во времена спокойствия двуединая сущность воображала себя царем подводного царства, наслаждаясь растворенной в жизневоде благодатью и обманчивой крепостью раковины. «Рабствовала в тишине», как угрюмо, но честно писал историк Карамзин. Функцию благодати исполняли деньги и власть, всегда обнаруживающие склонность к соединению в одном флаконе, как в опостылевшей телевизионной рекламе девяностых годов шампуня с кондиционером.
Иному счастливцу жизневода подыгрывала, как режиссер своенравному актеру. Долго терпела его выходки, но в один прекрасный момент, когда ухватившему бога за бороду наглецу казалось, что все на мази и жизнь удалась, объявляла: роль сыграна, ты уволен! При этом актер видел, что многие его коллеги, причем гораздо старше по возрасту, оставались на сцене, играли кто Гамлета, кто Дон Кихота, кто – «кушать подано». Зрители рассаживались в партере и бельэтаже, посверкивали из лож биноклями, стояли в очереди в билетные кассы, ругались с неторопливыми гардеробщицами. Жизневода никогда не отвечала на вопрос: «Почему я?» – оставляя переходящему из труппы в (хорошо, если живые) трупы актеру искать ответ самостоятельно. Театр, где она служила режиссером, был многолик, начинался с вешалки и вешалкой же заканчивался. Ни одно пальто не висело в нем вечно.
Голому (народному) моллюску было нечего оставлять на выходе. У него вместо пальто была слизь. Да и ту государство периодически соскабливало дефолтами, инфляцией, оптимизацией то школ, то больниц. А вот сановно-денежно-властному собрату, заматеревшему в перламутре, нашившему на пальто жемчужных пуговиц, подпоясавшемуся золотым кушаком, было невыносимо расставаться с добром, уходить в нематериальное небытие. Возможно, в будущем жизневоде предстояло превратиться в товар, но пока она сверх лимита не отпускалась. В мире менялось все, за исключением продолжительности человеческой жизни. В России, к примеру, редко кто из мужиков дотягивал до возраста Платона, жившего до нашей эры, или Омара Хайяма, жившего тысячу лет назад. Ангелине Иосифовне был известен лишь один лимитчик – Вечный жид, разных дел мастер, не позволивший несущему на Голгофу крест, оплевываемому и побиваемому Христу присесть на лавке возле своей мастерской, где он то ли чинил обувь, то ли делал ключи. Отдохнешь на обратном пути, будто бы издевательски сказал он. Ладно, только и ты не уходи, подожди меня, ответил Иисус.
Жизневода забавлялась с головоногими, как капризный ребенок с игрушками в детском бассейне. Для кого-то даже в момент слива оставалась щадящей и мягкой. Человек уходил как в сон. Про таких счастливцев говорили: умер и до сих пор не знает об этом. Других – терзала избыточной жесткостью, как библейского Иова, волокла в сливную дыру по острым камням. Уровень жизневоды над той или иной головой был величиной неуловимой, если не сказать несуществующей. Архимедовы законы тут не действовали. Вода сама сочиняла законы, как хотела меняла собственную формулу. Это знали ветхозаветные люди. Дай отведать от вод Твоих, просили они у своего безымянного Бога. И тот поил их, когда сладкой, когда горькой (в зависимости от их поведения и собственного настроения) водой.
Ангелина Иосифовна, подобно точному прибору, определяла уровень здесь и сейчас, но никоим образом не влияла на ее переливы с одной головы на другую или доливы после снятия пены, как некогда рекомендовали раздражающие распоряжающихся за стойками пивных Афродит привинченные к настенному кафелю (чтобы не сняли) таблички в советских пивных. Над табличками смеялись, а зря, подумала Ангелина Иосифовна, они пробуждали в народе гражданское самосознание, учили «требовать», подсказывали алгоритм, как снимать с социализма буржуазную, в конечном итоге придушившую его пену. Но народ не внял, взял сторону покрикивающих из-за стоек на мужиков Афродит. Ангелина Иосифовна вспомнила, как девочкой ходила в школу мимо пивного ларька. Один дядя там пытался скандалить из-за вставшей облаком пены, стучал по прилавку кружкой, вопрошая: «Где пиво?» Его быстро с элементами рукоприкладства оттерли от окошка. «Товарищи, – нервно крикнул из хвоста очереди интеллигентного вида, но трясущийся человек в плаще и с портфелем, – перестаньте ругаться, вы мешаете Зинаиде, всем нальет!»
Случайно встретив Петю в подземном переходе возле метро «Библиотека имени Ленина», Ангелина Иосифовна обратила внимание на изменение формулы жизневоды над его головой. Ее не стало больше (это бы только обрадовало Ангелину Иосифовну), но она определенно стала мягче, точнее, нежнее, трепетнее. Незалежный нос, быстрый глаз ухватили, как стрекозу за хвост, неуловимый change. Возможно, это было как-то связано с гуляющим над Александровским садом теплым осенним ветром. Но, может, и нет. Неужели, с грустью подумала она, я забыла, как поет в саду души (она недавно читала чувственные рубайи Хафиза), особенно на склоне лет, птица любви? Это как старый добрый аспирин при внезапной температуре. Пока, продолжила мысль, певчая птица не обернется ловчей, а аспирин не выйдет вместе с… потом. В жару, мелькнула неуместная, подростковая какая-то мысль, любовь и пот неразлучимы.
У нее так часто бывало. Начиналась мысль хорошо, а заканчивалась не очень. Ладно, если просто пошлостью или тупым юмором, хуже, когда совсем неприлично. Она подозревала, что именно в этом заключалась трагедия философии как науки. Философия – наука во все стороны и никуда, такое однажды пришло ей в голову определение. Одни философы гнали «никуда» вверх, где Бог и Высший Разум, другие вниз – где тело и мать сыра земля. Чтобы иметь детей, вспомнились ей бессмертные слова Чацкого из «Горя от ума», кому ж ума недоставало? Ангелина Иосифовна видела в них не сатиру, как писали в учебниках, а приговор современной цивилизации. В мире отсутствовала сила, способная соединить (уже по Мальтусу) инстинкт размножения и силу разума.
Она не понимала, какое ей дело до философии и почему она придумывает подобные определения, но давно перестала этому удивляться. Иногда ей казалось, что у нее над головой невидимая антенна, которая ловит неизвестно чьи мысли и, как семена, бездумно пересаживает их в ее скупой, неурожайный разум, где полезные злаки или трепетные цветы мгновенно дичают, превращаются в сорняки. Ангелина Иосифовна, как пел Александр Вертинский в знаменитом романсе, не знала, «зачем и кому это нужно».
Сверхзвуковым дроном (с некоторых пор это военное слово знали даже дети в младших классах и подготовительных группах детских садов) пронеслась над Александровским садом ночная птица, возможно вылетевшая в сумерках из Кремля сова Минервы. Она обронила две невесомые, замеченные одной лишь Ангелиной Иосифовной пушинки. Идущим по саду редким прохожим плевать было на мудрую сову. В одной парящей в темном воздухе пушинке Ангелине Иосифовне почудилось отчаянье, в другой – что-то похожее на… месть. Неужели мудрость в том, что даже отчаянье наказуемо и подлежит отмщению, удивилась она. Но тогда осталось в мире хоть что-то безнаказанное?
К сожалению, в тот поздний вечер у Ангелины Иосифовны не получилось заглянуть в жизневоду Петиной подруги. Парочка, обнявшись, скользнула под сень круглосуточного ларька, где продавались хот-доги с кетчупом или горчицей по выбору клиентов. Она могла подойти к ним, но что-то ее остановило.
Ей снова в мельчайших подробностях (она никогда ничего не забывала) вспомнился подслушанный в «Кафке» разговор двух приятелей. Не сказать чтобы он ее увлек. Разговор напоминал потушенный костер, над которым остаточно веял жидкий дымок неотчетливой, как все в их возрасте, до углей прогоревшей эротики.
Ангелина Иосифовна в свое время придумала специальный термин – «туманный возраст» – для обозначения часто посещающих аптеки пожилых (после пятидесяти семи, такую почему-то она провела границу) людей. Туман, внутри которого существовали особи указанного возраста, состоял из ночного кинематографа (видеть сны им было интереснее, чем жить), горьких или сладких (как божественная иудейская вода) воспоминаний. Их можно было сравнить с кусками янтаря, внутри которых застыли артефакты далеких времен – скомканные стрекозы, а то и распустившие крылья, красивые бабочки. Янтарь можно было перебирать, подносить к свету, но бабочки и стрекозы свое отлетали миллионы лет назад.
Ангелина Иосифовна сама была фанатом ночного кинематографа. В одном из сеансов старость увиделась ей в образе вонючей, торчащей из костра суковатой палки. Люди тумана существовали одновременно в режиме предстоящего исчезновения и надежды, что суковатая палка будет тлеть долго. Контуры исчезновения смягчались в сумеречной воздушной перспективе (Леонардо да Винчи называл ее сфумато), обретали (отчасти) успокаивающую всеобщность. Душа в небо, тело в землю.
Старость, как открылось ей в другом – железнодорожном – сне, была чем-то вроде тамбура между двумя вагонами. Переходить из одного в другой никто не стремился, но деваться было некуда. Собственно, Ангелине Иосифовне и самой оставался год с небольшим до перемещения в тамбур. Пятьдесят семь – она сама определила точку невозврата. Горячо поддержанное, как писали в газетах и говорили по телевизору, народом решение властей поднять привычный (советский) пенсионный возраст навсегда освежило безрадостную атмосферу тамбура ветром нищей старости. Государство прошлось кочергой по торчащим из демографического костра суковатым палкам.
В принципе Ангелина Иосифовна была готова к перемещению в тамбур и далее по расписанию (природу не обманешь), но с некоторыми оговорками.
Как жаль, думала она, что никому нет дела до моего тела.
Раздеваясь в ванной, она радостно удивлялась, какое оно белое, упругое, гладкое. Как снежная горка, с которой, смеясь, скатываются на разных новомодных приспособлениях спортивные мужчины и женщины. С таким телом и… в тамбур, в туман, в костер, мухой в янтарь? Хотя имелась одна закавыка или, как выражался первый, много лет поминаемый недобрым словом президент России, «загогулина». Ее лицо опережало тело на пути в тамбур. Нестареющая свежая плоть пряталась в одежде – от плеч и ниже, как в куколке.
Сравнивать себя с янтарной мухой она не хотела. Лицо же висело над куколкой, как засохшая цветочная головка. И руки брали пример с лица, были твердые, костистые, как черепашьи когти.
И ведь не сказать чтобы Ангелина Иосифовна сильно их утруждала, особенно в последние годы. Обжигала злыми составами, да, иногда страдала от болезненных или зудящих аллергических высыпаний.
Сама виновата, работала без латексных перчаток. Труд провизора тонок и строго регламентирован, хотя (в части ошибок) не идет в сравнение с трудом врача-диагноста. Тот рискует жизнью пациента, тогда как провизор – всего лишь Вергилий (проводник) ошибочного врачебного или самого отчаявшегося больного решения.
Категории «врачи-убийцы» и «у каждого доктора свое кладбище» вечные, подумала она, пока существуют болезни и лекарства.
Куда, куда ты спешишь? – вопрошала Ангелина Иосифовна, глядя в «свет мой зеркальце, скажи да всю правду расскажи» на помеченное «гречкой», расчерченное меридианами морщин лицо.
Значит, во мне опережающе стареет все, что на виду, догадалась она, показав свет мой зеркальцу язык. С лица не… жизневоду пить! Как было бы хорошо, усмехнулась, войти в тамбур… голой, прикрыв лицо маской, а руки перчатками. Или мне там не место? Знал бы Петя, какие ласковые и мягкие крылья тоскуют в куколке!
Совсем недавно Ангелина Иосифовна решила, что ей нет дела до того, чем занимается Петя в «туманном» тамбуре. Но теперь дело ожило, взмахнуло крыльями, как выпроставшаяся из хитиновой куколки бабочка. Она не знала, связано ли это с ее странным желанием войти в тамбур обнаженной или с чем-то иным, скрытым в дымящемся тумане.
…«Ее отец, адмирал, недавно умер, – своднически вводил Петю в курс дела пожилой зонтичный рокер, – она дико переживает, вдруг вспомнит, начинает рыдать в голос, люди смотрят».
«Давно умер?»
«Да полгода назад».
«И до сих пор – в голос?»
«Наверное, сильно любила, – предположил рокер. – Он ее вырастил, мать рано умерла. Они в советское время жили на Камчатке, там база атомных подводных лодок. Пожар, утечка радиации, сам как-то проскочил, а у жены лейкемия».
«А сам от чего умер?»
«Инфаркт, хотя…»
«Что?» – насторожился Петя.
«Да разное… – замялся зонтичный. – Не знаю, может, она выдумывает? Или не выдумывает. Семьдесят лет – нормальный возраст для подводника. Пожил».
«Чего выдумывает?»
«Бред, – понизил голос рокер. – Что-то такое про Каспийское море, стрельбы то ли “Калибрами”, то ли “Кинжалами”. Будто бы что-то там пошло не так, и чуть не дали залп по Кремлю и по всем резиденциям, включая секретные… Якобы по ошибке, напутали в программах, сбой в электронике, а может, хакеры влезли в систему спутникового наведения. Адмирал не то перехватил в последний момент, не то… В общем, или перенервничал и его хватил удар, или сам… того, как при Сталине. А может, его. Дело темное, лучше не лезть. Она говорит, отец восстанавливался после приступа, лечили от давления в военном госпитале. Она все время разное говорит. К ней приходили люди, объяснили, что стрельбы в последний момент отменили, никакие “Калибры” никуда не полетели, все “Кинжалы” остались в ножнах. У адмирала ночью в палате случился инфаркт, врачи вошли утром, а он уже холодный. Она все препараты, чем лечили, что кололи, тайно переписала. Показывала другим врачам, все говорят – идеальный курс. Она не верит. Думаю, скоро успокоится. Вдовец, не следил за здоровьем, все служба, служба. Ему год назад назначили плановое шунтирование, перенес. Ей показали и выписку из истории болезни, и копию медицинского заключения о смерти, даже результаты вскрытия. Похороны на Ваганьковском, как положено, с оркестром, почетным караулом, залпами, орденами на подушечках, соболезнованием от министра обороны. Но она думает, что убили. Ты бы ее отвлек… Я бы тебя не вписывал, но больно уж баба хороша. От сердца отрываю».
«Она меня пошлет!»
«Не скажи, – возразил зонтичный, – есть зацепка».
«За что?» – усмехнулся Петя.
«Адмирал зацепился, – объяснил зонтичный, – да не за что, а за тебя. Он, как говорят студенты, твой фанат. Не пропускал ни одной передачи на этом, как его… ну где ты вещал, “Радио Крейсер”».
«Это же заглушка, – удивился Петя, – на патриотическую оппозицию, слушателей не больше ста тысяч, я там такое нес… К топору звал Русь, отрабатывал по целевой аудитории, мол, к топору-то к топору, но сейчас рано, надо подождать, до того прогнило, что само отвалится. Ужас-ужас, но без государства что? Кровавый хаос, война всех против всех! Копим силы, ждем момента, сотрудничаем с единомышленниками во власти, все по сценарию, чтобы сидели тихо».
«Вот он и сидел тихо, мотал на ус, но дело не в этом, – недовольно уставился на фляжку (видимо, содержимое закончилось) зонтичный, – она назвала фамилию, я сказал, что мы с тобой друзья, могу познакомить, она обалдела. Так что – вперед! Ты уже все на “Крейсере” сказал, охмурять не надо, баба готова».
«Но почему она так думает? – спросил Петя. – Есть факты?»
«Понятия не имею, – раздраженно ответил зонтичный, – молчит. Или такое несет, что уши вянут. Ну, – зыркнул по сторонам, – что… папе дали тайный приказ пустить “Калибр” по Карабаху, а он хотел спасти Россию, пустил сам понимаешь куда, в общем, теория заговора, конспирологический бред».
«А за ней… не ходят?»
«Не бойся, – хмыкнул рокер. – Она только со мной на эту тему и только после. Ладно. Как-то у нее это взаимосвязано. Вспомнит про отца и… вулкан. Никто не ходит. Да кто станет следить, тратить время? Было бы хоть что-то – по башке в подъезде, и кранты, кому она нужна?»
«Ты сам-то, – покосился на друга Петя, – видел этого адмирала?»
«Только на фотографии. Советская такая ряха. В адмиралы вышел в нулевые, квартиру дали на Тверской, участок на Клязьме, дачу, правда, не успел поставить – наверное, честный. Непонятно как дослужился, у нас же кораблей почти не осталось, и не выпускают никуда. В общем, от сердца отрываю бабу, хотя есть определенные странности. Думаю, у вас с первого раза получится».
«А ты, значит, устал?»
«Двух не потяну, – признался рокер. – Ты же видел мою новую – аспирантка, двадцать пять, огонь под юбкой, только вперед! Тянет в постель, а я – рефераты читать, никогда так много не читал, жду, пока заснет. Да, Петя, устал, покоя сердце и… другой орган просят, а где он, покой?»
«Она что, отпустила с условием, что подыщешь замену?» – попытался налить из фляжки Петя, но фляжка была пуста.
«Какая разница, – посмотрел на часы рокер. – Дело твое. Позвонит, скажешь, что не можешь, работы много, она поймет».
«Работы как раз мало, – мрачно заметил Петя, – С “Крейсера”-то, суки, списали. Сказали, что где-то я то ли пережал, то ли не дожал по линии конструктивного патриотизма, концов не найти, с эфира сняли, деньги урезали, хожу, ищу».
«Когда я ее провожал на Тверскую, она после развода к отцу переехала, – вздохнул, погружаясь в приятные воспоминания, зонтичный, – мы брали в подземном переходе на Охотном хот-доги в ночном ларьке. А в магазине внизу – пиво. Иногда потом добавляли. Такая у нас образовалась традиция. Заходили по пути во двор, где скамейки, и, так сказать, поздно ужинали. Она привыкла. Иногда даже, – понизил голос, но Ангелина Иосифовна расслышала, – тащила в подъезд. Там на втором мраморный подоконник, широкий, как плита, удобно упираться. Но это когда адмирал был живой, сейчас можно сразу к ней, но ты не удивляйся, если вдруг не дотерпит».
Ангелина Иосифовна честно призналась себе, почему в давний прогулочный вечер не стала измерять запас жизневоды над головой дочери адмирала. Она услышала сквозь шуршание снимаемых с хот-догов бумажек и щелчки открываемых банок пива ее смех. Это был смех счастливой женщины.
12
Где адмирал, там вселенские воды, подумала она во время очередной прогулки, выходя из Александровского сада на Манежную площадь, эсминцы и авианосцы, морская авиация и пехота. А еще, вздохнула, подводные лодки. Океан казался ей жидким черепом Земли. Подводные лодки плавали внутри него, как инсультные тромбы. Что поделаешь, где ядерное оружие, там риск. Оно дремлет в торпедных отсеках и подземных шахтах, но один глазок всегда открыт, смотрит.
Она отвлеклась от воспоминаний о разговоре двух пожилых джентльменов. Они были каплями на перископе всплывающей субмарины. Ее увлек образ затаившейся в Марианской впадине или под ледяной корой Северного полюса подводной лодки. Так, по ее мнению, должна была выглядеть тайна, выстреливающая в нужный момент из глубины ракетой, проламывающей толщу черных вод и ледяную броню. Она, конечно, может инсультно потрясти (хорошо, если не уничтожить) все на свете, продолжила мысль Ангелина Иосифовна, но ледяная броня крепка, толща вод бездонна, а люди боятся истины, гонят ее, как неопрятную грязную птицу, присевшую на балкон. А еще боятся смерти. Молодые, снова вспомнила слова философа Степуна, живут с глазами, закрытыми на смерть. А все вместе, старые, пожилые, молодые, может быть, за исключением детей, добавила от себя, на истину.
«На чем держится мир», «Ничья длится мгновение» – случайно всплыли в памяти названия прочитанных в психоневрологическом интернате произведений. Хотя почему случайно? Когда в библиотеке не осталось непрочитанных книг, которые она сама выбирала, она принялась, изумляя библиотекаршу (по совместительству инструктора ЛФК) читать по алфавиту.
Ангелина Иосифовна отчетливо увидела черно-серую обложку книги. Вот только фамилию автора не смогла вспомнить. Читая все подряд, она не отвлекалась на подобные мелочи. Содержание подхватывало ее, как ветер листья в Александровском саду, уносило в такую высь, откуда корпуса психоневрологического интерната казались едва различимыми болячками на широко раскинувшемся теле Земли.
Хорошую книгу Ангелина не просто читала, а по ходу дела додумывала и передумывала, вводила новых и изгоняла, если не нравились, старых героев, мешала, как водку с пивом, свою фантазию с авторской. В результате образовывался бьющий по мозгам ерш, щетинисто прущий против намеченного автором течения. Он не помнил икринку, откуда вылупился, норовил ее сожрать. Для того, собственно, и пишутся книги, рассудительно полагала Ангелина, чтобы читатели жили в них, как в домах, а если что-то не так, перестраивали или… сносили.
В первом произведении речь шла о неожиданной встрече в концлагере девочки и добермана, реквизированного у семьи девочки, когда Гитлер весной тридцать девятого года присоединил к рейху остаток Чехии, и вермахт оккупировал Прагу. Евреям не полагалось держать породистых служебных собак. Немецкие кинологи в специальном питомнике перевоспитали добермана для несения охранной службы. Псу понравилось это дело, и он даже как-то загрыз до смерти по команде эсэсовца обессилившую пожилую узницу, продемонстрировав свою верность тысячелетнему рейху. Но потом между псом и оказавшейся в этом же лагере девочкой случился визуальный контакт. Картины прежней мирной жизни ожили в голове добермана. Ангелина как будто сама оказалась в лагере. Ночь, луна, вышка с прожектором, колючая проволока под убийственным напряжением. В психоневрологическом интернате не было вышек и колючей проволоки, но некоторое родство между пейзажами присутствовало. Желая помочь вышедшей в его дежурство по лагерному периметру из барака хозяйке, доберман вцепился в проволоку зубами. Девочка (она не собиралась бежать, а хотела всего лишь его погладить) попыталась оттащить бьющегося в конвульсиях пса. Они попали в луч прожектора. Охранник расстрелял их с вышки из пулемета.
Ангелина не знала, так было в книге или иначе. В ее книге было так. Мир держался на том, что доберман и девочка погибли и – одновременно – на том, что она хотела его погладить, а он – помочь ей вернуться в прежний мир, где им было хорошо. Понять, что тот мир более не существует, собака, видимо, не могла. Животные, как установил великий физиолог Павлов, обладают линейной, а не объемной, как люди, памятью. Мир стоял на том, что в мгновения смерти девочка и доберман любили друг друга. Это было зыбкое стояние на качелях, один конец которых был тяжел, как свинец, а другой невесом, как воздух. Но каким-то образом жизнь балансировала на них, ища невозможное равновесие. Это история потрясла бы фейсбук, если бы у Ангелины Иосифовны имелся там аккаунт, нагнала бы в ее копилку немыслимое количество лайков. Глядишь, и рекламодатели обратили бы внимание на скромного блогера-провизора. Не мне, не мне, вздохнула она, монетизировать холокостную печаль.
Во втором преобразованном неуемной фантазией Ангелины произведении забытого автора чудом выживший в нацистском лагере шахматист спустя годы в отеле встретился с немецким коллегой, проводившим в оккупированной Праге сеанс одновременной игры с собранными по лагерям и тюрьмам шахматистами-евреями. Торжество арийского шахматного гения, однако, получилось не полным. Все участники этого, с позволения сказать, турнира поддались немцу, и только один осмелился в стопроцентно выигрышной позиции предложить игравшему в мундире оберштурмбанфюрера СС сопернику ничью, которую тот принял. Спустя годы в заштатном португальском отеле уже немецкий шахматист, сменивший мундир оберштурмбанфюрера СС на потертый пиджачок туристического агента, предложил приехавшему туда по своим делам и случайно узнавшему его, сидящего в холле за шахматной доской, еврейскому коллеге сыграть партию. Тот согласился, но партия сложилась не в его пользу. Видимо, скрывающийся от возмездия немец тратил немало времени (а чем еще ему было заниматься?) на шлифовку шахматного ремесла. До проигрыша оставалось несколько ходов, когда он предложил еврею ничью. В этот момент в холл как раз вошли полицейские, так что у чудом выжившего в лагере смерти еврея был выбор, как поступить. Но он принял ничью от находящегося в стопроцентно выигрышной позиции немца, памятуя о том, что бывший эсэсовец не отправил его в газовую камеру за ту, другую ничью.
Точные названия, мысленно одобрила неизвестного, но правильно понимавшего жизнь автора Ангелина Иосифовна. Мир воистину держался на длящейся мгновение ничьей между добром и злом. Только это мгновение, подумалось ей, растянулось на всю историю. А вы, мысленно обратилась она к несуществующему сообществу своего несуществующего аккаунта в фейсбуке, согласились бы на ничью или играли строго на выигрыш? У меня никогда не было собаки, вздохнула она, никто не будет играть со мной в шахматы.
Если бы я была мужчиной, мне бы льстило знакомство с дочерью адмирала, вернулась к делам сегодняшним Ангелина Иосифовна. Оно равнозначно приобщению к тайне. Но тут же и загрустила. Она сама была одновременно и тайной, и (во многих смыслах) ничьей, но мало кто рвался с ней сыграть.
А если и (теоретически) рвались, то к вторичным сопутствующим тайне элементам. Рвались под юбку, к нестареющему телу, на охрану которого с некоторых пор заступила очкастая черепашья физиономия. Хотя в слове «рвались» присутствовала ожидаемая (по Фрейду), но строго не направленная на Ангелину Иосифовну сексуальная энергия. Никто не рвался к ней под юбку, потому что никто не знал про свежее, белое, как холодильник, тело. Она тоже не знала, как бы этот холодильник встретил лезущую в него руку – заморозил, ударил током? Или, напротив, лизнул, как не оправдавший надежд немецких кинологов неарийский доберман руку бывшей хозяйки?
Ангелина Иосифовна вспомнила, как несколько месяцев назад Андраник Тигранович неожиданно вручил ей абонемент в фитнес-клуб «Золотая гагара» с бассейном.
«Зачем?» – удивилась она.
«Я переписал на тебя абонемент жены, – объяснил он, – она не сможет ходить до конца года. Уехала к брату в Германию».
«А если вернется? Прилетит, как… золотая гагара?» – Ангелине Иосифовне понравилось, что фитнес находился в Хохловском переулке, то есть не сильно далеко от ее дома и аптеки.
«Тогда отберу, – пообещал Андраник Тигранович, – вытащу тебя из бассейна, как… черепаху».
Понятно, поправила на носу очки Ангелина Иосифовна, хочет увидеть, что под панцирем.
Поступок начальника ее озадачил. Она не была решением его семейных проблем. Разговор происходил в кабинете, где ей ничего не напоминало ни о чем, за исключением портрета Ленина на стене. Много лет он валялся на складе, а вот, поди ж ты, выскочил из пыльного небытия.
«Под Лениным себя чистите?» – кивнула на Ильича Ангелина Иосифовна.
«Живее всех живых, – ответил Андраник Тигранович. – Отдал туркам нашу землю, но остановил геноцид. Понимал, – с уважением посмотрел на портрет, – как работать с народами».
Политолог, перевела дух Ангелина Иосифовна. И швец, и жрец, и на дуде игрец, посмотрела на не устающего открываться с разных сторон начальника. Уточнила: не на дуде, а на дудуке, так, кажется, называется народный армянский музыкальный инструмент. Начальник часто слушал в кабинете старинную национальную музыку. Она и сейчас приглушенно звучала из одетого в мореный дуб музыкального центра. Видимо, Андраник Тигранович приобщал к ней незримо присутствовавшего в кабинете Ленина, предпочитавшего (это в советское время знал каждый школьник) «Аппассионату» Бетховена.
«Как сладко дудук поет», – он отошел к окну, но Ангелина Иосифовна заметила на черной щетинистой щеке заплутавшую слезу.
Она решила больше вопросов не задавать, не травмировать начальника. Нельзя, перевела взгляд на портрет Ленина, жить в России и быть свободным от России.
Это было невозможно, но Ангелине Иосифовне показалось, что выражение лица на портрете изменилось. Во времена заведующего-коммуниста Ленин строго и прямо смотрел со стены. Не все посетители кабинета выдерживали его взгляд. Сейчас вождь мирового пролетариата иронично косился на мягкую кожаную мебель, лакированный наборный (под старину) глобус на страусовой ноге, внутри которого скрывался бар, расстегнувший деревянное пальто музыкальный центр. Все это – пыль, как будто говорил он, исчезнет, как неведомая страна Тартария на историческом глобусе. Не прятался от проникающего ленинского взгляда и сейф под армянским пейзажем в золоченой раме. Ангелина Иосифовна не сомневалась, что Ильич знает, сколько в сейфе денег и когда они будут экспроприированы на нужды народа. Интересно, подумала она, вернул бы Ленин армянам Арарат, если бы вдруг сейчас возглавил Россию?
Она совсем не удивилась, когда спустя какое-то время Андраник Тигранович признался: «Я видел тебя два дня назад в бассейне».
«А я вас нет», – мгновенно перебрала в памяти молодые и старые мужские тела в плавках, шапочках, некоторые при ластах и водяных очках на всех четырех дорожках (она всегда все видела и ничего не забывала) Ангелина Иосифовна.
«Я смотрел на тебя сверху, из офиса охраны. Там слепое в одну сторону стекло. Я, видишь ли, покупаю половину этого заведения».
«Почему только половину?» – уточнила Ангелина Иосифовна, как если бы начальник покупал упаковку таблеток.
«Зачем зря тратиться? – спросил (у самого себя?) Андраник Тигранович и сам же (себе?) ответил: – Я проведу решение о капитальном ремонте, выкачу такую смету, что другие акционеры отдадут свои доли по моей цене. Они не потянут ремонт. Кто-то, конечно, предложит увеличить уставной капитал, но акции все равно подешевеют. Без вариантов. “Золотая гагара”… – поморщился. – Это пошло и… – добавил после паузы: – Не ко времени».
Ангелина Иосифовна пожала плечами. Выходящие за пределы аптеки у Садового кольца коммерческие (и геополитические, вспомнила про ленинскую работу с народами) проекты Андраника Тиграновича ее не интересовали.
«Что ты делаешь со своим лицом? – спросил он. – Зачем прячешь тело?»
Похоже, у начальника было отменное зрение или он смотрел на нее сквозь слепое стекло в бинокль.
«Прячу? – задумалась Ангелина Иосифовна. – Рада не прятать, так ведь не… в Майами живем».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































