Текст книги "Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1."
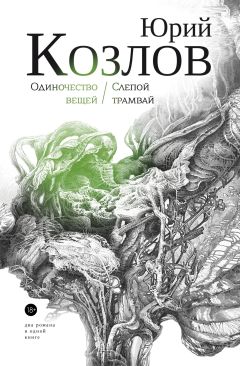
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 43 страниц)
Или его оторвали.
7
Скатываясь по вечерам с Садового кольца, солнце постепенно меняло траекторию. К концу сентября аптечный куб переставал наполняться красно-золотым иконным светом. Зато ветер, как почтальон, приносил из близлежащих скверов конверты сухих листьев, складывал их у входа в аптеку. Некоторые, видимо заказные с уведомлением, влетали внутрь вместе с посетителями. В ту осень все жили ожиданием очередной волны (с каждой мутацией набирающего смертоносную мощь) вируса, прицепившегося к человечеству в две тысячи девятнадцатом году. Но в приходящих от природы письмах не было информации на этот счет. Сами же люди давно перестали удивляться тому, что они (по Булгакову) «внезапно смертны».
Первая волна то ли лабораторного, то ли природного вируса накрыла Москву, подобно цунами. Прежняя тихая, покорная, но не голодная и относительно (если не лезть без разрешения в политику) спокойная жизнь в считанные дни растворилась в хаосе переполненных больниц, беготне закрученных в полиэтиленовые коконы врачей и медсестер, укатываемых в реанимацию каталок с неподвижными, как мумии, пациентами. Паниковали (не зря посетил аптеку плешивый старик с лыжной палкой!) заболевшие и здоровые, боящиеся заболеть. Из всех (по Оруэллу, которого Ангелина Иосифовна, как и Достоевского, любила за исчерпывающее – до дна – понимание человека и общества) информационно-аналитических речекряков на головы пользователей обрушивались взаимоисключающие научные, псевдонаучные и конспирологические теории. По экранам телевизоров и компьютеров змеино ползли вверх зловещие графики.
Само происхождение вируса – от летучей мыши и неведомого, как из средневекового бестиария, чешуйчатого зверька панголина – наводило на мысли о нечистой силе и разверзшихся вратах ада. Вирус, как летучая мышь, летает и заражает везде, но спасется только тот, кто в чешуе (как панголин) иммунитета, которого нет, потому что нет вакцины. А те вакцины, какие навязывают власти, подозрительны и сомнительны, как, собственно, все, что исходит от власти. Прижившиеся в гаджетах-речекряках образы летучей мыши и панголина ненавязчиво намекали, что судьба человечества в руках (бритвенных крыльях, разящих когтях?) людей, напоминающих своим (внешним и внутренним) обликом эти существа. То есть тех, кто в секретной пробирке скрестил их гены да и выпустил на страх людям вирус на волю.
Вирус вверг народы в новое – лабораторно сконструированное – темное Средневековье. Лабораторный бог (вослед Артериальному и всем прочим проснувшимся на безбожье богам) дал миру ускоренное равенство по библейскому принципу «нет ни эллина, ни иудея». Он карал (отнимал жизнь) и миловал (позволял выздоравливать) по случайной, но справедливой (кто в жизни без греха?) выборке. Пророком вирусного бога была объявлена вакцина. Героями речекряков стали засекреченные (со скрытыми под забралами лицами) ученые, производящие таинственные манипуляции с пробирками внутри вращающихся инновационных медицинских агрегатов. Они, как мельничные боги, перемалывали зерна массового сознания в муку для выпечки новых (отнюдь не евангельских, какими Иисус кормил голодных) хлебов. Массы понуждались к вере в добрые намерения того (тех), кто (опять же если верить теперь уже конспирологическим речекрякам) их уничтожал – подчищал биологический мусор по своему усмотрению. Это была следующая стадия выученной беспомощности – выученное смирение, покорность как воля. Природное (божественное) первородство Homo sapiens при этом менялось не на олицетворяющую привычную жизнь «до» универсальную (кому арбуз, кому свиной хрящик) чечевичную похлебку (умирали от вируса далеко не все), сколько на взявшуюся все на свете регламентировать, всем управлять цифру.
Как некогда русская императрица Анна Иоанновна, цифра нагло и победительно разорвала ограничивающие ее самодержавную волю кондиции. Отныне она определяла жизнь разогнанных по квартирам законопослушных граждан, наделяла их электронными кодами, то запрещала, то позволяла выходить из дома, ездить в общественном транспорте, ходить в гости или еще куда-то.
Цифра стала хранительницей («от зловонной пеленки до савана смердящего», как говаривал герой одного американского романа) знаний о человеке. А где знание, там управление. Бог, управляя сущим, имел в виду дарованную Им человеку душу, как нечто высшее и иррациональное, способное перевернуть с ног на голову любое социальное или межличностное уравнение. Цифра не знала души – оперировала исключительно сама собой.
Никто не знал, откуда взялась всемогущая цифра, где пряталась до вирусного «часа икс». Она слилась с ним в экстазе, растянула час на годы, а там, глядишь, на все оставшиеся времена. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – провозгласила вослед Фаусту цифра.
И оно остановилось.
Для всех, кроме цифры.
Она готовилась вновь удариться о землю, обернуться… Никто точно не представлял, как он выглядит, но многие верили, что он «при дверях», как писал про антихриста в начале прошлого века философ Сергей Нилус. Это было невероятно, но он не уехал после революции в эмиграцию, остался в России и умер в 1929 году своей смертью в глухой деревне Владимирской губернии. Большевики много раз его арестовывали, держали в застенках, но почему-то не расстреляли, оставили доживать «при дверях». Публицисты и философы гадали: как сильно изменится мир, когда (если) схлынет вирусно-изоляционно-цифровое безумие, что уцелеет под обломками? Или обломки (свалка?) и станут новым миром?
Ангелина Иосифовна не то чтобы знала наверняка, но подозревала ответ. Он бы не понравился проснувшимся на безбожье, зачастившим в аптеку и по ее душу новым богам.
Цифру-чип, как злую собаку, вел на поводке искусственный интеллект. Да, он мог на время подчинить, но не мог окончательно победить природу человека, внутри которой сплетались и расплетались два фантома – «душа» и «смерть». Искусственный интеллект правил здесь и сейчас, где хозяйничал невидимый вирус, но не там, где взаимодействовали нелюбезные ему фантомы. Пока существовало недоступное искусственному интеллекту внецифровое пространство, человек гнулся, рабствовал, трусил, но держался. Именно поэтому ИИ, как его называли просвещенные граждане, по умолчанию стоял на том, что души нет, а смерть удастся со временем бесконечно отсрочить, возможно, с помощью этого или другого чипа. Пока что люди должны были привыкнуть к бесконечным прививкам и (снова по умолчанию) чипам. Им надлежало безропотно впускать, не спрашивая, в свое тело некие, сконструированные загадочными существами в скафандрах и без лиц, химико-биологические препараты.
Если вирус был ситуационной реальностью «по требованию», то ИИ душил человеческую душу в поте лица (если, конечно, у компьютеров потеют экраны), трудился над созданием резервной копии исходного материала – цифровой души. Все внецифровое было для ИИ чем-то вроде протестного сетевого ресурса, где зреет неповиновение, своего рода «даркнета», где творится преступное и непотребное. Поэтому неконтролируемое прибежище антицифровиков, как до этого патриотизм – подтвержденное и доказанное в безнациональную либеральную эпоху «прибежище негодяев», – следовало уничтожить, как некогда римляне уничтожили Карфаген.
Пока ИИ разминался, нагуливал силу, орудовал, как разведчик (шпион) под прикрытием вируса. «I am a spy in the house of pandemic», мог бы он спеть, перефразируя Джима Моррисона.
Лучше бы он, а не Моррисон, подумала Ангелина Иосифовна, словно ИИ был из плоти и крови, в возрасте двадцати семи лет (первая числовая граница отсечения гениев, если вспомнить Лермонтова, Перси Биши Шелли, Кристофера Марло, Новалиса и прочих) оказался в Париже и не проснулся утром в ванне.
Но ИИ был везде и не пользовался ванной.
Напуганный вирусом мир, подобно советской игрушке «ванька-встанька» (сейчас такие не делали), гнулся под вездесущей рукой ИИ. Но как только рука отвлекалась и (по техническим причинам) отпускала, возвращался, мелодично позванивая, в прежнее состояние. В Средние века разгоряченные пассионарные толпы громили и жгли чумные бараки, убивали ходивших в черных хламидах, страшных масках со стеклянными глазами и кожаными клювами, похожих на вылезших из-под земли адских птиц врачей. Верующим в Небеса, Христа и Богородицу простецам было трудно (хотя бы в силу их внешнего вида) поверить в добрые намерения этих существ.
За все время катящихся по планете эпидемических волн не пострадал ни один центр, где конструировались смертоносные вирусы. Напротив, только на них и уповал ожидающий исцеления, жаждущий возвращения привычного бытия всемирный «ванька-встанька». Он привык к бесперебойно подливаемой в его тарелку чечевичной похлебке в виде круглосуточных торговых центров, фастфуда, фитнеса, барбершопов, турагентств, улетающих к теплым морям чартеров, дешевому алкоголю в отелях «все включено», кофеен, суши-баров, супермаркетов, одежных аутлетов, смартфонов, купленных в кредит квартир и автомобилей. «Ванька» не понимал, почему он должен всего этого лишиться, а потому злился и наивно требовал от сбившейся с ритма, склоняющей выю пред волей ИИ реальности: «Встань-ка»!
Тогда для укрощения «ваньки» в помощь слабеющему вирусу и теряющему стратегическую инициативу ИИ неведомыми провизорами выписывалось старое доброе и безотказное средство – война.
8
В детстве у Ангелины был свой «ванька». Она сама нашла его на аллее под скамейкой, где сидели, а потом ушли бабушка в напоминающей сказочный чепец шляпке (Ангелина все время пыталась рассмотреть какие у нее зубы) и внучка с красным бантом на голове. Ангелина в тот день скучала у подъезда, переводя взгляд с держащей рот на замке бабушки на ворону, размачивающую в луже хлебную корку. Она придерживала ее лапой, слегка поддалбливала клювом, ускоряя процесс, не упуская из вида другую ворону, заинтересованно наблюдающую за ней с ветки.
Мать ожидала своего приятеля Борю, чтобы отдать таблетки.
Услышав жалобный звон задвигаемого ногой под скамейку «ваньки», Ангелина отвлеклась от вороны и сразу догадалась, что игрушку намерены как бы случайно забыть, но на самом деле от нее избавиться. Так, спустя десятилетия, будут поступать с книгами, забывая их на подоконниках в подъездах, а то и просто на улице. Потускневшие, прошедшие через множество рук и глаз обложки, серые, переворачиваемые последним читателем (ветром) страницы казались Ангелине Иосифовне обескровленным символом лежащей на смертном одре доцифровой, то есть бумажно-книжной, эпохи.
А тогда в далеком детстве она пронзительным (вороньим?) взглядом разглядела облупленную потертость «ваньки», круглые обиженные глаза, нечеткие пуговицы на нежно-коричневом комбинезончике. Это было невозможно, но она заметила прозрачную слезу, стекающую по его круглой щеке.
В кармане у Ангелины лежали две похищенные таблетки из пластмассовой цилиндрической емкости, предназначенной Боре. Ей стоило немалых трудов бесшумно приоткрыть плотно присосавшуюся крышечку, чтобы выпустить из него, как белых мух, две таблетки. Она еще только собиралась их съесть, но уже знала, что они усмиряют боль в нижнем правом углу живота. У Ангелины никогда там не болело, но живущая в ее маленьком теле сущность требовала таблетки, и она не могла отказать. Ночью, когда мать ровно засопела в своей комнате за полуоткрытой дверью, она в ночной рубашке по протянувшейся из окна лунной стрелке прокралась к ее сумке. Ангелина смотрела на свои пальцы и не верила, что это ее пальцы. Они сделались длинными и гибкими, сами бесшумно развели тугую молнию на сумке, безошибочно нащупали пластмассовый контейнер, клейко оплели его, долго сжимали и вращали, пока сквозь избежавшую надлома крышку не выкатились на ладонь две (больше было нельзя!) таблетки.
Едва только она подумала, что готова поделиться одной с оставленным под скамейкой «ванькой-встанькой», как в правой нижней части ее живота что-то испуганно сжалось, а потом по нему пробежала судорожная, но невыносимо сладкая волна. А если две таблетки, догадалась Ангелина, будет так приятно, что я умру. Я знаю, успокоила она живущую в ней встревоженную сущность, игрушки не принимают лекарства, я пошутила.
Как только девочка с красным бантом и так и не показавшая волчьи зубы бабушка в чепце, раскрыв зонты, отошли подальше, она бросилась за «ванькой», едва не угодив под завизжавший тормозами и словно подпрыгнувший на месте лиловый «Москвич», из которого выскочил, ругаясь, этот самый Боря.
Мать спокойно отреагировала на происшествие, как если бы ее дочь только и делала, что бросалась под колеса. Когда Ангелина вернулась, пряча за спиной «ваньку», она брезгливо заметила: «И не думай! Какой мерзкий цвет, как будто весь в говне».
«Ты могла погибнуть! – опустился перед Ангелиной на корточки, прихватив ее за пуговицу, перепуганный Боря. – Разве можно так прыгать?»
Ангелина не ответила. Боря поднялся, посмотрел на мать: «Сам не знаю, как успел! Еле доехал. Тормоза сдохли. Колодки стерлись, педаль проваливается. А тут она… Думал, все!»
«Напрасно, – едва слышно произнесла мать, но Ангелина расслышала, – ее так просто не убьешь…»
У Бори были толстые мясные губы и овальный лысый лоб с отступающими к ушам и затылку кустиками черных волос. Лицо Бори напоминало мятый желтый абажур. Ангелина видела его первый раз в жизни, но откуда-то знала, что он не злой человек и таблетки определенно ему нужны. Но те, какие, взяв деньги, передала ему мать, были слишком трусливыми и осторожными, чтобы потревожить черную змейку, угревшуюся у Бори под ребрами, не говоря о том, чтобы ее прогнать. Ангелина, взглянув на Борю, сразу почувствовала, что змейка никуда не уползет, разве чуть пошевелится, выбирая другое место. Она, и это каким-то образом стало известно Ангелине, сама решала задвинуть Борю, как «ваньку-встаньку», под скамейку, откуда не забирают, или позволить ему еще немного покачаться, позвенеть.
Его не вытащить из-под скамейки, чуть не расплакалась Ангелина, перекатывая в кармане таблетки.
Боря – большой и пока живой «ванька-встанька» – рассеянно потрепал ее по голове: «Я куплю тебе нового», – кивнул на пластмассового.
«Ни в коем случае! – немедленно встряла мать. – Это уродство!»
Ангелина подняла голову и удивилась, какой большой у Бори нос. Он качался над ней, как ветка. У пластмассового «ваньки» нос был пуговкой.
«Пусть, – сказал Боря, – пока поиграет с этим, я завтра привезу хорошего».
«Змейка, – сказала Ангелина, – ест животик».
«Что?» – наклонился Боря.
«Я говорила тебе, – вздохнула мать, – она сумасшедшая. Не обращай внимания».
Спрятав за спину «ваньку», Ангелина выскользнула из-под Бориной руки. Он вдруг показался ей Гулливером, невидимо опутанным изнутри черной змейкой, как веревкой.
Дома у них была тяжелая глянцевая книжка про Гулливера с иллюстрациями. Ангелину потрясли благородные в бальных платьях и лентах с орденами лошади, запрягавшие скотоподобных людей в повозки. Она так долго смотрела на картинку, что комната как будто перевернулась. Потолок стал полом, шкаф засучил в воздухе подломленными пыльными ножками, кресло повисло над ней серым облаком. Значит, вот как может быть, в ужасе смотрела на тянущих повозку мужчин и женщин Ангелина, неужели и нас с мамой… погонят? Кто-то подарил книжку матери как бонус к расчету за таблетки. Ангелина просила почитать, но мать редко соглашалась: «Отстань, я устала, в твои годы я сама читала!»
Ангелина вдруг почувствовала на себе немигающий удивленный взгляд змейки. Та даже как будто вздернулась, зашевелив раздвоенным язычком, на хвост, чтобы лучше ее разглядеть. Совсем как бабушка-волк Красную Шапочку, прижала к себе «ваньку» Ангелина.
Боря схватился за живот.
«Соглашайся на операцию, – сказала мать, – чего тянуть, там хорошие хирурги».
«Ты права, – вздохнул Боря, – окончу курс, – потряс, как погремушкой, контейнером с таблетками, – и – под скальпель. Какие еще варианты?»
«Все будет хорошо, – взяла его за руку мать, – вот увидишь».
Дрянь, отстань от него! – топнула ножкой на змейку Ангелина.
«Ну вот, то слезы, то истерика», – покачала головой мать.
Ангелине показалось, что змейка сошла с хвоста, вернулась на место, то ли зевнув, то ли презрительно улыбнувшись. И только спустя мгновение до нее дошло, что змейка ей… подмигнула. Да, именно подмигнула, как своей подружке или сестричке. Ангелина снова топнула ножкой. Ей показалось, что ее, как несчастных людей в «Гулливере», запрягают в повозку, где, помахивая хлыстом, расположилась эта самая насмешливая змейка.
«Не повезу!» – крикнула Ангелина.
Мать размахнулась, чтобы отвесить ей подзатыльник, но Боря перехватил руку: «Не дури!»
Он не привез ей новую игрушку.
На следующий день Боря убился, врезавшись на лиловом с худыми тормозами «Москвиче» в груженый песком самосвал. Тормоза, чудесно сработавшие у подъезда Ангелины, отказали при встрече с песочным самосвалом. Ангелина запомнила день, когда мать вернулась с похорон. «Надо же, – задумчиво произнесла она, глядя на себя в зеркало (она любила разговаривать со своим отражением), – никогда не замечала, что у него такой огромный пеликаний нос…»
Ангелина убежала в свой уголок за диваном, вытащила из вертикально поставленной за занавеской (чтобы мать не заметила) обувной коробки (он тесно жил там, как в лифте) «ваньку». Ей было жаль Борю, а еще – что он не привезет нового «ваньку». Но это можно было пережить. Она успела привыкнуть к под-скамеечному в коричневом со стертыми пуговицами комбинезончике. Двух позванивающих «ванек» мать бы совершенно точно не потерпела. А еще она подумала о черной змейке. Расставшись с Борей, та не забыла про Ангелину, но стала другой, обрела невидимую воздушность. Уже не высасывающая внутренности змейка с хвостом и раздвоенным язычком, а нечто непонятное и тревожное, вроде скрытого ветра, крутилось вокруг Ангелины, обвивало кольцами. Змейка, догадалась она, может превращаться во что угодно, и оно почему-то прицепилось ко мне, как репейник к чулку.
«Что угодно» первично и неделимо, повзрослев, посидев над трудами философов, почти научно сформулирует она, а змейка, Пан, Артериальный и прочие боги – суть бесконечные проявления, умножения его сущности. Лезвие Оккама разило в обе стороны, и любой человек мог выбирать: стоять как камню на единой (не умножаемой и не делимой) сущности или – дробить ее, размалывать до состояния гонимых ветром песчинок. Камень (как кантовская «вещь в себе») был грубым, но прочным материалом для строительства (без излишеств, но укрывающего от злого ветра) дома. Песок – всего лишь вспомогательным элементом в штамповке блоков, из которых безумные архитекторы возводили неестественные, наподобие библейской Вавилонской башни, конструкции.
На столике перед зеркалом мать держала песочные часы.
Ангелина любила их переворачивать, глядя, как тоненькая искристая струйка сочится вниз сквозь стеклянное ушко. Услышав про самосвал, она подумала, что люди – это песок, а самосвал – часы змейки. Захочет змейка, песок сквозь ушко будет сочиться медленно. Захочет – перевернет самосвал, и песок высыплется разом. Каким-то (не словесным) образом насмешливая змейка довела эту мысль до сведения маленькой Ангелины.
Все внутри нее сладостно затрепетало, когда она стиснула в ладошке две похищенные из предназначенного Боре пластмассового контейнера таблетки. Поселившееся в ней змеиное «что угодно» жадно требовало – глотай! Ангелина знала, как ей будет хорошо, какая сладостная волна качнет ее, как «ваньку-встаньку», какая волшебная мелодичная музыка зазвучит внутри нее. Но придержала рвущуюся ко рту руку. Выскочила на лестничную площадку, разжала ладонь, растоптала каблучками таблетки. Я! Сама! – стучало в голове. Ей казалось, она топчет вертящуюся под ногами змейку, отдирает репейник прицепившегося к ней «что угодно». Буду! Решать! Когда и как! Не ты! Я! Еще и плюнула, размазала таблеточную пыль во влажное пятнышко. Почему-то оно показалось ей… глазом. Чьим? Глаз в белесых пыльных ресницах внимательно и задумчиво смотрел на нее с бетонного пола. Ангелина испуганно сошла с влажного пятнышка. Плевать в глаз, догадалась она, не следовало. Как в считалке: первый раз прощается, второй раз запрещается, третий…
Ей стало страшно, словно она, сама не зная как, пробежала по узенькому без перил мостику над темнотой.
Вернулась в квартиру.
«Ты ему понравилась, – отойдя от зеркала, заметила Ангелину мать. – Мне рассказали: гнал из Мытищ, только там отыскал магазин, где были эти… – огляделась, но коробка с “ванькой” уже была задвинута под шкаф. – Кто знает, вдруг хотел тебя удочерить, а на мне жениться? Не судьба», – грустно покачала головой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































