Текст книги "Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008"
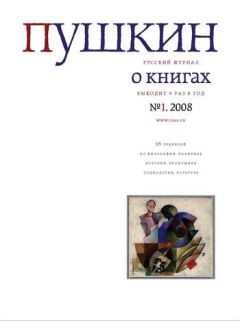
Автор книги: Журнал
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
ПОЛИТИКА
Демократия и ее издержки: Поколенческий Bildungsroman Пола Бермана[50]50
Dick Howard, The Use and Abuse of Democracy: Paul Berman's Generational «Bildungsroman», Constellations, 2007, Vol, 14, no. 3. p. 445–453 Сокращенный перевод с английского Николая Эдельмана
[Закрыть]
Дик Ховард

Paul Berman. Power and the Idealists: Or, the Passion of Joschka Fischer and its Aftermath. NewYork: W. W. NortonandCo., 2007, 320 p. [51]51
Пол Берман, Власть и идеалисты, или Страсти Йошки Фишера и их последствия
[Закрыть]
ЗНАЧЕНИЕ новейшей книги Пола Бермана маскируется ее банальным названием и тяжеловесным подзаголовком. Берман прослеживает эволюцию интернационального поколения, научившегося претворять свои нравственные идеалы в практическую политику, которая признает необходимость использования силы для защиты прав человека. Эта история пересказывается в объемистой первой главе, которая по стечению обстоятельств была опубликована за неделю до событий 11 сентября. Автор сплетает воедино биографии знаковых деятелей интернационального движения новых левых 1960-х годов, многих из которых мы встречаем в «Повести о двух утопиях» 1996 года, где Берман реконструировал парадоксальное рождение и судьбу этого поколения, размышляя над одиссеей Йошки Фишера, уличного бойца-недоучки, который стал министром иностранных дел и самым популярным политиком Германии. Однако случившийся неделю спустя теракт, после которого Le Monde вышла со знаменитым заголовком «Мы все – американцы», странным образом сперва подтвердил мощь описанной Берманом морали, а затем сам же ее и разрушил. Левые и правые объединились в борьбе за общее, как казалось тогда, дело. Но для правых нравственность – это та дань, которую порок платит добродетели; левые же в большинстве своем были слишком довольны своей обретенной легитимностью, чтобы понимать, что их обвели вокруг пальца.
История этого поколения важна для нас потому, что она описывает фон, на котором левые пытаются найти ответ на беспардонное присвоение «темы ценностей», которую администрация Буша вроде бы пытается проповедовать своим союзникам из стана правых. Как и в своей предыдущей книге, Берман подчеркивает общий познавательный опыт восточноевропейских и западных новых левых, как будто поддержка Вацлавом Гавелом и Адамом Михником политики Буша в Ираке придает ей дополнительную легитимность. Андре Глюксман как представитель Запада наделяет эту аргументацию интеллектуальным весом, защищая urbi et orbi свою так называемую одиннадцатую заповедь, в которой требование непричинения вреда оборачивается императивом вмешательства в тех случаях, когда под угрозой оказываются права и достоинство человека. Однако перед нами встает злободневный вопрос: можно ли (а если да, то каким образом) перевести это моральное предписание на язык политики? Решение этой задачи и берет на себя Берман.
Порой о книге можно многое сказать по ее обложке. Это издание в твердом переплете, которое Берман, автор бестселлеров, предпочел выпустить в крохотном издательстве Soft Skull Press, украшено склоненной светловолосой головой печального человека в бежевом пиджаке и синем галстуке, в одиночестве опершегося на спинки двух кресел рядом со столом в конференц-зале. Кто он такой, нигде не говорится, но вскоре мы очень близко познакомимся с ним. На задней обложке помещен маленький черно-белый портрет темноволосого, растрепанного юнца в футболке, со сложенными на груди руками, зажатой во рту сигаретой и вызывающим взглядом. Это Йошка Фишер, благодаря своей невероятной неподкупности ставший министром иностранных дел Германии. Читатель очень быстро узнает, что бывший воинствующий левак, ныне поседевший и заботящийся о прическе, вовсе не одинокий блондин на первой обложке. Эти два образа обрамляют рассказ Бермана, но «его последствия» остаются открытыми для интерпретаций.
Этим содержание обложки не исчерпывается. Под именем автора довольно мелкими буквами написано, что перу Пола Бермана принадлежит также «Террор и либерализм». На задней обложке помещены стандартные рекламные похвалы, несомненно, относящиеся к этому эссе. Опубликованное вскоре после событий 11 сентября, оно сводится к простому тезису: все войны XX века были войнами против либерализма. Отсюда вроде бы следует, что либерализм должен научиться активно защищать себя. И действительно, в дискуссиях, предшествовавших вторжению в Ирак, Берман проявил себя «либеральным ястребом». Однако между политическим мышлением и занятием позиции есть различие. Именно поэтому перед собственно текстом «Власти и идеалистов» помещены три небольших снимка антивоенной демонстрации 1973 года, на которых изображено, как воинствующий демонстрант в шлеме (это Йошка Фишер) нападает на полицейского. Публикация этих снимков в 2001 году в Германии привела к убийственным обвинениям в адрес «Поколения-1968», которые распространялись подобно нефтяному пятну, пересекая границы и даже Атлантику и уничтожая на своем пути все живое. Впрочем, политика, как и жизнь, вещь намного более запутанная, как демонстрирует нам Берман, реконструируя эти события. Однако сейчас, после Ирака, эти осложнения породили новые осложнения, и Берман, к его чести, не открещивается от них.
Мы еще так и не покончили с обложкой. На заднем клапане суперобложки издательство утверждает, явно пытаясь извлечь выгоду из этих осложнений, что книга Бермана отличается «ритмом, многогранностью, яркими персонажами и эмоциональностью романа». Но, уверяют нас, «это не роман», как будто роман – это всегда вымысел, фривольность, нечто чужеродное откровенной реальности. Выясняется, что человек на передней обложке, Бернар Кушнер, француз разлива 1968 года, который после того как основал общество «Врачи без границ» стал министром по гуманитарным проектам в социалистическом правительстве, а впоследствии служил главой миссии ООН в Косове. Он поддерживал американскую интервенцию, против которой выступал германский министр внутренних дел. Не случайно именно он оказался на обложке, а не германский дипломат, чей костюм-тройку Дэни Кон-Бендит обозвал «монашеским облачением», а сам Фишер с иронией называет «спецодеждой» (с. 271).
Человек на обложке опустил глаза в землю, его синий галстук похож на стрелу, указывающую вглубь, символизируя навалившееся на него бремя поражения. Этот гуманитарный дипломат, представленный в главе «Д-р Кушнер и д-р Гевара», был кандидатом на должность главы делегации ООН в Ирак, назначение в которую оказалось фатальным для многих из его ближайших сторонников, погибших во время теракта в августе 2003 года. «Вместе с ними, – вздыхает автор, – окончились дни „воображаемого интернационала 1968 года”», изображенного у Дэни Кон-Бендита в книге «Мы так любили революцию» (1992 года), Но Берман не собирается впадать в меланхолию: поколения приходят и уходят, жизнь продолжается, и новое поколение найдет для себя свой язык, чтобы говорить о «трагедиях, с упорством рока преследующих тех, кто борется с трагедиями». По его словам, новым левым свойственно «идти на риск, сопротивляться» (с. 311). Автор этих финальных слов, таких же лапидарных, как и нарисованное им поколение, однозначно стоит на стороне своих героев, какую бы политическую позицию он ни занимал вчера или завтра.
Однако сопротивление по сути является этической максимой, перевод которой на политический язык затруднителен. Подобно генералам, политики зачастую готовятся к уже прошедшей войне. Так произошло и с людьми 1968 года, взращенными на легенде антифашизма. Они превратили это наследие в парадоксальный пацифизм, в котором этика воинственного сопротивления сочетается с идеалом революции, призванной покончить с аморальностью либерального, буржуазного капитализма. Почему мы называем их «идеалистами»? Их вера вела от сопротивления прямо к революции, не оставляя ни времени на раздумья, ни места для компромиссов или для неудобных реалий. Неудивительно, что некоторых из них привлекала непреклонная логика, отождествлявшая политику с войной и без усилий переходящая от слова к делу, то есть в данном случае к терроризму. Большинство их товарищей находило затруднительным не проявлять к ним молчаливую симпатию, даже активно объясняя (и оправдываясь), с чем они не могут примириться как с неоправданными эксцессами. Последние объявлялись случайными промахами, не искажающими революционной сущности. Подобно тому как их родители-антифашисты извинялись за злоупотребления Сталина, объявляя их ухабами на каменистой дороге к истинному коммунизму, а после 1956 года – извращениями, порожденными культом личности, так и сопротивленцы нового поколения оставались узниками своих идеалов (в большей степени, чем идеологии).
Отождествление антифашизма с антикапитализмом (или фашизма с капитализмом) никогда не было удовлетворительным в интеллектуальном плане, представляя собой политическое позиционирование, сомнительное по самой своей природе. Если не проводить знак равенства между экономическим и политическим господством, трудно не задумываться о природе репрессивных режимов в Советском Союзе и социалистическом лагере. Но если вас посетят такие критические размышления, ваша вера все равно может черпать силу в заманчивости культурной революции Мао или вдохновляться примером латиноамериканских Давидов, выступивших против Голиафа Северной Америки. Истории Бермана глубоки и поучительны и звучат правдоподобно.
Французы – несомненно, вследствие своего глубочайшего догматизма (и наименьшей склонности к теоретизированию) – первыми пали жертвами реальности: они испытали «солженицынский шок», согласно канонической формулировке так называемых новых философов.[52]52
Берман слишком щедр к этому недолговечному явлению, взращенному СМИ, Впрочем, почти все внимание он уделяет самому интересному из их числа, Андре Глюксману, который по случайности совсем недавно издал нечто вроде автобиографии: Andre Glucksmann, Une rage d'enfant. Paris: Plon, 2006, Однако в Интеллектуальном плане было бы интереснее (пусть за счет связности изложения) осветить работу ежемесячного журнала Esprit, в котором очень рано начали издаваться труды Клода Лефора и Корнелиуса Касториадиса и который сыграл важную роль в объединении восточноевропейских диссидентов с их западными союзниками, Берман упоминает этот журнал в «Арабской сцене», но этим и ограничивается.
[Закрыть]
Но с точки зрения молодых французских левых отрицание прежней веры не вело к отчаянию; это отрицание тоже вскоре подверглось отрицанию (и, следовательно, снятию), когда они научились ценить сопротивление восточноевропейских героев 1968 года, настроивших гражданское общество против государства. Они не понимали, что этот выход представлял собой возрождение их старого рефлекса: новые кумиры играли роль эрзац-пролетариата. Зато они пришли к более важному пониманию, осознав, что их «сопротивление» имеет действительно серьезного транснационального врага, «тоталитаризм», который, более того, был плотью от их плоти.
Автор выражает собственные идеи посредством своих персонажей (следует отметить – как и посредством тех, кому не нашлось места в его книге). В одном таком случае Берман вкладывает свои тревоги в уста Бернара Кушнера: «Америка с ее тактичностью слона в посудной лавке только что сумела свергнуть наихудшую тиранию современной эпохи, и интеллектуалов всего мира буквально трясет от негодования из-за того, что это случилось» (с. 271). Берману не приходится давать прямой ответ. Его книга сама подводит читателей к вопросу: был ли Фишер в их числе? Неужели этот дипломат позабыл процесс антитоталитарного политического познания, который привел его к власти? Очевидно, да. Об этом свидетельствуют красноречивые знаки, проявляющиеся при внимательном анализе геополитической логики, выстраивающейся в речах Фишера; критикуя стремление американцев оккупировать Ирак, тот, кажется, никогда не заострял внимания на тоталитарной природе саддамовского режима. И поэтому, вместо того чтобы задерживаться на обнаруженном постфактум отсутствии ОМУ в Ираке, Берман подчеркивает упущения Фишера: Ирак превратился «в одну сплошную Сребреницу», и «никакое оружие массового уничтожения» не могло скрыть факт «массового уничтожения [гражданского общества]» (с. г). Это состояние Берман называет «новым тоталитаризмом», с которым новые левые должны бороться urbi et orbi. Но каким образом и с какой целью? Трибуналы ООН, трансграничная ответственность, заостренное осознание своих прав – всеми этими завоеваниями поколение 1968 года может гордиться; но оно не представляет собой политического движения.

С. М. Эйзенштейн. Рисунок. Публикуется впервые
Хотя французы и немцы (возьмем только их для простоты изложения) пришли к своему антитоталитаризму несколько разными путями, они разделяли некоторые представления, ключевые для аргументации Бермана. Процесс, который начался с обличения ГУЛАГа Солженицыным (причем, возможно, еще большую роль здесь сыграла глупость ортодоксальной реакции на эти обвинения), привел французов к признанию тех прав человека, от которых марксисты отмахивались как от формальных или буржуазных свобод. Права – не частное дело; они принадлежат к сфере политики. Символом этого нового духа стало совместное посещение Елисейского дворца Сартром, Ароном и Глюксманом, обратившихся к президенту с просьбой оказать помощь вьетнамским беженцам. Когда вскоре после этого начало набирать обороты восточноевропейское сопротивление, «либерализм» занял более радикальную позицию, встав на защиту гражданского общества от государства. Немцы пришли к аналогичным выводам иным путем. Их отрицание доктринерской «революционной» войны, за которую выступала «Фракция Красной Армии» и ее приспешники, приобрело экзистенциальное измерение, когда стало ясно, что их воинствующие друзья поддерживают антисионистский терроризм, включая и убийство израильских спортсменов на мюнхенской Олимпиаде.[53]53
Еще более тягостное впечатление произвел угон самолета Air France в Энтеббе, когда немцы приказали отделить пассажиров-евреев от неевреев, что прозвучало ужасным отголоском нацистского прошлого, Берман демонстрирует, какое значение оказал этот инцидент для эволюции Фишера, но он не задается более общим вопросом, почему западногерманские левые никогда не воспринимали всерьез критику тоталитаризма и потенциал диссидентских движений в Восточной Европе.
[Закрыть] Также совершив поворот в сторону гражданского общества, они высказались за участие в политике, основав партию «зеленых», в которой Фишер (наряду с Кон-Бендитом) был ключевой фигурой.
Эти разные, но похожие истории (которые Берман преподносит со знанием посвященного) объясняют, почему антитоталитаризм стал силой, нашедшей выражение в левом крыле политического спектра[54]54
Едва ли нужно подчеркивать, что не только большинство антитоталитаристов не считают себя левыми, но и, разумеется, то, что это понятие эффективно использовалось для демонизации левых. Но все же следует подчеркнуть, что эта тенденция представляет собой креативную тенденцию в рядах левых, которые не знают ответов, но ставят вопросы, дающие возможность осознать новизну нашей эпохи.
[Закрыть] в качестве требования соблюдать права человека и создания движений в их защиту. С этим было трудно смириться тем левым, которые выросли на идее о том, что «критическое мышление» означает своего рода редукционистское разоблачение – выявление тех материальных интересов, которые скрываются за идеалистическими заявлениями о правах человека и т. д.; то же, к чему они пришли, все еще отдавало тем, что в англосаксонском мире называется «либерализмом». Однако левая политика черпает вдохновение не на небесах, и не существует таких позиций, которые бы навсегда и навечно были собственностью левых сил; это познается на опыте, и именно к этому подводит нас Берман. В данном случае защита прав человека идет рука об руку с сопротивлением тоталитарной антиполитике (и получает смысл только в этом контексте), которому левые обучились несколько раньше.
Новая радикальная политика, познающая навыки использования власти, оказалась на коне в 1990-е годы, когда гуманитарные потребности взяли верх над прежними институциональными сдержками; глобализация прав человека оказалась важнее интересов финансового капитала, и вестфальский принцип cuis regio, ejus religio [55]55
«Чья земля, того и вера» (лат.)
[Закрыть] был выброшен на свалку истории. То, что Кушнер и его «Врачи без границ» начали в 1967 году во время войны в Биафре, медленно, но верно пробивало себе путь. Возможно, принципы новой, подлинно международной справедливости стали итогом трудов этого «поколения» – и стало быть, возражения бушистов против Международного суда тщетны? Это было бы хорошо само по себе; но акцент на правах ведет нас к морализаторству, которое обходит молчанием более принципиальный политический вопрос о том, какие именно социальные и институциональные отношения могут обеспечить защиту этих прав.
ТОТАЛИТАРНОЕ ИСКУШЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ ДАЖЕ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕМОКРАТИЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ВСЕГДА СПОСОБНЫ УЖИТЬСЯ С ДЕМОНАМИ, ПО РОЖДЕННЫМИ ИХ СОБСТВЕННЫМИ СВОБОДАМИ
Прогресс никогда не был простым делом. Аристотель много столетий назад предупреждал, что этика и политика – хороший человек и хороший гражданин – не всегда совпадают друг с другом. В современном мире «сопротивление» становится политической силой лишь при столкновении с тоталитарной властью; в противном случае это всего лишь обычный старый либерализм – конечно, вещь хорошая, но это не та сфера, в которой левые могут расти и переопределять себя.
Расточая славословия в адрес сопротивления, Берман иногда хвалит сопротивление диктатуре, иногда неприятие тоталитаризма – и различие здесь весьма существенно. Права нарушаются в обоих случаях (они могут нарушаться и при демократии). Однако отрицание тоталитаризмом индивидуальных прав неотъемлемо от его главной – хотя, разумеется, замалчиваемой – цели, которая состоит в том, чтобы покончить с любыми проявлениями демократии и в первую очередь с идеей о правах человека. Эту цель разделяли и сталинисты, и нацисты, будучи детищами реакции на крах старого иерархического социального и политического порядка. Но тоталитарный проект никогда не сможет увенчаться полным успехом; в противном случае он бы задушил всю энергию общества и уничтожил бы его способность к обновлению. И все же тоталитарное искушение продолжает жить даже в существующих демократиях, которые не всегда способны ужиться с демонами, порожденными их собственными свободами.
С этой точки зрения мы можем понять и подвергнуть критике позицию «либерального ястреба». Если режим Саддама действительно можно назвать тоталитарным – а Берман неоднократно намекает, что так и обстояло дело, приводя множество примеров, от истории основания партии Баас до тех федаинов, которыми Саддам стращал оккупантов, рвущихся к Багдаду, – то в этом случае (жизненно важная!) поддержка американских планов Кушнером, Берманом и их товарищами столь же оправданна, как, допустим, поддержка Советского Союза в борьбе с Гитлером левыми и либеральными кругами. Если тоталитаризм является реакцией на появление в обществе демократической энергии, то его поражение должно привести к новому возрождению молодых побегов, даже опаленных огнем войны. Берман справедливо вспоминает, что в годы, предшествовавшие правлению Саддама, в Ираке существовал космополитический средний класс (хотя его выживание в годы режима – вопрос спорный, а его представители в наши дни рассеялись по стране). Однако американцы сделали ставку на импорт изгнанников, которые, как было ясно даже тогда, не входили в число тех резистантов, о которых идет речь во «Власти и идеалистах». Старые схемы скрывают новизну текущего опыта, умственная лень ведет к дурной политике.
ПОЛ БЕРМАН – ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛИСТ; ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ ЛЕВОЛИБЕРАЛЬНОГО ЖУРНАЛА DISSENT; ВЕДУЩИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ЯСТРЕБОВ
БИБЛИОГРАФИЯ
A Tale of Two Utopias: The Political Journey of the Generation of 1968. New York, W. W. Norton and Co., 1996. (Повесть о двух утопиях: политическое путешествие поколения 1968 года)
Terror and Liberalism. New York: W. W. Norton and Co., 2003. (Террор и либерализм)
ФИЛОСОФИЯ
До и после «мая 68»: «Левый интеллектуал» и его революция[56]56
Беседу вела Ольга Андреева. Значительно сокращенная версия этой беседы вышла в журнале Русский репортер № 22 (52) ОТ 12 ИЮНЯ 2008.
[Закрыть]
Валерий Подорога

ИТАК, что же произошло в Париже «мая 68» с точки зрения политической истории XX века? Было ли это революцией или нет, да и правильно ли вообще именно так ставить вопрос?
Первые признаки революционной ситуации, вероятно, появились в Нантере,[57]57
См, более подробно: А. Тарасов, In Memoriam Anno 1968 [http://www.screen.ru/Tarasov/memor.htm]
[Закрыть] но власти не смогли их правильно оценить, Потом демонстрации студентов Сорбонны и, наконец, 3 мая первая ожесточенная схватка с силами специальной полиции, Контроль властей над событиями утерян, революция начинается…
Молодые всегда требуют невозможного, они готовы к жертве, им нужен порыв, Выступления студентов прошли цепью по всей Европе: Сербия, ФРГ, наконец, активное участие молодежи в Пражской весне. Самое загадочное – вот эта цепь, Чего я не могу объяснить, так это повсеместности революционного порыва, В начале 1960-х годов происходит культурная революция в Китае – все помнят хунвейбинов с их лозунгом «Огнем по штабам», – и длится она до конца 1970-х годов, Так что май 1968 года во Франции – лишь один из очагов мощной европейской, если не мировой, энергии протеста, В Париже волнения молодежи сопровождались выступлениями рабочих, всеобщей забастовкой (одна из крупнейших забастовок в истории рабочего движения – десять миллионов человек), Они создали большую проблему для власти – президент де Голль все-таки ушел…
Волнения мая 1968 года в Париже породили много толкований. Я придерживаюсь следующей позиции: это была попытка революции Освобождения. А точнее, даже не революция, а настоящий бунт, бунт молодых интеллектуалов.[58]58
В тот год сразу же после майских событий я случайно оказался в Париже (в то время студент философского факультета МГУ), Мои родители работали в советском посольстве, и я приехал летом к ним в гости Конец июня, «революция» закончилась. Помню ночную прогулку по Парижу: сгоревшие машины, вывороченная брусчатка, остатки арматуры, разбитые витрины, короче, следы боев и т. п. На перекрестках посты полиции. Глубокая ночь. Поразили большие толпы молодых людей в Латинском квартале – по две-три тысячи. Они просто стояли и молчали. Невероятное зрелище. Почти нет разговоров, многие курят. Шокирующее впечатление от тишины («после битвы») запомнилось больше всего, Б последующие дни «революция» как-то стала слишком быстро забываться. И гуляя в последующие дни по центру Парижа я уже больше не замечал следов майских боев. Эйфория сменилась чувством поражения от неудавшейся «революции».
Много лет спустя я побывал в Страсбурге, Там я почти целую ночь беседовал с супружеской парой – активными участниками боев за Сорбонну, Он был комендантом одного из университетских корпусов, а она – его помощницей. Бот эти два бывших маоистских радикала рассказывали, как они делали «коктейли Молотова», как их атаковала полиция, как они от нее отбивались (в течение суток). Судя по их словам, насколько помню, для них это была настоящая война. Было много раненых, но вот погибших почти не было. Есть даже такой анекдот. Популярный сегодня в России философ русского происхождения Александр Кожев спрашивал одного из великих, кажется Ж. – П. Сартра: «Ну что же у вас там случилось?» – «Как что? Революция!» – «А жертвы были?» – «Нет, не было», – «Ну так какая же это революция?!». Действительно, много раненых, причем полицейские пострадали не меньше, чем бунтари. Многих студентов посадили, причем некоторые получили весьма серьезные сроки (до 14 лет), а вот жертв не было.
[Закрыть] Взрыв недовольства, экстаз обновления, что-то вроде эпидемии, внезапно охватившей многих и многих гуманитарных людей, впрочем и другие «угнетенные» слои французского общества (прежде всего «пролетариат»), Иногда термин «освобождение» путают со «свободой», но это разные понятия, Освобождение для всех, свобода для одного; освобождается «человек», свободу обретает гражданин, Революция 1968 года была освобождением от того, от чего освободиться было невозможно, – ближайшего Прошлого, Часто революции кажутся бессмысленными и неудачными именно поэтому, Мы даже не можем установить «законы», по кото рым они совершаются. Слишком много случайного. Мы называем какие-то исключительные события «революцией», хотя и не знаем, сохранится ли это убеждение в будущем. Очевидно, что в движении революционных событий есть нечто быстрое, мгновенное, разрушительное и нечто замедленное, замедляющееся, остывающее. Что-то похожее на наказание за прежнюю быстроту и внезапность. Отступление, апатия, неверие. Я имею в виду контрреволюции, которые по длительности и циничной практичности всегда превосходят революции. Постепенно они уничтожают все, что казалось революционным, прежнее возвышение чувств снижают до посмешища. Другими словами, контрреволюция – часть революционного процесса. Европейские интеллектуалы долгое время обменивались идеями «коммунизма» и были увлечены этой игрой. Не замечая или не желая замечать сталинской контрреволюции, которая с невероятной жестокостью давила все живое, танком выжигала революционные ценности. Долгое время СССР представлялся чуть ли не образцом реального социализма. Многие западные левые интеллектуалы верили в это до конца 1950-х годов, до хрущевского разоблачения культа Сталина.
Если подвести некоторый итог, то, по вашему мнению, именно контрреволюция становится истинной матрицей истории? Не могли ли вы уточнить отношение «революции» к «контрреволюции»…
Часто революция – это провокация, проект Невозможного, набросок пути к недостижимому Идеалу. Революция как видение, чудо, праздник. Но и как конкурс самых неожиданных идей. Это, бесспорно, экстатическое действие, охватывающее относительно небольшое количество людей, ожидающих изменений в обществе и желающих их. Революционная вспышка готовится долго. Слишком много факторов должны сложиться – экономических, политических, образовательных, университетских, – чтобы дать на выходе взрыв такой общественной и политической силы. Например, экономическая сторона мая 1968 года состоит в том, что к этому времени сложились политические предпосылки для рождения среднего класса, а это основной класс в «бесклассовом» постиндустриальном обществе. Можно сказать, что французское общество переживало период начала второй волны модернизации. В послевоенное время завершается восстановление хозяйства Европы, экономический подъем 1950–1900-х годов приносит относительное «благоденствие», заметно повышается уровень жизни. Все оказывается вдруг «хорошо», появляется жирок. Однако никаких структурных преобразований общественной системы не происходит – по-прежнему XIX век. Европейское общество вернулось к более или менее «комфортной» жизни, но власть бюрократии, экономическая жизнь, политические движения и партии – все было завязано на старых институциях. И главное – на идейных и идеологических предрассудках. Назревает общество потребления, требующее других институтов, другого управления, другого желания. Больше нет доминирующего классового противостояния (буржуазия – пролетариат), о себе заявило новое социальное большинство, будущее silent majority.
Парадокс революции мая 1968 года заключается в том, что на ее волне родился средний класс, другое французское общество. Хитрость Истории – удар направлен на одно, а рождается совсем другое.
Не случайно, что многие из активистов 1968 года стали выдающимися менеджерами, заняли ключевые позиции в обществе. Даниэль Кон-Бендит, один из главных активистов, сегодня депутат Европарламента, вождь умеренного крыла партии зеленых; Марк Кравец – шеф заграничной службы крупнейшей французской газеты «Либерасьон». И так далее – профессора, менеджеры, политики, все успешные люди. Разве изучая этот список успешных «революционеров» мы не приходим к выводу: революция-то удалась… Другие активисты ушли вправо, стали «новыми философами»: Б. – А. Леви, А. Глюксман, Ж. – П. Лардро, П. Жамбе. Их еще называли «детьми Солженицына», в основном это бывшие маоисты, троцкисты, когда-то «левые» интеллектуалы. Солженицын начинает публиковаться на Западе, выходит «Архипелаг ГУЛАГ» (1973 год), Полная переоценка реального социализма, пишутся разоблачающие тексты против коммунистической идеологии, против ФКП и господства коммунистических Отцов. Атакуется в целом вся идеология тоталитарного марксизма-ленинизма в самых различных ее проявлениях.
Массовую основу мая 1968 года составили студенты Франции, а точнее, молодежные группировки самых разных политических направлений, но разве они определяли важнейшие черты и «идеологию» майской революции? Есть ли основополагающие причины этого «взрыва»? Или несколько другими словами, все-таки, по вашему мнению, из чего сложилась «революционная ситуация»?
Одну из причин можно назвать: изменения в социальном составе студенчества. Впервые рабочий завода «Рено» мог послать своего сына или дочь учиться в Сорбонну. До этого выпуск студентов по гуманитарным специализациям был крайне ограничен (как вообще получение высшего образования). Так, в 1851 году во Франции высшей школой было подготовлено 3 тысячи специалистов по гуманитарным дисциплинам. В 1900 году цифра остается той же самой. В 1920 году – 3 тысяч выпускников. В 1930 году – 12 тысяч. Образование оставалось элитарным, а количественный рост обусловлен демографически. Образование получают только состоятельные слои общества. В 1965 году – уже 40 тысяч студентов. В 1968 году – 81 тысяча студентов обучается в гуманитарных заведениях. Эта молодежь и стала основным героем праздника Освобождения. Нет никакой единой стратегии, никто ни за кого не решает, нет «партийного авангарда», нет единого центра руководства. Слишком много разных «заинтересованных» участников. У каждой группы – «маоистской», «марксистско-ленинской» или «троцкистской» – своя программа.
После мая 1968 года размежевание культурного пространства нарастает, начиная влиять на систему высшей школы, массовые коммуникации и стратегии образования. С одной стороны омассовление гуманитарного знания и, следовательно, устранение его элитного характера. С другой – резкое изменение политического статуса гуманитарных дисциплин, чем воспользовалась правящая элита и родовая французская аристократия. Теперь не традиционное университетское образование открывает доступ в высшие эшелоны власти, а то, что получено в «больших» школах: Высшей административной школе и Высшей политехнической школе.[59]59
Высшая школа администрации выпустила в 1947 году – 37 человек, в 1970 году – 90; Высшая политехническая школа в 1900 году – 250, в 1967 году – 304. Ср., например: «О механизме отбора в „большие” школы известно немало. Известно также, что их двери открыты лишь для выходцев из привилегированных классов общества. Излишне напоминать о том, что важнейшее значение в них придается манере речи и поведения, символизирующей принадлежность к высшим классам и остающейся за семью печатями для учеников из неимущих… В сущности, в эти школы „наследники” правящего класса приходят, чтобы получить знание в широком смысле слова, а заодно и диплом, который призван легитимировать их власть» (П. Бирнбаум и др. Французский правящий класс. М.: Прогресс, 1981. С. 158)
[Закрыть] Эти школы обучают не столько знанию, сколько умению властвовать; они готовят чистых функционеров политической и промышленной бюрократии. Правящая власть не только быстро восстановила утраченные позиции, но и намного улучшила их.
Итак, май 1968 года – одно из решающих событий второй половины XX века для современной европейской истории. И это событие, как вы утверждаете, имеет две истории, две «правды»: одна «история» говорит, что революция была подготовлена или даже «готовилась», а другая – что она была лишь стечением обстоятельств. И эти две «истории» не противоречат друг другу – как это понять?
Здесь, действительно, нет противоречия, революция находится как бы «между»: теоретически она готовилась, но оказалась итогом действия многих «случайных» факторов. Действительно, май 1968 года – время невероятного стечения обстоятельств, судеб, теорий, идей, личностей. Думаю, это было прощание с революционным XIX и взгляд в XXI век. Еще Жорес видел в Великой французской революции (1789–1795 годов) «начало всех начал»: нет конца революции, она не заканчивается, а только всякий раз начинается.[60]60
Ср.: «Мы считаем Французскую революцию фактом огромного значения, величайшим событием с поразительно плодотворным содержанием, но, на наш взгляд, она не представляет собой чего-то законченного, когда истории остается лишь развивать без конца ее последствия» (Ж. Жорес, Социалистическая история Французской революции. В шести томах. М.; Прогресс, 1977. с. 33).
[Закрыть] В событии «май 68» отыскивают продолжение той же революционной линии, характерной для развития французского общества прошлого столетия. Часто встречаются комментарии, в которых доказывается, что революция мая 1968 года подражает революции 1848 года (кстати, которую исследовал Маркс), последней из буржуазных революций, и что, собственно, «взрыв» мая 1968 года – явно мелкобуржуазная революция, не «пролетарская». Даже в выборе главных идей можно провести водораздел по маю 1968 года. Одна часть тогдашних теоретиков еще остается в XIX веке и ставит вопрос об Освобождении, а не об индивидуальной свободе. Чтобы вернуть человека к его изначальной природе, данной Богом, нужно пройти этапы высвобождения его истинных влечений. Надо быть правдивым, честным, бороться против предрассудков, быть «естественным человеком» (это очень похоже на руссоизм). Но это только одна сторона.

Е. М. Бебутова. Сбор яблок.
В 1960 году выходит в свет книга Сартра «Критика диалектического разума», в которой он излагает свою теорию революции. Невероятно, но факт: то, что Сартр пытается «обосновать», становится «революционной» реальностью в 1968 году.[61]61
J.– P. Sartre. Critique de la raison dialectique. Paris: Gallimard, 1960. p. 434–435.
[Закрыть] Чуть позднее – первые тиражи книги-меморандума Ги Дебора «Общество как спектакль», самая значительная по влиянию книга поколения (много переизданий, переводы). Настольная книга всех юных бунтарей. Ранние, 1930-х годов, фрейдо-марксистские публикации, особенно работы В. Райха и Э. Фромма, посвященные «сексуальной революции», также играют немалую роль в воспитании левых теоретиков. Главными же остаются идеи освобождения. Продвинутое студенчество и анархистски настроенные теоретики читают прежде всего Г. Маркузе, труды раннего К. Маркса и председателя Мао (популярная картинка: хунвейбин, погруженный в чтение «красного цитатника»). Три «М» как идейная основа «революции»: Маркс-Мао-Маркузе. Значительно влияние «критической теории» Франкфуртской школы, она формируется в 1930-х годах, отцы-основатели М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно, Ф. Поллок (в разное время к ней были близки Г. Маркузе, Э. Фромм, В. Райх, В. Беньямин). С приходом нацистов к власти в Германии многие эмигрируют в США. Идеи критической теории, впервые из ложенные Хоркхаймером и Адорно в «Диалектике просвещения» (1949 год), также относятся к этому пласту «освобожденческой» литературы.
Нет ли здесь еще и поколенческого разрыва: сыновья бунтуют против отцов? И в таком случае, не была ли эта революция еще и ответом на устарелые традиционные «эдиповские» ценности буржуазной семьи?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































