Текст книги "Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008"
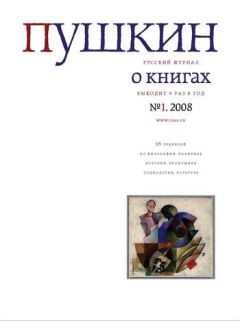
Автор книги: Журнал
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
ФИЛОСОФИЯ
Бибихин: Как рубить языком сплеча
Алексей Апполонов

В. В. Бибихин. Внутренняя форма слова. СПб.: Наука, 2008. 420 с.
КНИГА «Внутренняя форма слова» является публикацией курса лекций, который читался В. В. Бибихиным на философском факультете МГУ в 1989/90 гг. По замыслу автора, этот. курс должен был стать своего рода «деконструкцией» современной лингвистической науки, в рамках которой выявлялась бы ее «родовая травма» – принципиальное уклонение от философских (метафизических) тем, связанных с языком, и замыкание лингвистических исследований на поисках «внутренней формы слова» (собственно объектами «деконструкции» становятся работы П. А. Флоренского, А. А. Потебни, В. фон Гумбольдта и Г. Г. Шпета).
Понятно, что такого рода «деконструкция» потребовала от В. В. Бибихина новаторского подхода, отличного от методов, используемых современной лингвистикой. В самом деле, научная методология была исключена им априори, ибо представляет собой неотъемлемый элемент подвергаемой «деконструкции»; вместо нее автор предлагает некое «вчитывание и вдумывание», своего рода «философский комментарий по ходу» анализируемых им произведений. Книга «Внутренняя форма слова» не является, таким образом, сочинением по языкознанию (в традиционном понимании этого термина), но, скорее, содержит философию языка, слегка напоминающую позднего Хайдеггера, пересаженного на российскую почву. По сути дела, перед нами попытка критики одной из отраслей науки с точки зрения философии, причем сама эта критика – в своем «развертывании», «продумывании» и т. п. – как бы и есть собственно философия.
Не хотелось бы называть данную позицию методологическим хаосом, но назвать ее как-то иначе – значило бы согрешить против истины. Ведь даже составитель книги (О. Е. Лебедева) указывает (с. 7), что «вчитывание и вдумывание» В. В. Бибихина в тексты указанных авторов «не похоже на привычный „научный анализ” – умудрено-критический разбор, „объективное” „исследование”, во что нередко соскальзывает университетское преподавание». А далее еще более откровенно: «В. Б. всегда избегал „инвентаризаторского” отношения к наследию Мысли, и никогда не пытался „обучать”, „втолковывать” что-либо студентам или просто слушателям, оснащать их „методом”, „понятийным аппаратом” и т. п.». Данные обстоятельства, на мой взгляд, весьма затрудняют (а то и вовсе исключают) возможность для стороннего (в смысле – не входящего в societas автора) читателя понять, о чем собственно идет речь, что косвенно признается и составителем (там же): «Может быть поэтому его (В. В. Бибихина – А. А.) книгам тоже не грозит стать культурным инвентарем ни для философов, ни для лингвистов… Философия не интеллектуальная деятельность, и язык философов не „конструкция”, не „информация о вещах”, но „подготовка возможности того, чтобы знание о них могло складываться на последних, предельных по обоснованности основаниях”».
Хотя сама философия – лишь «подготовка возможности», эта подготовка предполагает некое введение, как бы посвящение слушателей (читателей) в философское учение В. В. Бибихина. Это введение, конечно, нигде не представлено эксплицитно (поскольку, как мы помним, В. В. Бибихин «никогда не пытался оснащать своих слушателей „методом”, „понятийным аппаратом”» и т. п.), тем не менее как во «Внутренней форме слова», так и в других работах В. В. Бибихина присутствуют некоторые тезисы, которые слушатель (читатель) должен исходно принять – в противном случае его знакомства с мыслью В. В. Бибихина не произойдет.
Указанные тезисы можно условно подразделить на негативные и позитивные. Первый из негативных тезисов: современная лингвистика – это очень, очень плохо; для того, чтобы погрузиться в глубины философии от нее следует отказаться раз и навсегда. «Внутренняя форма слова» как раз и начинается с атаки на современную лингвистику (и «темную мудрость толпы» – можно предположить, что речь идет об упомянутом составителем «университетском преподавании») как бы от лица Флоренского: «Автор идет против засилия другого, неорганического понимания слова, встает, возможно, в одинокую позицию противостояния веяниям эпохи, наплыву механического, технического отношения к слову» (с. 13).
Неприязнь В. В. Бибихина к современной лингвистике известна хорошо;[89]89
Подробнее см. об этом: Борис Нарумов, «Язык» лингвистики и «язык» философии. Contra Бибихин // Логос. 1. 1999, с. 216–221.
[Закрыть] вот и во «Внутренней форме слова» он то не без удовольствия цитирует Гумбольдта («Мертвая стряпня научного расчленения» – с. 211), то уже от своего лица утверждает: «Для лингвистики в каком-то смысле язык мертвый всегда, она не знает живого языка, потому что всегда видит язык, не может не видеть, хуже того, во всем видит язык, – ей все мертво, – сделать так, чтобы не увидеть язык она не может, а язык живет только тогда, когда его не видят» (с. 209).
ПОРАЗИТЕЛЬНО, С КАКОЙ ЛЕГКОСТЬЮ ОПЫТНОГО ФОКУСНИКА В. В. БИБИХИН ПЕРЕВИРАЕТ АРИСТОТЕЛЯ
Второй негативный тезис: следует отказаться от научного «крохоборства» (так В. В. Бибихин величает стремление любой науки к точности и обоснованности своих положений) по причине его неблагородства: «Мы не должны поддаваться тому, что Аристотель назвал «μικρολογία», крохоборством, придирчивостью, как в конце второй главы «Метафизики» (к вопросу о «крохоборстве». На самом деле «Метафизика» делится на книги, а каждая книга – на главы; фрагмент, о котором пишет В. В. Бибихин – из 3 главы II книги – А. А.), где он говорит, что в придирчивости, в мелочном учете всего есть какое-то неблагородство, – одинаково и при составлении торговых сделок, и в рассуждениях, за исключением математики» (с. 32).
Позволю себе небольшое отступление. Поразительно, с какой легкостью опытного фокусника В. В. Бибихин перевирает Аристотеля. Желающие могут сравнить с оригинальным текстом: «Усвоение преподанного зависит от привычек слушателя: какие у нас сложились привычки, такого изложения мы и требуем… Одни не воспринимают преподанного, если излагают математически, другие – если не приводят примеров, третьи требуют, чтобы приводилось свидетельство поэта. И одни хотят, чтобы все излагалось точно, а других точность тяготит или потому, что они не в состоянии связать одно с другим, или потому, что считают точность мелочностью (μικρολογία), В самом деле, есть у точности что-то такое, из-за чего она как в делах, так и рассуждениях некоторым кажется низменной» (994b 34).
Что тут скажешь. Некоторых, действительно, точность тяготит и кажется им низменной. Однако зачем свою собственную – по Аристотелю – «неспособность связать одно с другим» агрессивно («Мы не должны») навязывать слушателям (читателям), прикрываясь при этом авторитетом великого греческого мыслителя, цинично коверкая его текст в своих собственных интересах?
Про «свидетельство поэта» у Аристотеля – тоже в тему. Вот В. В. Бибихин пишет: «Мы должны толковать Потебню так, как толкуем поэта» (с. 85). Отчего же так? А потому, что он «говорит словно сомнамбула, словно под гипнозом, как прорицатель и не пробует разгадать загадку, которую диктует, – он говорит как Гумбольдт, как поэт и гимнограф языка, это не анализ, а ода, поэтому даже противоречащие ее части не отменяют друг друга» (там же). Ну, допустим, что Потебня и Гумбольдт действительно находились под гипнозом, когда сочиняли свои «оды языку»; допустим даже, что они сомнамбулы, медиумы, а названные оды исполнены противоречий. Следует ли из этого, что мы должны отказаться от современной лингвистики и вообще от всякого научного крохоборства, ради априори самопротиворечивых писаний сомнамбул, шаманов и прорицателей, которые доносят до нас нечто «смутно проступающее, туманное и загадочное» (с. 85)? Ответ на этот вопрос, понятно, у каждого свой. Однако, полагаю, ясно также, что тому, кто дает на него положительный ответ, следует проходить не по ведомству философии, а по ведомству спиритов или, скажем, теософов.
Вернемся, впрочем, к тем тезисам, которые вводят слушателя (читателя) в учение В. В. Бибихина. Негативные мы уже отметили; обратимся теперь к позитивным. Условно все эти тезисы можно свести к следующему: «Следует стоять на своем, даже если я сам не понимаю, что говорю, а другие утверждают, что я говорю глупости». Настоящий философ (надо полагать, имеется в виду прежде всего сам В. В. Бибихин), должен не только отрицать современную лингвистику и научное «крохоборство»: «Независимость, противоречие массе, толпе необходимо для мыслителя… В этой борьбе остается только решимость отстоять себя, свое уникальное понимание, когда оно становится даже неясно самому мыслителю (sic!) Дело неизбежно доходит до защиты своего беззащитного, неназванного, неименуемого против чужого громкого, настойчивого, определенного… Такое упорство ради упорства не хорошо и не плохо, оно необходимо» (с. 14). Впрочем, лучше всего В. В. Бибихин высказался об этом в «Языке философии»: «Нужно упрямство ребенка, поэта или сумасшедшего, чтобы наперекор силе всех ученых (sic!) радоваться и пугаться от (так в тексте – А. А.) простейших вещей, придавать им безмерное значение, ходить под их властью» (с. 164).
Итак, от указанных вводных тезисов перейдем теперь к самому философскому учению В. В. Бибихина. В принципе, его можно изложить в нескольких словах. Это, на мой взгляд, удалось Борису Нарумову в уже упоминавшейся статье: «Люди идеи… часто одержимы лишь одной какой-то идеей, будь то идея революционной роли рабочего класса у Маркса, идея сексуальности у Фрейда или… идея о тождестве мира и слова у некоторых философов. Эта идея напрочь обволакивает их мозг, не позволяя как следует разглядеть ту реальность, о которой они так красиво рассуждают» (с. 216).
Если же говорить более конкретно, то учение В. В. Бибихина о тождестве мира и слова во «Внутренней форме слова» представлено следующим образом. Вещи занимают человека, захватывают его, – может быть, так, что человек только и осуществляется тогда, когда он захвачен вещами, и не некоторыми, но всеми: миром. Затем В. В. Бибихин переходит к слову: «Звук языка, слово прорезалось, так сказать, в человеке через тело, как бы проросло сквозь органы… В слове человек участвует всем своим существом: дыханием, так сказать, „нутром”… Язык, языки – ответ на захватывающий вызов вещей. Раньше, чем имя стало можно применить в узкой области – в опредмечивающем знании, для обозначения чего бы то ни было, воспользоваться именами как этикетками… язык уже был откликом на то, в чем человек угадывает себя, на мир. Целый мир нельзя увидеть, если попытаться назвать способ, каким он в нас присутствует – он приснился, привиделся человеку… Язык, если попытаться назвать его статус, тоже как бы приснился человеку. Во всяком случае, он укореняется в человеческом существе, доходя до его дна. Язык это первое исходное участие человеческого существа, как бы целое участие его в Целом (в мире)» (с. 128).

Н. А. Шифрин. Новороссийск. Цементный завод, порт. Публикуется впервые
Дополнительно можно сказать о той самой «внутренней форме слова», которая и дала название книге. Внутренняя форма слова, по В. В. Бибихину, есть «подход к изучению языка» (с. 416), которым пользуется современная лингвистика. Что это, собственно, такое, впрочем, особо не конкретизируется, достаточно того, что «внутренняя форма – вообще главная, хотя это и не всегда осознается (sic!), тема философии языка после Гумбольдта. Под знаком внутренней формы идут поиски начала языка, того, что стоит за языком, в основе языка» (с. 415). Однако поскольку современная лингвистика – это очень, очень плохо, то внутренняя форма есть не столько подход к изучению языка, сколько «верный способ промахнуться мимо языка» (с. 416). Потому следует наметить «другой, трудный подход к языку, нехоженый современной лингвистикой» (с. 418), т. е. собственно учение В. В. Бибихина, основные черты которого были уже изложены выше.
В связи с этим хочется сделать два замечания. Первое. Тема сна, сомнамбул и гипноза, вероятно, неспроста занимала В. В. Бибихина. История, впрочем, богата подобными примерами. Рассказывают, что один из пионеров ЛСД во время наркотического транса осознал «смысл бытия», узрел «мир в его целостности» и т. д. и т. п. Дабы не утратить драгоценную мудрость он быстро зафиксировал ее на листе бумаги. Выйдя из состояния «поэтического исступления» он обнаружил следующую запись: «Очень сильно воняет нефтью». Впоследствии группа «Pogues» увековечила эту историю в песне «The smell of petroleum», где есть такие строки: «La-la-la-la-la, the secret of the universe is hidden in this song».
Второе замечание. Мудрости, вроде приведенной выше концепции, может – при наличии некоторого образования – сочинять кто угодно. Вот, например, такая теософская мудрость (взятая наобум из какой-то книжки Блаватской): «Очевидно, что противоположение этих двух аспектов Абсолюта необходимо для существования Проявленной Вселенной. Независимо от Космической Субстанции Космическая Мыслеоснова не могла бы проявиться как индивидуальное сознание, ибо сознание развивается, как „Я есмь Я”, только через проводник материи; физическое основание, будучи необходимым для средоточия Луча Космического Разума при достижении известной сложности. В свою очередь, отделенная от Космической Мысле-основы, Космическая Субстанция осталась бы пустою отвлеченностью, и никакое возникновение Сознания не могло бы произойти».
В чем сходство этих двух мудростей? Во-первых, в них действительно нет никакой научной мелочности, от грандиозности захватывает дух: там язык как целое участие человека в Целом (именно так, с большой буквы), здесь Космическая Субстанция и Космическая Мыслеоснова (тоже с большой). Во-вторых, эти мудрости сообщаются нам через пророков: у В. В. Бибихина через сомнамбул и прорицателей (в лице, например, Потебни, Гумбольдта и других сочинителей од языку), у теософов – через Космических Учителей. В-третьих, – и это самое главное – и та и другая мудрость обосновываются (не могу сказать «доказываются») сходным образом. Теософы, как известно, любят апеллировать к сходным аспектам религиозного опыта в различных культурах, различных священных писаний, обнаруживая в этих сходных аспектах «осколки» некогда утраченного единого учения (понятно, возобновленного в теософии). Точно так же и В. В. Бибихин обнаруживает учение о языке, сходное с его собственной концепцией, в сочинениях древнегреческих философов, где оно якобы присутствовало в аутентичном виде (будучи впоследствии утраченным; данная утрата списывается (с. 131) на «просветительское откровение», оно же нигилизм, и на загадочную «машину объективирования», «которую уже не остановить» (с. 156)), а также в работах некоторых более поздних авторов, где искомое учение о языке присутствует, правда, лишь неявно и фрагментарно (удивительно, что Хайдеггер, подражателем которого является В. В. Бибихин, упоминается им в этой связи крайне редко). «Внутренняя форма слова» есть потому не что иное, как попытка разыскать идеи В. В. Бибихина (или подходы к ним) в сочинениях Потебни, Гумбольдта и других, хотя главным авторитетом, на которого автор опирается в первую очередь, является Аристотель. Характерен, например, такой фрагмент (с. 184): «Надо учесть тут, что Аристотель начинает, так сказать, там, куда Потебня в конце концов пришел после всех анализов… Для Аристотеля это как бы ясно с самого начала».

Н. А. Шифрин. Родники. Фабрика текстиля в Родниках. Публикуется впервые
Выбор Аристотеля на указанную роль более чем странен, поскольку, – по крайней мере, среди греков, – нет мыслителя более далекого, нежели он, от «учения о языке» В. В. Бибихина. Отчего насилие над текстом Стагирита становится неизбежным. Не хочу быть голословным: посмотрим, как интерпретируется В. В. Бибихиным фрагмент из трактата «Об истолковании», который является этаким краеугольным камнем во всех построениях автора.
Итак, В. В. Бибихин берет строчку из первой главы «Об истолковании» Аристотеля («τά έν τή φωνή τών τή ψυχή παθημάτωή σύμβολα») и объявляет ее определением языка у Аристотеля (с. 177). В русском переводе из четырехтомника серии «Философское наследие» эти слова переданы так: «То, что в звукосочетаниях – это знаки представлений в душе». В. В. Бибихин утверждает, что «перевод этот неудачен весь, в каждом слове он не просто искажает мысль Аристотеля, но безвозвратно загромождает ее уродливыми нагромождениями, через которые до нее добраться уже невозможно» (с. 179), после чего предлагает свою оригинальную интерпретацию. Во-первых, считает он, «τά έν τή φωνή» – это не «то, что в звукосочетаниях», но «терминологизированное при помощи артикля τά обозначение вообще всего, что может происходить с голосом» (с. 181). Во-вторых, «παθημάτα» суть не «представления», но «самое широкое наименование вообще человеческого опыта, положения; такое состояние может быть и страстным, и интеллектуальным, вообще каким угодно» (с. 179). И, наконец, в-третьих, упоминаемые «σύμβολα» суть не знаки, но символы в исконном смысле слова: «Символ – часть целого, тем, что она, часть, показывающая на целое, пред-полагающая его, состоящая в договоре, в соглашении с другой частью (договор, сделка – тоже значение греческого слова „σύμβολον“) (с. 176); „„Символ” предполагает, что одно осколок другого и без другого, так сказать, не ходит“ (с. 178). Из этих посылок делаются следующие выводы. „Язык состоит не из „звукосочетаний”, а из всей игры голоса, внедренного в человеческое существо, включая молчание… Язык заключается в том, что то, что происходит с человеческим голосом, находится в каком-то отношении к тому, что происходит с человеком. Надо назвать это отношение, Аристотель его называет: словом „σύμβολον“ (с. 181). И, наконец, следует окончательный вывод: «У Аристотеля… мы возвращаемся к предельно ясному и благородно-простому пониманию символа как осколка целого. Целое ведет и определяет. Ни звук сам по себе не целое без человека, ни опять же наоборот человек со всем своим состоянием не целое без слова. Слово символ того, что происходит в душе – значит есть целое, слово человека, человек как словесное существо, целое, в свете которого, в движении к которому должны быть сложены как две половинки звучащее слово и состояние души… По Аристотелю слова вообще не надо, нельзя рассматривать отдельно: они только осколки, половинки, обломки“ (с. 182–183).
Итак, вот оно, учение В. В. Бибихина о тождестве мира и языка.
Однако если обратиться к тексту Аристотеля, не выдирая при этом из контекста одну-единственную фразу (на самом деле – даже часть фразы), т. е. приняв во внимание то «целое», о котором так любит рассуждать В. В. Бибихин, картина будет совершенно иной. Во-первых, приведенная фраза едва ли является определением языка. В строгом смысле слова она вообще не есть определение, поскольку, согласно тому же Аристотелю, «определение состоит из рода и видового отличия» (Тор., I, 8; 103b 15), а здесь ничто из такового не указано. Поэтому следует признать, что Аристотель не определяет здесь нечто, но просто высказывается по поводу чего-то. И это «что-то» отнюдь не язык, но «φωναί» и «παθήματα».
Начнем с «παθήματα». Действительно, «παθήματα» (лат. passiones), «претерпевания», суть «самое широкое наименование вообще человеческого опыта». Однако Аристотель говорит не просто о «претерпеваниях», но о «претерпеваниях в душе» («έν τή φωνή»). В. В. Бибихин этого обстоятельства как бы не замечает, и неспроста. Поскольку «претерпевания в душе» это уже не «вообще человеческий опыт», а опыт более конкретный, а именно определенные психологические состояния. Какие же психологические состояния, или «претерпевания», Аристотель увязывает с «φωναί», которые суть «символы» этих «психологических претерпеваний»? Ответ можно обнаружить в трактате «О душе» (De an., II, 8; 420b 28): «Не всякий звук (χόφος), производимый животным, есть φωνή,… но необходимо, чтобы он сопровождался неким представлением (φαντασία». Эта фантасия, или фантасм (φαντασμα), есть не что иное, как чувственный образ, пребывающий в способности воображения (так же, как понятие пребывает в разуме). Вот, собственно, откуда в русском переводе появляются «представления», столь нелюбимые В. В. Бибихиным. «Φαντάσματα» действительно суть представления. Когда мы говорим собеседнику: «Представь себе, что…», мы – согласно Аристотелю – желаем, чтобы в его воображении возник некий чувственный образ, φαντασμα. «При воображении [чего-либо] у нас такое же состояние, как при рассматривании картины», говорит Аристотель (ibid., III, 3; 427b 23). А рассматривать картину (если говорить на языке самого же В. В. Бибихина) – значит пред-стоять перед ней; отсюда и «представление».
К этому можно, впрочем, добавить, что мышление также есть некое претерпевание: «Мыслить означает нечто претерпевать» (ibid., 4; 429b 24); поэтому и сами понятия (νοήματα, intellectus) также суть претерпевания. Аристотель, таким образом, мог подразумевать под указанными «παθήματα» не только φαντάσματα, но и «интеллектуальные претерпевания». Это, однако, нисколько не противоречит сказанному ранее, поскольку «размышляющей душе представления (φαντάσματα) как бы заменяют ощущения» и «душа никогда не мыслит без представлений (φαντάσματα» (ibid., 7; 431a 15).
Итак, первый предварительный вывод. Утверждение В. В. Бибихина о том, что «παθήματα» из цитируемого фрагмента трактата «Об истолковании» есть «все что угодно, что происходит с человеком… всякое состояние, опыт, настроение, положение, в котором мы когда-либо находимся» (с. 180), слишком смело и необоснованно. Наоборот, перевод «παθήματα» как «представления» имеет полное право на существование, хотя, конечно, не является идеальным по причинам уже указанным (идеального перевода данного термина на современные языки, похоже вообще не существует; так, в английском переводе Эджхилла читаем «mental experience», каковое прочтение хотя и возможно, но не абсолютно точно).
«ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА» ЕСТЬ ПОТОМУ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ПОПЫТКА РАЗЫСКАТЬ ИДЕИ В. В. БИБИХИНА В СОЧИНЕНИЯХ ПОТЕБНИ, ГУМБОЛЬДТА И ДРУГИХ
Рассмотрим теперь «φωναί». В. В. Бибихин утверждает, что «φωναί» – «все то, что может происходить с голосом», включая интонацию, музыку (?), молчание и «всю его игру» (с. 180); между тем у Аристотеля имеется вполне четкое определение этого термина (De an., II, 8; 420b 5 sqq.). Φωνή, во-первых, есть «звук (χόφος), издаваемый одушевленным существом (ведь ничто неодушевленное не имеет φωνή)»; во-вторых, φωνή есть звук издаваемый «не любой частью тела животного: так как всякий звук (χόφος) производится, лишь когда нечто ударяет обо что-то в чем-то, а именно в воздухе, то, естественно, φωνή есть только у тех животных, которые вдыхают воздух». Наконец, как уже было отмечено, «Не всякий звук (χόφος), производимый животным, есть φωνή… но необходимо, чтобы он сопровождался неким представлением (φαντασία)».
Из этого ясно также, почему переводчик «Об истолковании» выбрал для передачи φωνή слово «звукосочетание» – для того, чтобы различить φωνή и χόφος. Насколько этот выбор удачен – вопрос отдельный; важно, что он не произволен и более или менее обоснован. Если, скажем, в латыни различие между φωνή и χόφος легко передается посредством слов vox и sonus, то в русском это весьма сложно. Φωνή у Аристотеля – это, грубо говоря, «голос» (или, если более строго, – «звук, производимый голосом одушевленного существа»). Но если мы еще можем говорить о «голосе» собаки или птицы, то сказать, например, что «имя есть обозначающий голос» («Όνομα μέν οΰν φωνή σηοαντική» – определение имени из трактата «Об истолковании») невозможно никак – отсюда и происходят «звукосочетания», которые критикует В. В. Бибихин.
Дело здесь также и в том, что φωνή отличается еще и от άγράμματοι χόφος, т. е. от такого звука, который нельзя передать на письме буквами (De interp., 1; 16a 29). Поэтому Аристотель не случайно указывает, что «письмена (γράμματα) – знаки (σύμβολα) того, что в звукосочетаниях (φωναί)». Эти слова являются продолжением приводимой В. В. Бибихиным фразы; однако поскольку они не вяжутся с теорией о тождестве мира и языка, то автор благоразумно их опускает. Из сказанного ясно, помимо прочего, что заявления В. В. Бибихина о том, что φωναί есть интонация, музыка, вся игра голоса и, тем более, молчание, суть не что иное, как фантазия автора.
Наконец, у φωνή имеется еще и обозначающая функция. Аристотель часто пользуется термином «φωνή σηματική „, „обозначающий звук“, например: «Имя есть обозначающий звук, по соглашению, безотносительно времени“ (De interp., 1; 16а 20). Более того, «именно φωνή есть звук, что-то обозначающий» (De an., II, 8; 420b 33). Однако поскольку В. В. Бибихин уже заявил, что не желает рассматривать слова как обозначения вещей («с какой стати мы будем так говорить?», с. 128), то о данном казусе он просто умалчивает: действительно один только факт употребления Аристотелем указанного словосочетания делает невозможными любые попытки навязать ему теорию Бибихина о единстве языка и мира.
Отсюда легко перейти и к главному «открытию» В. В. Бибихина, на котором выстраивается вся его концепция. Напомню, что оно заключается в том, что «σύμβολον» это не «знак», но «часть целого, тем, что она, часть, показывающая на целое, пред-полагающая его, состоящая в договоре, в соглашении с другой частью». Однако достаточно просто открыть словарную статью, чтобы прочесть: «σύμβολον: 1) Знак, примета, признак, знак, служивший доказательством союза гостеприимства, заключенного между двумя семействами; марка, которую получали в Афинах заседавшие в суде, участвовавшие в на родном собрании и т. п., знак отличия или сана: σ. βασιλείας: условный знак, пароль, сигнал, чувственный знак, символ, знамение, предзнаменование, 2) Договор между двумя государствами о том, чтобы в делах торговых обвиняемый судился в своем государстве по своим законам» (А. Вейсман. Греческо-русский словарь).
Как из всего этого можно извлечь «часть целого, тем, что она, часть и т. п.» мне лично совершенно непонятно. Впрочем, при наличии богатой фантазии можно, наверное, договориться и до того, что, например, символ царской власти «состоит в договоре, в соглашении» с царем, или что сигнал к атаке есть «осколок, половинка, обломок» подающего сигнал трубача, «и одно без другого не ходит».
Скандал, впрочем, состоит в том, что Аристотель, называя сначала звукосочетания (φωναί) символами (σύμβολα), в следующем (!!!) предложении прямо именует их знаками (σημεία): «… претерпевания (παθημάτα) в душе, непосредственные знаки (σημεία) которых суть то, что в звукосочетаниях (φωναί)». Все латинские средневековые комментаторы это обстоятельство замечали, а потому давали данному разделу трактата «Об истолковании» название «De signis» («О знаках»), а само слово «σύμβολον» понимали как «notae», т. е. «ярлык», «знак» и т. п., что, конечно, никак не тянет на «осколки целого».
В. В. Бибихин, наоборот, как бы не замечает слова σημεία» (знаки) применительно к «φωναί». Вместо этого он приступает к ритуальному осмеянию традиционного понимания фрагмента (с. 181): «Перевод „знак» искажает его (Аристотеля – А. А.) мысль. „Знак» оставляет в неопределенности все главное: кто назначил знак; каким образом знак способен обозначать, случайным или сколько-нибудь природным. Опять-таки лингвистике кажется, что когда она употребляет слово «знак», то кому-то должно быть понятно, что она имеет в виду. Это удивительная надежда, потому что самой лингвистике это неясно» и т. д. и т. п.
Если бы Бибихин был добросовестен, он мог бы сам дать ответ на свой как бы риторический вопрос («кто назначил знак; каким образом знак способен обозначать, случайным или сколько-нибудь природным»), прочитав следующую главу трактата «Об истолковании», где сказано: «Имя есть обозначающее (обозначающее, т. е. выступающее как знак – А. А.) звукосочетание, по соглашению, безотносительно времени». И далее Аристотель объясняет, что значит «κατά συνθήκην», «по соглашению»: «„В силу соглашения» – поскольку от природы нет никакого имени, [а есть оно тогда], когда становится знаком». Совершенно очевидно, таким образом, что «знак назначили» люди, причем «κατά συνθήκην», т. е. грубо говоря, так, как им понравилось, а «природным образом» знак обозначать не может: «Всякая речь что-то обозначает, но не как естественное орудие, а как было сказано, в силу соглашения» (De interp., 1; 17а 1).
Обычно данную концепцию называют конвенционалистской теорией языка. Согласно этой теории язык есть набор произвольно установленных знаков, употребляющихся для обозначения (тем или иным образом) познанных вещей (в самом широком смысле этого слова – включая и те самые «претерпевания» души). При этом никакой «онтологической» связи между вещами и их знаками-словами не существует: «В самом деле, так как нельзя при рассуждениях приносить самые вещи, а вместо вещей мы пользуемся как их знаками именами, то нам кажется, что то, что происходит с именами, происходит и с вещами, как это происходит со счетными камешками, для тех, кто ведет счет. Но соответствия здесь нет, ибо число имен и слов ограничено, а количество вещей неограниченно» (Elench., 4; 165а 5).
Таким образом, как уже сказано выше, трудно придумать нечто более далекое от оригинальной мысли Аристотеля, нежели та концепция, которую навязывает греческому философу В. В. Бибихин. Практически на каждый его тезис у самого Аристотеля можно найти прямо противоположное.
Например, у Бибихина сказано: «Наука о языке как сумме словаря и грамматики у Аристотеля невозможна» (с. 183). У Аристотеля же, во-первых, нет никакой науки о языке; трактат «Об истолковании» есть вообще трактат по логике, ибо там трактуется о «высказывающей речи», той, «в которой содержится истинность или ложность», а «прочие виды речи оставлены здесь без внимания, ибо их рассмотрение подобает более искусству красноречия или стихотворному искусству» (4; 17a 3). Во-вторых, эту самую «высказывающую речь» Аристотель рассматривает именно при помощи «словаря и грамматики», ибо сначала повествует об имени (гл. г), затем о глаголе (гл. 3), затем об их соединении в высказывания, например, в утверждение и отрицание, простое и сложное предложение, противоположные и противоречащие (контрарные и контрадикторные) высказывания и т. д. (гл. 4–9), затем составные части предложения (гл. ю) и т. д. и т. п.
Или: у Бибихина говорится: «Ни звук сам по себе не целое без человека, ни опять же наоборот человек со всем своим состоянием (sic!!!) не целое без слова… По Аристотелю слова вообще не надо, нельзя рассматривать отдельно: они только осколки, половинки, обломки». А у Аристотеля сказано предельно ясно: «О „παθήματα” (тех самых “состояниях” – А. А.) сказано в сочинении о душе, ибо они предмет другого исследования» (1; 16a 8).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































