Текст книги "Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008"
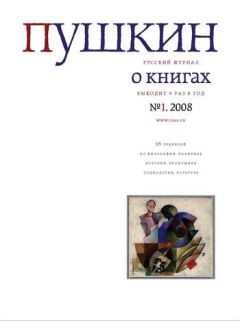
Автор книги: Журнал
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
ПОКУПКИ
Книжные покупки Артема Смирнова
В оформлении использованы работы Ольги Чернышевой. Серия «Жители», 2007. (Акварель, бумага.)

Rodney Barker. Legitimating Identities: The Self-Presentations of Rulers and Subjects. NewYork, NY: CambridgeUniversityPress, 2001. 161 p. (Родни Баркер. Легитимация идентичностей: самопредставления правителей и подданных).
Не то чтобы Баркер совершил какую-то революцию в представлениях о легитимации, но познакомиться со свежим взглядом, да еще насыщенным красочными примерами, никогда не вредно. Идея автора проста и изящна: на протяжении всей человеческой истории правители только и занимались тем, что пытались легитимировать свое положение и власть, но легитимация эта носила «эндогенный» характер, то есть их волновало не столько мнение их подданных о них самих, сколько их собственное мнение и мнение своих приближенных. Они тратили немало времени и сил, чтобы доказать себе, что они по праву являются правителями, чтобы оправдать свое правление в своих же глазах, и совершали при этом весьма странные, на первый взгляд, действия. Взять хотя бы траянову колонну, монумент высотой в тридцать с лишним метров, со сложнейшим рельефом, повествующим о победоносных кампаниях Траяна против даков. Загвоздка в том, что рельеф этот попросту невозможно разглядеть с земли без бинокля, так что, создавая ее, Траян вряд ли хотел произвести впечатление на простых римлян. Так для кого же он возводил ее? Очевидно, для самого себя – этот классический образчик самолегитимации помогал ему помнить о собственном величии. Как писал Поль Вен, у которого Баркер и позаимствовал этот пример, императоры «с готовностью вещали о своем величии, даже если их никто не слушал». И все же, как бы смешно и нелепо ни выглядело порой подобное поведение, такая самолегитимация составляет фундамент всякой власти, ибо «когда подданные утрачивают веру в правителей, правление становится непростым делом. Но когда правители перестают верить в себя, оно становится невозможным». Главное, чтобы не слишком отрывались от реальности, а то всегда найдется, кому их заменить (об этих последних и об их стратегии самолегитимации Баркер тоже пишет).

Gareth Stedman Jones. An End to Poverty? A Historical Debate. New York, NY: Columbia University Press, 2004. 278 p. (Гарет Стедман Джонс. Конец бедности? Исторический спор).
Книга блестящего британского историка, известного прежде всего своими «Языками класса» (эта работа произвела революцию не только в истории чартистского движения, но и во всей социальной истории) и недюжинным введением к «Манифесту Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, по своему объему вчетверо превосходящим текст самого «Манифеста». На первый взгляд «Конец бедности» предстает простым описанием одного частного эпизода из истории идей конца эпохи Просвещения: замыслов Пейна и Кондорсе касательно преодоления бедности и реакции на них во Франции и Британии в XIX веке. Что тут такого? Да мало ли таких политэкономических историй выходит каждый год в университетских издательствах?! Верно, немало, но едва ли кому удается сделать то, что смог сделать Джонс (вышедшая недавно по-русски книга Пьера Розанваллона «Утопический капитализм» составляет приятное исключение), проследив рождение идей социал-демократии из левого либертарианства. На самом деле «Конец бедности» это не столько интеллектуальная предыстория социал-демократии, сколько необычайно увлекательная история возникновения «третьего пути» (Пейн и Кондорсе задумывали соединить то, что мы бы сейчас назвали «социальным страхованием», с республиканским равенством и – еще до их зарождения! – «ментальной реформой» и «коммерческим обществом»).
Richard Sennett. The Culture of the New Capitalism. New Haven, CT: Yale University Press, 2006. 214 p. (Ричард Сеннет. Культура нового капитализма).
Нет большого смысла в пересказе ностальгически-романтических рассуждений Сеннета об «идеальном» активном гражданине-ремесленнике, который сам «создает законы, живет с ними, а затем дает рождение чему-то новому», и «реальном» пассивном гражданине-потребителе-зрителе, создаваемом современным капитализмом. Некогда остроумный социальный критик превратился в старого брюзгу. А о том, насколько Сеннет хорошо себе представляет «реального» потребителя даже не политики, а минималистичного iPod shuffle первого поколения, можно судить по нелепости задаваемых им вопросов: «Как же вы отберете десять тысяч песен или найдете время для того, чтобы скачать их? Чем вы будете руководствоваться при отборе пятисот часов музыки, содержащейся в маленькой белой коробочке? Вы вообще сможете удержать в памяти десять тысяч песен, чтобы выбрать, какую вы хотите прослушать в данный момент?» Если кто не знает, iPod shuffle обычно используют для того, чтобы слушать музыку в произвольном порядке. Построения Сеннета необычайно метафоричны, только вот смысл его метафор вряд ли будет понятен читателю. К примеру, зачем называть гибкие организации, лишенные пирамидальной структуры, mp3-институтами, если автор слабо представляет себе, как работает mp3-player (что обозначает этим словом Сеннет – программу или само устройство, – остается загадкой)?
Yannis Stavrakakis. The Lacanian Left: Psychoanalysis, Theory, Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007, 328 p. (ЯннисСтавракакис. Лаканианскиелевые: психоанализ, теория, политика).
Трудно не согласиться с критиками, которые упрекают Ставракакиса в том, что тот пытается совершить невозможное, изобретая своих «лаканианских левых»; Между членами «банды четырех» – Касториадисом, Лаклау, Бадью и Жижеком – различий куда больше, чем сходств, а левизна этих философов и использование ими лакановского концептуального инструментария вряд ли может служить неким родовым признаком. И если книжку сократить вдвое, оставив только вторую часть (в первой Яннис упражняется в интерпретации работ этой четверки и вступает в полемику с Жижеком), это пошло бы ей только на пользу. Мне его статьи о новом национализме, европейской идентичности, рекламе и консюмеризме показались довольно любопытными, хотя и слишком предсказуемыми – сказывается работа «дискурса Университета», а не «аналитика». Так что читал я их, скорее, по инерции, только затем, чтобы быть в курсе происходящего в так называемой лаканианскои политической теории.
Judith Butler and Gayatri Chakravorty Spivak. Who Sings the Nations-State? Language, Politics, Belonging. London, New York, Calcutta: Seagull Books, 2007. 121 p. (Джудит Батлери Гаятри Чакраворти Спивак. Кто воспевает национальное государство? Язык, политика, принадлежность).
Заказ на книжку с таким заманчивым названием, да еще от двух крупнейших из ныне живущих представителей постструктуралистской теории, я оформил на Amazon'e еще до того как она увидела свет. Пока она была в пути – а путь этот как всегда был долгим (таможня и почта постоянно теряют посылки, а повторно высланный заказ можно ждать несколько месяцев), – у меня была возможность познакомиться с нелестными отзывами читателей об этой книге и ее издателях, оставленными все на том же Amazon'e Они обвиняли Батлер и Спивак в бесстыдной эксплуатации своего статуса академических «звезд», рассуждающих о том, в чем ровным счетом ничего не смыслят, а именно о глобализации и национализме. Читатели также недоумевали, с какой повествовательной формой они имеют дело – «эссе, диалог, не-книга»?
Но проблема не в Батлер и Спивак, а в глупейшем издателе, который зачем-то решил поместить под твердую (!) обложку расшифровку заключительных выступлений наших героинь на конференции «Глобальные государства/состояния», прошедшей в мае 2006 года. Издатель просто не посчитал нужным сообщить читателю о происхождении текста. Я и сам узнал, что это публикация материалов конференции только потому, что видел ранее видеозапись этих выступлений на сайте журнала Postmodern Culture. И, разумеется, если бы я узнал об этом раньше, то не стал покупать книгу: Батлер просто повторяет свои рассуждения о «гражданстве» и «безгосударственности», известные по более ранним работам, а идея «критического регионализма» Спивак изложена в ее свежих «Других Азиях» куда более доходчиво.

Но кто же все-таки воспевает национальное государство? Это, пожалуй, самый занятный эпизод в книге: воспевают его иммигранты-латиноамериканцы, которые в конце апреля 2006 года – всего за несколько дней до упомянутой конференции – вышли на улицы крупных американских городов, требуя изменения иммиграционного законодательства, и исполнили «Nuestro Himno», национальный гимн Соединенных Штатов по-испански. Прекрасный пример того, как на практике происходит описанное Батлер перформативное «переозначивание» национального государства и национальной идентичности.
Mike Davis. Buda's Wagon: A Brief History of the Car Bomb. London: Verso 2007. 220 p. (МайкДэвис. Повозка Буды: краткая история заминированного автомобиля).
Автомобиль можно использовать по-разному: добираться на нем из пункта А в пункт Б, демонстрировать с его помощью свой социальный статус, нежно ласкать его в гараже. А еще автомобиль может быть сравнительно недорогим, точным и мощным оружием, сопоставимым по своей разрушительной силе с авиабомбой («ВВС для бедных») и потому отлично подходящим для ведения асимметричной войны. В своей книге Майк Дэвис рассказал о почти столетней истории такого нетрадиционного применения этого транспортного средства и его предшественников. Собственно, повозка Буды и есть прототип нынешних заминированных легковушек и грузовиков: 16 сентября 1920 года взрыв повозки, груженой динамитом, которую анархист Марио Буда оставил на людной Уолл-стрит, унес жизни 38 мелких клерков. С тех пор популярность, взрывная мощь и количество жертв подобных устройств только росли, достигнув наивысшей точки в современном Ираке, где они взрываются чуть ли не каждый день, И такие машины ждет «блестящее будущее», потому что по блокпосту на каждой улице не поставишь, Дэвис подводит читателя к выводу, что в появлении такого вида террора всегда виновно само государство. Меня это не слишком убеждает, потому что то же самое принято говорить и о других видах террора. Выбор той или иной тактики, а также отказ от нее – это всегда результат расчета, понять который без знания контекста практически невозможно. Дэвис контекста или не знает совсем, или знает его не слишком хорошо. Вряд ли я сам бы купил эту книгу (статьи Дэвиса, из которых она впоследствии выросла, доступны в сети), но раз уж ее прислали в подарок, то я и прочитал.
Jan-Werner Mdller. Constitutional Patriotism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007. 186 p. (Ян-Вернер Мюллер. Конституционный патриотизм).
После полутора десятилетий беспредметных споров в англоязычной литературе о «конституционном патриотизме» историк политической мысли из Принстона Ян-Вернер Мюллер написал, наконец, краткий курс его истории и теории, рекомендованный к прочтению самим
Хабермасом. Оказывается, пресловутый «конституционный патриотизм» появился в результате попытки конституционного суда ФРГ в конце 1950-х годов легитимировать свои исключительные полномочия, позволявшие ему оценивать степень соответствия конституции практически всех законов и политических решений. Конституция была тогда не в почете: ее текст был навязан после войны оккупационными державами, а процедура принятия обошлась без какого-либо публичного обсуждения. Юристы конституционного суда попытались исправить ситуацию, взяв на вооружение «теорию интеграции» Рудольфа Сменда и дополнив ее идеями Карла Ясперса о «проработке прошлого» и Карла Левенштейна о «воинственной демократии», готовой пойти на самые радикальные меры для борьбы со своими врагами (тогда ими были национал-социалисты и коммунисты, затем к ним прибавились «новые левые»). Потом Дольф Штернбергер заговорил о необходимости воспитания «патриотических чувств в конституционном государстве», «дружбы с государством» и, наконец, самого «конституционного патриотизма». И лишь во второй половине 1980-х годов во время известного «спора историков» о нацистском прошлом Германии и возможности его «нормализации», за неимением других дискурсивных средств, язык конституционного патриотизма был освоен Хабермасом: он был для него своего рода оборонительной мерой, направленной против ревизионизма Нольте; наверное, этим и объясняется его странное молчание о «патриотизме» (но не о конституционализме) в 1990-х. В двух словах «общая теория конституционного патриотизма» обоих – и Хабермаса, и Мюллера, так как особых различий между ними лично я не увидел – сводится к следующему: главное в «конституционном патриотизме» – это не простая лояльность действующей конституции, а активное участие в обсуждении и пересмотре конституционной культуры в публичной сфере. Эта теория является превосходным примером «самолегитимации»: нетрудно догадаться, что участвовать в таком обсуждении сможет лишь меньшинство, обладающее соответствующей культурной компетентностью, – публичные политики и интеллектуалы, к числу которых принадлежит Мюллер. Самое интересное, что в примечании (sic) в одной из своих недавних статей, опубликованной уже после выхода книги, он признался, что у него нет ответа на два упрека в адрес «конституционного патриотизма»: это его «государственническое» наследие (преследование «врагов» и возможность «либерального авторитаризма») и «конституционный фетишизм», словно не замечающий, что власть далеко не ограничивается конституционными рамками. И что прикажете делать с такой «теорией»?

АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ – РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ «ЛОГОС» И «ПУШКИН», КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПЕРЕВОДЧИК. РОДИЛСЯ В 1980 ГОДУ. ОКОНЧИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ПУБЛИКОВАЛСЯ В ЖУРНАЛАХ «ЛОГОС», «ПРОГНОЗИС», «ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
ФИЛОСОФИЯ
Бергсон в России
Карен Свасьян

Ф. Нэтеркотт. Философская встреча: Бергсон в России (1907–1917) / Пер. с фр. И. Блауберг. М.: Издательство М. Колерова, 2008, 432 с.
Книга Ф. Нэтеркотт «Бергсон в России» воссоздает историю одной философской рецепции. Богатейший материал, собранный по русскому философскому пространству начала века, проработан и упорядочен с такой основательностью и прозрачностью, что можно заранее предсказать книге статус библиотечной востребованности, того, что немцы называют Referenzwerk, Всё сделано очень строго и безыскусно, в традициях старого доброго письма. Читатель решит сам, оставаться ли ему при синопсисе систематизированных фактов или отталкиваться от них к новым и неожиданным содержаниям. Наверное, и очень хорошие книги могут быть отталкивающими, если они отталкивают от себя, как трамплин, чтобы не втягивать в себя, как трясина. К чему же отталкивает встреча философа Бергсона с философской Россией, реконструированная в монографии Ф. Нэтеркотт? Что она есть по существу или, по существу же, чем она хочет быть? Сам по себе факт встречи пуст и нем: он может оказаться случайностью, статистической погрешностью, ошибкой, недоразумением, ничем? Но он же может быть: испытанием, потрясением, узнанием? Во всяком случае, чем-то большим, чем это могло бы показаться в оптике первичной историко-философской фактичности. Факт есть отсылка к иному, и мы понимаем факты, когда смотрим на них, чтобы видеть другое. Если тема «Бергсон в России» хочет быть не просто очередным дискурсом, а некой действительностью, то и коннотировать следует её не философскими отвлеченностями, а более глубокими, неявными, смыслами, слагающими контрапункт, как минимум, четырех референций: французской и русской в сочетании с английской и немецкой. Смещение проблемы в топику национального – не цель, а, скорее, прицел, в котором взята на поражение более отдаленная и внезапная цель; есть возможность рассматривать различные европейские этносы как части (или элементы) некой единой характерологии, иначе: как потенцированные в национальное душевные доминанты, каковые мы привыкли различать в отдельных людях и по каковым мы различаем же степень их зрелости в освоении и осмыслении собственных жизненных задач. То, что итальянец или испанец воспринимает мир преимущественно в элементе «ощущающей души», француз сквозь призму «рассудочной души», англичанин в возгонке восприятий до «сознательной души», суть факты, которые могли бы вывести нас к более рафинированному пониманию истории, если бы до них снизошла наша гордая историческая наука. Ибо чем же и отличаются друг от друга периоды истории, и чем определяются жизненные задачи («судьбы») народов в общечеловеческом развитии, как не их соответствием названным душевным доминантам, когда общий культурный горизонт, а вместе и габитус исторического процесса, меняется в зависимости от того, какой из доминант в данный отрезок времени принадлежит приоритет в образовании и освоении форм жизни! Так, если переход от Средневековья к Новому времени стоит под знаком энергичного обращения к внешнему чувственному миру и овладения им, то этой задаче, больше всего относящейся к компетенции души сознания, и обязан англичанин своей эпохальной репрезентативностью в умении справляться с внешними фактами и не давать отвлекать себя всякого рода идолам интроспекции. Напротив, француз, как экспонент рассудочности, больше заботится о внутреннем, живет во внутреннем, которое он постоянно отвоевывает у bruta facta и переподчиняет душевному этикету… Не лишено иронии, что Бергсон, о котором Этьен Жильсон уже после смерти философа сказал, что, пока он жил, Франция была для всего мира голосом самой философии, родился англичанином[71]71
По матери. Его отец был польским евреем по фамилии Берексон.
[Закрыть] в 1859 году (в год выхода в свет дарвиновского «Происхождения видов»), когда Англия как раз начала подминать под себя мир усилиями своих государственных и ученых мужей, – оба раза по ведомству intelligence service. (Наверное, мы смогли бы адекватнее понимать английскую историю, если бы научились произносить на одном дыхании имена, скажем, Спенсера и Дизраэли.)

Ольга Чернышева. Серия «Жители», 2007
В лицейские годы Бергсон, по собственному позднему признанию, находился под сильнейшим влиянием Спенсера, о котором Дарвин[72]72
См.: O. Gaupp. Herbert Spencer. Stuttgart 1906, S. 1.
[Закрыть] отозвался, как о «величайшем из ныне живущих философов Англии, а, может, и равном по значению любому из живших прежде». Сам Спенсер вспоминал в «Автобиографии»,[73]73
London 1904, I, 252 sq.
[Закрыть] что, когда ему, двадцатилетнему, попала в руки «Критика чистого разума», он должен был уже по прочтении немногих страниц отложить книгу в сторону, так как допущение, что понятие пространства содержит глубокую проблему, вызвало у него «немедленный и абсолютный» протест. Правда, восьмидесятилетним, ему пришлось вернуться к этой теме[74]74
В книге Facts and Comments. London 1902, p. 304.
[Закрыть] и признать, что она вызывает у него ощущение, от которого ему становится не по себе. (Хьюстон Стюарт Чемберлен[75]75
Immanuel Kant. München 1916, S. 956.
[Закрыть] пожелал в этой связи Спенсеру прожить еще восемьдесят лет, чтобы понять, что и понятие времени содержит не менее глубокую проблему.) Что Спенсер нес не отсебятину, а всего лишь обычный british mindset, легко доказывается множеством аналогичных ляпсусов, от Ньютона с его знаменитой схолией к 8 дефиниции в «Математических началах натуральной философии» («Что есть время, пространство, место и движение, я не определяю, в силу того что это известно всем») через Локка, о котором Шеллинг,[76]76
Рассказано Шиллером в письме к Гёте от 30 ноября 1803 (Briefwechsel, Bd. 2, Jena 1905, S. 502).
[Закрыть] когда при нем однажды сослались на Локка, сказал: «Я презираю Локка», а Жозеф де Местр,[77]77
Les Soirées de Saint-Pétersbourg, t. 1, Paris 1980, p. 360.
[Закрыть] учинивший ему форменное философское избиение, заметил, что «нельзя вообще говорить, ни даже просто произнести слово „и», не опровергнув тем самым Локка», до современных аналитических шутников, вроде Райла или Приста, вообще отрицающих существование сознания.
Против этого философского скудоумия, для воцарения которого понадобились две выигранные мировые войны, и ополчился прирожденный «англичанин» Бергсон, после того как переболел им в школьные годы. Жан де ла Арп[78]78
Souvenirs personnels d'un entretien avec Bergson. In: Henri Bergson. Essais et témoignages inédits. Neuchâtel 1941, p. 359.
[Закрыть] вспоминает удивительное признание философа, openmindedness которого стала притчей во языцех: «Мои книги всегда были выражением недовольства, протеста. Я мог бы написать их множество, но я писал только, чтобы протестовать против того, что казалось мне ложным». Общая формула протеста лежит, как на ладони: мобилизация внутреннего мира против тотального засилия внешнего. Мир естествознания, каким его застал Бергсон (и застаем всё еще и мы) не только не содержит, но и просто не допускает ничего человеческого. Здесь нет места ни Я, ни чувствам, ни переживаниям, подлежащим, вследствие их субъективности, немедленной элиминации, зато есть место «волнам» и «частицам», то есть мыслям самих ученых, которые, после того как они вытеснили из мира непосредственно воспринимаемые вещи, стали выдавать за мир свои мысленные конструкции и иметь при этом наглость называть себя «естествоиспытателями». Невменяемость мира науки в том, что, будь вещи в самом деле таковы, как их представляет наука, они были бы невоспринимаемы, а мы, продолжай мы и в обыденной жизни принимать их за то, чем им назначает быть наука, – просто шизофрениками. Ну кто же думает в картинной галерее, стоя перед полотнами художников, что это не краски, а «электромагнитные излучения оптического диапазона», и какому недоумку придет в голову при виде двух врезавшихся друг в друга на огромных скоростях автомобилей считать это иллюзией, поскольку ощущаемые нами как «твердые тела» машины (как и мы сами) в действительности состоят-де из бесконечно-малых частиц, разделенных бесконечно-малыми пространствами! Этой науке и нанес Бергсон удар страшной силы, показав, во-первых, что её неподвижные понятия абсолютно неконгруэнтны динамике восприятий, и что, во-вторых, никакая наука не в состоянии элиминировать душевные явления (сознание, память, Я), редуцировав их к мозговым процессам. «Иррационализм» Бергсона (по сути, еще одна ложная этикетка рационалистического происхождения) есть лишь ответная и защитная реакция рассудка на естественно-научный беспредел, загнавший мир в приборы, а человека в рефлекс слюновыделения. Можно, парафразируя в несколько огрубленной форме известный пассаж из «Творческой эволюции», сказать, что бергсоновская интуиция – это инстинкт насекомого в голове философа. Или, если угодно, артистическое вдохновение в той же голове. Не удивительно, что первая волна восторга шла именно от художников, увидевших в Бергсоне «освободителя»; поздние аналогии с Прустом необыкновенно точно схватывают суть дела, потому что оба, романист и философ, работали в одном ключе, мобилизуя резервы специфически французской интровертности; один, сгущая мысль до восприятия фантомов собственной памяти, другой объективируя восприятия обратно в мысль. Говоря о рассудочности, важно помнить, что имеется в виду не общий и отвлеченный её топос (quidditas), а «вот этот вот» (haeccitas), в данном случае французский, и не по крови («est française toute personne née de père français»), а по степени вжитости в мир esprit. Мы не преувеличим, допустив, что от французского рассудка легче дотянуться до (французского же) безрассудства, чем, скажем, до немецкого Verstand, и вовсе не случайно, что немецкие переводчики-первопроходцы XVIII века онемечивали esprit не через Verstand, того менее Geist, а через Witz, отчего homme d'esprit представал в немецкой презентации «остряком» (Witzbold). Необыкновенно запутанная ситуация, в которой стремление к четко маркированным терминам запутывает едва ли не больше, чем наблюдение их диковинных псевдоморфозов. Бергсон, провозгласивший первичность и автономию внутреннего Я в эпоху господства естественно-научного механицизма, был, разумеется, не одинок в своем афронте; на этом противостоянии, еще со времен романтиков, держалось всё его столетие.

Другое дело, что работал он из специфически французских резервов, когда противопоставлял локко-гоббсо-юмовскому сознанию, застрявшему в «навозе эмпиризма» (Гёте) и не способному увидеть в своем (прописном, как-никак!) Я нечто большее, чем «пучок представлений», рассудочность, пусть уникальную в своем роде, но явно недостаточную для решения задачи такого калибра. Соль (sal anglicum catharticum) заключалась в том, что, мобилизуя внутренние ресурсы «рассудочной души», ему пришлось их же преодолевать, чтобы не смешить удачливого противника неадекватностями амуниции. Франция, которая, от Монтескье и Вольтера до Наполеона, только и делала, что всемирно-исторически раскручивала Англию, уча островного увальня справляться о самочувствии противника, прежде чем отправить его в нокаут, оказалась слишком ушедшей в словесность, чтобы одолеть островную твердыню номинализма. На что эту рассудочность, в полном объеме её двух-трехвековой раскачки, хватало, так это изживать себя в коротких неподражаемых aperçus и искусстве изящно и элегантно говорить ни о чем; Фоска в своей «Истории парижских кафе»[79]79
Histoire des cafés de Paris, Paris 1934, p. 19.
[Закрыть] приводит впечатления одного путешественника, датированные 1715 годом: «Тут разглагольствуют обо всем, о морали, физике, медицине, политике, истории, теологии, юриспруденции, анатомии, математике, литературе. Такое впечатление, что ты попал в Академию. Но, боги милостивые! Какая же это Академия, когда речь идет о людях, ничему не учившихся столь мало, как науке, о которой они говорят, и всё время говорящих только потому, что им хочется говорить и быть в центре внимания». Странно сказать, но, патологически вытравляя букашек скучности и педантичности, они проморгали «слона»; сам Вольтер в «Советах журналисту»[80]80
Œuvres complètes, t. 47, Paris, 1785, p. 444.
[Закрыть] умудряется рубить сук, на котором сидит, как на троне: «Мне кажется, что люди порядочные стократно предпочтут глухого, но мудрого человека любителю глупых шуток. Другие нации почти не попадают в столь смешное положение. Причина кроется в том, что там меньше, чем во Франции, боятся быть самими собой. В Германии, в Англии физик – это физик; во Франции он хочет вдобавок быть еще и занятным».[81]81
Любопытно, что то же говорит о французах Кант: «В метафизике, морали и религиозных учениях нельзя, читая сочинения, написанные на этом языке, быть достаточно осторожным. По обыкновению, тут слишком много красивых иллюзий, которые при холодном обследовании не выдерживают проверки» (Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, WW, VIII, 49, (Philos. Bibliothek), Leipzig o. J.).
[Закрыть] Вот этого-то философу Бергсону и хотелось меньше всего, потому что меньше всего можно было успешно противостоять естественно-научной атараксии, пользуясь средствами, рассчитанными на благосклонность дам. Приходилось поражать противника, борясь с собственными ресурсами, о чем очевиднее всего свидетельствует уничто жающая критика языка у Бергсона, тем более достойная внимания, что принадлежит она перу писателя с ис ключительно тонким чувством языка.
Придется посчитаться с тем, что такое могло быть однажды написано французом: «Мы не видим самих вещей; чаще всего мы ограничиваемся чтением приклеенных к ним этикеток. Эта тенденция, порожденная нашей потребностью, усиливается под влиянием языка. Ибо слова (за исключением имен собственных) обозначают родовые понятия. Слово, отмечающее в вещи лишь её наиболее общую функцию и её банальный аспект, вкрадывается между вещью и нами; оно заслонило бы от нас явленность вещи, не будь эта явленность уже сокрыта за потребностями, вызвавшими к жизни само слово. И не одни лишь внешние объекты, но и наши собственные душевные состояния ускользают от нас в том, что есть в них интимного, личного, непосредственно пережитого».[82]82
H. BERGSON. Le Rire. Paris, 1924, p. 155 sq.
[Закрыть] Это недоверие к языку, составляющее один из наиболее устойчивых мотивов бергсоновской философии, явно гётевского закала; Морис Раймон[83]83
Bergson et la poésie récente. In: Henri Bergson, Essais et témoignages inédits, p. 291.
[Закрыть] упоминает в этой связи и шиллеровские Tabulae Votivae: «Речь обретает душа, быть переставши душой».[84]84
Пер. Н. Вильям-Вильмонта.
[Закрыть] Тема немецких влияний в философии Бергсона не нова и отягчена даже военным прошлым. В агитационной лихорадке, охватившей стороны в 1914 году, обычно уравновешенного и мягкого Бергсона угораздило написать о немцах, как «варварах». На что «варвары», воздержавшись от брани, составили по его текстам сводку почти дословных воспроизведений немецких оригиналов, от Шеллинга и Шопенгауэра до менее известных Вильгельма Генриха Пройса и Карла Христиана Планка. (Случаю было угодно, чтобы точку в этой «войне философов» поставила группа немецких солдат в оккупированном Париже. Саша Гитри[85]85
Quatre ans d'occupations. Paris, 1947, p. 120 sq.
[Закрыть] рассказывает, что, когда престарелый философ вышел однажды из дому и собирался сесть в машину, находящиеся поблизости немецкие солдаты выстроились в ряд и отдали ему честь.) Нет сомнения, что центральные темы бергсоновской философии, от длительности до интуиции и Я, суть немецкие темы par excellence, не просто в том смысле, что их до Бергсона разрабатывали немецкие философы, но и по невозможности мыслить их иначе, чем в специфически немецком элементе эмпирики сверхчувственного. Наверное, Готфрид Бенн[86]86
GW, I, 411, Wiesbaden, 1959.
[Закрыть] оттого и дурачился, называя Гераклита первым немцем, Платона вторым, а вместе того и другого гегельянцами, что о таких вещах принято говорить в шутку. Шутка в том, что среди наследников усопшей схоластики не нашлось места немцам, зато нашлось французам и англичанам, которые с того и начали новый нулевой отсчет философии, что загнали её в тупики рационализма и эмпиризма, высокомерно потешаясь над Средними веками и не видя, насколько глубоко их контроверза застряла в старом споре об универсалиях. Немцы пришли позже, и, придя, сразу стали наводить порядок (Лейбниц vs. Ньютон, Кант vs. Юм); когда Шиллер в письме к Гёте от 19 января 1798 года называет «рациональный эмпиризм» единственным средством чистого познания, он оглашает задачу, над решением которой так или иначе билась вся немецкая мысль: от Экхарта и Парацельса до Э. фон Гартманна и феноменологов. Но чем же, если не парафразом «рационального эмпиризма», является бергсоновская «интеллектуальная симпатия», претендующая быть познанием абсолютного! И чем, если не рефлексом немецкого Werden, оказывается теория «длительности» Бергсона, в то время как его учение о Я на французский лад артикулирует эпохальные прорывы (и провалы) немецкой эгологии от Фихте до Гуссерля и Наторпа! Философия Бергсона, не сама по себе, а как встреча, разыгрывает историю Европы – в подлиннике, бледные и искаженные копии которого мы считываем с голов политиков, конспирологов и прочих интеллектуалов. Он защищал Францию, складки французской душевности, от надвигающегося катка Pax Britannica, но делал это преимущественно – немецкими средствами. Так, на уровне «глубинного Я» (le moi profond). «Поверхностное Я» (le moi superficiel) тем временем настолько же чуралось всего немецкого, насколько оно тянулось к английскому, из чего, скорее всего, можно было заключить, что в личной жизни философ и сам предпочел остаться при политических подделках собственного рискованного подлинника.

Ольга Чернышева. Теплоход «Дионисий», 2005.
Остается вопрос: чем могло бы всё это быть в русской рецепции? Допустив, что поверх пазлов философских отвлеченностей существует же и мир философской кармы. Понять и осмыслить встречу Бергсона с Россией, значит, по всей очевидности, расширить референциальное поле проблемы, прибавив к трем рассмотренным dramatis personae четвертую: русскую. Мы снова упираемся в старый наболевший пункт русская философия, за которым явно или неявно угадываются перспективы русских судеб. Можно ли говорить о русской философии, как говорят о философии греческой, немецкой, французской? То, что в России были философы европейского ранга, не подлежит никакому сомнению, и конгениальная рецепция Бергсона еще одно тому подтверждение. Но речь идет не о философах, а о философии: том самом платоновском топос ноэтос, в котором к философии причащаются, равняясь не на Достоевского (или, в ином раскладе, Стаханова), а на скучный и кропотливый studium generale.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































