Текст книги "Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008"
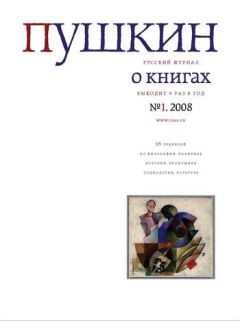
Автор книги: Журнал
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Действительно, сколько времени в своих «Семинарах» посвятил Ж, Лакан исследованию эдипизации западной культуры, Потом приходит черед книги Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения, Том 1» (1972 год),[62]62
Например, Адорно в отличие от Маркузе, инспектировавшего «коммуны свободной любви», принципиально не участвовал ни в студенческом движении, ни в политических демонстрациях. Франкфуртские студенты посчитали, что он отступил от тех идеалов «борьбы», которые сам провозглашал, Б одном из интервью он попытался оправдаться: «Я только создал теоретическую модель мышления. Разве я мог предполагать, что люди захотят осуществить ее при помощи коктейля Молотова», Теоретический Эдип должен быть низвергнут восставшими детьми. Так, Адорно стал объектом студенческих провокаций. Одну из его лекций попытались сорвать студенческие радикалы. Подобная травля, вероятно, способствовала развитию сердечной болезни Адорно, Б августе 1969 года он умирает в швейцарской клинике.
[Закрыть] имевшей скандальный успех, И в этом нет ничего удивительного, если учесть воздействие идей психоанализа на практику психиатрической и психотерапевтической помощи в Европе и США, успешную институционализацию и достаточно быстрое освоение теоретического наследия психоанализа, Понадобилось всего полвека, Если объявляется, что пациент традиционного психоанализа «мертв» (а это всегда «маленький Эдип»), то тогда как да и кого психоанализировать? Психоанализ поддерживает институт господства традиционной семьи, Разве для психоанализа годен шизофреник (да и все глубокие психотики)? Но именно этот новый пациент объявляется величайшим героем будущего освобождения [63]63
Надо учитывать, что сильнейшее влияние на концепцию Делеза-Гваттари оказал постфрейдистский психоанализ, так называемый фрейдомарксизм (Б. Райх, Т. Рейк, Э. Фромм, М. Клейн) Особенно Райх: как создатель современной телесно ориентированной психотерапии, он видел в сексуальном освобождении («революции») основной импульс к мировому «здоровью» европейских народов. Недаром же, проницательные марксистские критики сразу узнали в «Анти-Эдипе» развернутую и более продвинутую модель фрейдомарксизма. Например, заимствование понятий энергия, поток, купирование, использование юнгианского термина «либидо» и т. п.
[Закрыть], Здесь не место подробно разбирать этот значительный, крайне авантюрный текст, текст-приключение, Цитатами из «Анти-Эдипа» можно было расписать улицы майского Парижа, Это текст – антикапиталистический, более того, асоциальный, экспериментальный, текст-провокация, текст-граффити, Как перевести весь опыт психоанализа с его чудовищной эдиповской догматикой на язык открытого опыта желания? Общая идеология Освобождения сближает позиции совершенно разных мыслителей: Сартра и Делеза и Гваттари, Райха и Лакана, Поражение майской революции закодировано в опыте делезовского желания, образами и концептами которого, к сожалению, нельзя разрушить даже столь эдипизированный современный капитализм…

C. М. Эйзенштейн. Рисунок. Публикуется впервые
Майская революция словно в кино прокручивается назад, чтобы вновь совершиться, но уже по воле большой теории: набросок плана тотальной деэдипизации общества.
Можно ли сказать, что революция 1968 года была изначально обречена на поражение и это закладывалось в базовые модели практически всех наиболее влиятельных тогда теорий «освобождения»? Никакой политики, никакого расчета или никакой установки на конечную цель – так можно понять основную идею теории Освобождения? Только сам бунт… взрыв ради взрыва, некий выброс неуправляемой социальной энергии?
Мне кажется, Красный май – это последняя революция в современной европейской истории, Есть два вида взрыва и они различаются как explosion и implosion: первый – взрыв открытый, когда все вокруг рушится и сметается с пути; второй – взрыв скрытый, похож на взрыв в рукавах угольной шахты: на поверхности ничего не видно, а под землей движет мощная взрывная волна, но поскольку препятствия на ее пути значительны, то она не производит заметных разрушений, зато все шахтовые крепления проверяются на прочность, Другое дело – большие землетрясения, Скрытый взрыв мы иногда называем реформами, Все острее чувство угрозы, и если ничего не делать, то что-то да произойдет… Поэтому процесс реформирования общества постоянен: нужно снимать напряжения, которые могут привести к массовому недовольству, «революционному взрыву», Взрыв открытый – демонстрация разрешения острой проблемы прямыми действиями, Так вот революция мая 1968 года – подобный взрыв: разом были поставлены под сомнение многие «завоевания» XIX века, Однако сами революционеры действовали по кальке предыдущего столетия: сначала сделаем, а потом посмотрим, Бунт ради бунта, Главное нанести удар – в этом видна стихийная логика интересов в «революциях» XIX столетия, которые оканчивались поражением, приносящим новую победу, Такие революции давали что-то новое, но не побеждали, Идеал революционного восстания недостижим; в конце пути, как всегда, разочарование, Те же стадии проходит и «революция» мая 1968 года: надежда, гнев, решимость не отступать, затем спад, отчаяние, и наконец, восстановление властями порядка, Контрреволюция лишь подтверждает желание революции завершиться.
Нельзя ли уточнить позицию французского интеллектуала после мая 1968 года, насколько она изменилась? Вот вы указали на одну группу мыслителей, которые заложили саму идею этого сартровского требования Невозможного, т. е. идею Освобождения. Но есть же и другая группа, и она явно придерживалась иных позиций…
Вы правы. Время после «мая 1968» – иное время. На первый план вышло поколение французских интеллектуалов, ориентированных на постструктуралистскую парадигму: Ж. Лакан, М. Бланшо, М. Фуко, П. Бурдье, Ж. Деррида, Ф. Лиотар, Ж. Делез, Ф. Гваттари, А. Бадью, Ж. Бодрийяр и мн. др. Целая плеяда влиятельных мыслителей, которые поставили своей целью извлечь теоретические уроки из опыта поражения революции мая 1968 года (многими из них, кстати, лично пережитого).
Первый урок: обществом не выучено никакого урока. Это событие остается в памяти левого сознания как поражение, но поражение, открывшее пути к новому более тщательному и всестороннему исследованию общества. Не «почему не удалось победить?», а «как вообще революция смогла состояться?» – вот что надо понять. Отказ от «революционной политики» в пользу радикализации мысли. После мая 1968 года началась другая революция – теоретическая. Если кто-то желает победы и готов к бунту, что за желание движет им (ответы Ж. Лакана); если кто-то отказывается от всякой революционной романтики в пользу комфорта и нормы, то, что такое потребитель – новый субъект посткапиталистического общества (ответы Ж. Бодрийяра).
И потом как это получилось, что власть так быстро консолидировалась, провела перегруппировку сил, и вот порядок восстановлен? Тема власти – особая: ее неуязвимость, неистощимость в домогательствах и уловках, способность возрождаться там, где, казалось, она более не в силах себя проявить. Прямо-таки социальный фантом. Несомненно, отсюда страх перед властью. Как следствие, вопрос, а что если власть «столь же многочисленна, как демоны» (Р. Барт). Настоящая кратофобия. Так власть лишается конкретных политико-классовых характеристик, и это уже не отдельная власть (партии, группы, института или класса). Власть предстает могущественной инстанцией социального опыта, своего рода «паразитом транссоциального организма». Что же позволяет власти «паразитировать» на свободной энергии общества? Власть не впереди, не перед нами, а за спиной. Власть транзитивна, она повсюду – вот почему мы бессильны. Ведь сколько раз ее ни свергали, она остается, все та же тень великого Господина? Это вопрос, а ответы М. Фуко. В 1975 году он выпускает книгу «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы», в 1976 году «Воля к знанию. История сексуальности. Том 1». Фуко предлагает «свои» методы сопротивления власти, учитывая опыт, который ему был открыт майскими событиями 1968 года. И этот опыт подсказывает, что нужно занять радикально нейтральную позицию, отказываясь от участия в дискредитировавшей себя игре классовых и партийных интересов. Избегать вовлеченности в спор по поводу традиционных политических лозунгов: «свобода или господство», «либерализм или тоталитаризм», «право или закон» или еще более глобальных «социализм или капитализм»? Мыслить власть нужно не там, где она скрыта идеологическими, экономическими или юридическими масками, а там, где она исполняется: на заводе, в конторе, психиатрической клинике или тюрьме, в школе или полицейском участке. Вот что называется микрофизикой власти.
Второй урок: позиции интеллектуала в обществе должны быть пересмотрены. Традиционный интеллектуал – универсальный homme de lettres. Только к началу XX века он расстается с иллюзией принадлежности к «свободно парящему слою», freischwebende Schicht (К. Мангейма). Позиция Сартра, в частности, вполне соответствует такой установке: быть сознанием для других. За отставкой традиционного интеллектуала следует узкая специализация, охватывающая науки, в том числе гуманитарные. Появление же интеллектуала, «узкого специалиста», отмеченного еще Грамши в противостоянии «органическому интеллектуалу», традиционному, знаменует конец универсального гегелевского сознания. По мнению Фуко, интеллектуал сегодня больше не «рапсод вечного», а «стратег жизни и смерти». Политизировалось знание, которым он обладает. Старое право на манипуляцию частными истинами ради истины «единой» поставлено под сомнение: теперь тот, кто производит знание («истину»), в силах осуществлять политику этого знания (физик-ядерщик, программист, социолог, биолог или историк). Так, каждый ученый-специалист может осуществлять новую политику знания, не перепоручая ее институту, партии или отдельным политикам.
Не кажется ли вам, что на интерпретацию событий мая 1968 года оказали и продолжают оказывать сильное влияние возможности, открывшиеся с развитием массмедийного пространства в западном обществе 1980–1990-х годов? Современное общество чрезмерно событийно, переполнено «случившимся» и «ожидаемым», но также и чрезмерно раздроблено, фрагментировано, хаотично. Утратив единый центр и общее идейное наследие группы интеллектуалов сами разделились на фронты, лагеря, направления, группы влияния и «группки». Вопрос такой: не возникла ли как раз в эти годы, после мая 1968 года, особая власть французской авангардной философии, кстати, не она ли принесла мировую славу французской культуре в 1980–1990-х годов?
Ваш вопрос можно отнести к третьему уроку. Действительно, в течение десятка лет университетская номенклатура утрачивает культурный и социальный престиж. В центре массмедийного интереса не фигура профессора (даже «воинствующего»), а некий триединый образ: издатель-журналист-редактор (менеджер, продюсер и др.). Передача функций завершается, появляется специализированный посредник по доводке факта культуры до уровня события, фигура «ходатая потребления» (выражение Р. Дебре). Формируется образ философа-авангардиста. В многочисленный интервью, беседах на радио и телевидении, дискуссиях, высказываниях и комментариях, публикациях в прессе принимают активное участие многие известные интеллектуалы (чаще других М. Фуко, П. Бурдье, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Р. Барт). Они становятся профессионалами массмедиа. Портреты духовных гуру чуть ли не ежедневно появляются на страницах популярных изданий. Появляется фигура публичного философа, участника дебатов на телевидении, участника всех «мировых событий», создателя лекционных курсов, с которыми он колесит по миру. И не только. А интенсивность письма, – нельзя забывать и о таком факторе. Создавать книги на одном дыхании, формировать идеи и издательские позиции. Подпись автора сразу же получает прибавочную стоимость. Все пишут обо всем, все можно говорить, и говорят – слово обесценивается в борьбе за признание. Не писать, писать – это слишком обязывает, слишком замедляет, слишком напоминает авторское усилие, веру в знание. Лучше говорить или, точнее, писать, как говоришь. И вот публикации движутся все более ускоренным потоком. Живопись, кинематограф, фотография, мода, археология культуры, психоанализ, литература и философия, лингвистика и семиотика – больше нет границ. Дисциплины и жанры теперь не замкнутые и охраняемые территории, они смешались. Гениальность дилетанта приветствуется. Разворачивается великая битва за прижизненное признание, нельзя стать забытым сегодня, нужно досаждать, атаковать, оказываться рядом с событием, по возможности создавать его. Развивается чувство успеха на интеллектуальном рынке, разрыв с университетскими традициями знания все более углубляется. Другими словами, мыслить сегодня – это так или иначе участвовать в массмедийной культуре событий каждого дня.
Насколько актуальна сегодня революционность идей 1968 года? Можно ли ожидать в XXI веке чего-то подобного, если не повторения, то во всяком случае предстающего в качестве реальной угрозы мирового порядка?
Не думаю. Слишком много иных угроз…
Когда перечитываешь сводки с «военных» действий далекого от нас мая 1968 года, удивляешься поразительной активности студенческой массы. Практически на каждое действие властей тут же находится ответ. Как будто отдельный этап схватки имеет бесконечный ресурс. И все же только часть революционной энергии была освоена обществом. Другая не менее важная работа – это переосмысление того, что случилось. Такая работа была проделана европейскими интеллектуалами именно в 1970–1990-x годах. Возникли концепции, которые в конце концов обслуживали потребности и институты среднего класса. А средний класс ценит не практику освобождения, не революционные действия, а собственные права: право на свободу выбора, право на труд, право на то, что называется «достойной жизнью». Ему не нужно освобождение. Он ни от чего не хочет освобождаться, он хочет зарабатывать, потреблять, ездить на курорты, жить комфортно, получать удовольствие. Вот эту большую массу людей, получивших достаток и желающих покоя, не имеющих «убеждений», и ненавидят люди XIX века – революционеры, создатели новых миров («ситуационисты», «троцкисты», «анархосиндикалисты», «маоисты», «марксисты-ленинцы» и пр.). Они атакуют. «Мировая левая лига» отчаянно нападает на позиции среднего класса, ставшего центром стабилизации западного общества. Средний класс планирует будущее, его идеология подтверждает ценности прошлого (традиции, привычки, наследия), настоящее для него – не все время, а посредник, темпоральный центр переходов. Для акционистских группировок, напротив, только настоящее имеет ценность, причем ценность будущего. Управлять будущим легко, надо взорвать настоящее.
СРЕДНИЙ КЛАСС ЦЕНИТ НЕ ПРАКТИКУ ОСВОБОЖДЕНИЯ, НЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, А СОБСТВЕННЫЕ ПРАВА
Некогда один из интеллектуальных лидеров Красных бригад А. Негри публикует с М. Хардтом, учеником Фр. Джеймисона, книгу «Империя» (политический бестселлер, имевший шумный успех). Попытка разыграть карту «мая 68», вернуться к идеологии освобождения в связи с новым этапом кризиса капитализма. Распад Советского Союза, новая ситуация в мировой геополитике: вместо противостояния двух сверхдержав – США и СССР – осталась одна, американская. Надежда на революцию времени X возвращается вместе с идеей империи. Империя и революция оказываются неразделимы. Те же антиглобалисты действуют как новые революционеры: они что-то демонстрируют, чему-то сопротивляются, кого-то провоцируют, «взрывают» ситуацию, ставят проблему, атакуют полицию и «новый капитализм»… Но если вы спросите, а что за этим, они ничего вам не скажут. Они просто уверены в том, что общество, которое они атакуют, настолько крепко и настолько готово все выдержать, что эти демонстрации – вовсе не какие-то тяжелые удары, а своего рода пощечины. Слегка встряхнуть, ничего не разрушая. Это способ взбодрить общество, чтобы оно решилось что-то подправить. Антиглобалисты стали частью процесса реформирования капитализма, кому-то из «нетерпеливых» это покажется поражением.
Но, вероятно, есть и противники мая 1968 года, не все же посчитали столь серьезное потрясение устоев государства всеобщим благом?
Конечно. Надо признать, что «левая» мысль в лице великих мэтров постепенно теряет свое «революционное» влияние, особенно в конце 1990х годов. Но уже много ранее, в постреволюционное время сформировался антидискурс мая-68, который в лице Р. Дебре и прежде всего Р. Арона активно заявил о своих позициях.[64]64
S. Audier. La pensée anti-68. Essai sur une restauration intellectuelle. Paris: Éditions la découverte, 2008.
[Закрыть] Я бы назвал его контрреволюционным, хотя это и не точно. Ожидаемая точка зрения была высказана Дебре в одном из его политических памфлетов: он увидел в революции мая 1968 года начало американизации французского общества. Довод его весьма простой и совпадает во многом с исследовательской программой Ж. Бодрийяра.[65]65
См.: Ж. Бодрийяр. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика, культурная революция, 2006.
[Закрыть] Майская революция была частью мирового американского экспорта рынка «контркультуры»: длинные волосы, унисекс, sensitivity training, признание прав гомосексуалов, непрямые методы обучения, антипсихиатрия, сексуальное воспитание, легализация порнографии и т. д. Итог – это утрата важнейших ценностей: идеи нации (в конечном счете – независимости) и идеи пролетариата (упразднение революционного горизонта французского общества).[66]66
S. Audier, La pensée anti-68, p. 100.
[Закрыть] Неоконсервативные тенденции в мировой политике 1970–1980-х годов постепенно вытеснили революционность 1960-х годов. А та философская критика, которая еще была в деле, потеряла ясно определенный адрес, обратная связь с обществом нарушилась, и так и не восстановилась – я имею в виду, конечно, ушедшую на покой идею «революционности масс».
ПОЛИТИКА
Раздор вокруг наследства[67]67
Специально для «Пушкина». Перевод Михаила Маяцкого.
[Закрыть]
Эманюэль Ландольт

Dldier Eribon. D'une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française. Paris: Léo Scheer 2007. 160 p.[68]68
Дидье Эрибон, О консервативной революции и ее воздействии на французских левых.
[Закрыть]
Книга Дидье Эрибона «О консервативной революции и ее воздействии на французских левых» сначала кажется (в своей невинно-белой обложке) очередной полемической – à la française – рентгенограм. мой французской социалистической партии, но вскоре выясняется, что ее ставка выше. Ставится вопрос о сохранении наследия французской мысли, утраченного где-то между двумя ключевыми датами: победой Ф. Миттерана на президентских выборах в 1981 году и поражением Л. Жоспена в 2002-м. Среди значимых элементов, которыми отмечена эта утрата, автор называет растущую пропасть между левыми интеллектуалами и социалистической партией: отказ Деррида поддержать Жоспена, разочарование Режи Дебрэ в своем министерском опыте, упреки Фуко в адрес соцпартии за утрату критического потенциала, демонстративный отказ левых социалистов поддержать Бурдьё в его попытках противопоставить беспределу рыночной экономики некое общеевропейское движение сопротивления. Смерть Бурдьё в 2001 году развязала языки целому хору критиков. Известно, что в последний период жизни Пьер Бурдьё особенно активно участвовал в политической борьбе в поддержку различных социальных и профсоюзных движений. Он стремился дать высказаться группам с самым низким символическим капиталом, чтобы левые научились не только править, но и прислушиваться к голосу этих движений. Такая позиция диктовалась, по Эрибону, пониманием, что «те дискурсы, которые якобы лишь описывают социальную реальность, на деле производят ее. Говорить – значит делать» (с. 13). Какой же была реальность, производимая дискурсом официальных левых?
Нужно сразу оговориться: то, что Дидье Эрибон справедливо называет консервативной революцией, имеет лишь отдаленное отношение к тому, что известно под этим именем в Германии (Юнгер, Шмитт). У него речь идет о радикальном сдвиге вправо центра тяжести французской интеллектуальной и политической жизни в 70-х – начале 80-х годов. Эрибон утверждает, что соцпартия оказалась больше всего затронута этой «революцией». Социалисты стали – вопреки своей изначальной природе и минимальному содержанию слова «социализм» – бизнесменами-управленцами, ориентированными на антисоциальный реформизм. Это логично привело к разрыву с радикальными левыми, на которых (а не на собственный новейший крен) соцпартия возложит вину за свое поражение. Торможение социальных реформ, обещанных кандидатом-социалистом еще в 1981 году, отчетливо заметно по полному безразличию к проблеме меньшинств, что для Эрибона выступает критерием тем более радикальным, что новый порядок оказывает в этой сфере наиболее ощутимое давление.
Одной из причин этого попятного движения, этой радикальной смены курса стала общая профессионализация партии. По пропасти, отделяющей новую экспертную элиту от социальных движений, «можно ясно судить о том, как трудно партии привлечь „меньшинства вне закона”» (с.62). Хуже того, консервативная революция предложила «интеллектуальное оправдание для устранения тех, кто претендует на позицию, статус, влияние» (с. 69). Поучительна история газеты «Либерасьон» (основанной, напомним, Сартром), Некогда оплот социальной критики, она стала образцово-показательным примером экономического конформизма. Ее покупка Ротшильдом знаменует собой установление неолиберального климата, со всеми вытекающими из него последствиями для медийной сферы. С точки зрения Эрибона, говорить приходится не только об экономическом, но и об идеологическом закрепощении: достаточно обратить внимание на то влияние, которое обретают в газете неоконсервативные think tanks, начиная с 1980-х годов (Фонд Сен-Симона, Клуб л'Орлож, Институт Раймона Арона, в котором важную роль играет Марсель Гоше). Назначение Пьера Розанваллона (высокопоставленного интеллектуала, члена соцпартии) заведующим рубрикой Идеи призвано обезопасить газету от влияния критических интеллектуалов, подобных Фуко и Бурдьё. Озабоченность газеты серьезностью своего имиджа видна по ее стремлению обращаться к власти и быть властью услышанной. На смену старому разделению общества на буржуазию и пролетариат пришла дряблая социалистическая утопия «совокупности индивидов, которым удобнее всего жить вместе» (с. 72). Эрибон выводит из новой пустой и опустошительной этики свое законченное мнение о состоявшейся смене вех, опираясь всё на тот же принцип Бурдьё: «Говорить – значит делать». Отнюдь не случайно из общего словоупотребления постепенно выветриваются собственно социальные характеристики: так, пролетарские геттоподобные пригороды с зашкаливающим уровнем безработицы превращаются на новоязе в «деликатный квартал» (quartier sensible). Невинная политкорректность этой концептуальной революции должна окончательно упразднить вопрос об ответственности интеллектуальной элиты за либеральный поворот. Из политического словаря совершенно исчез целый ряд социологических категорий, разработанных в 60-е годы, и, соответственно и симметрично, понятия, некогда использовавшиеся только в языке политиков, стали единственными употребляемыми и стремятся теперь захватить и присвоить прежде чуждые смыслы.

С. Я. Адливанкин. Девушка и красноармеец, 1920-е
Мы стали свидетелями смещения целых тектонических плит, или, точнее, наползания правой плиты на области, еще недавно занятые левой. На арену вышло целое поколение реакционных интеллектуалов, преданных делу консервативной революции (Марсель Гоше, Франсуа Фюре, «новые философы»). Что говорят нам они? У адептов консервативной революции две основные мишени: 1) структурализм, отвергаемый с позиций некой философской и политической этики во имя восстановления «философии субъекта», единственно способной дать солидную основу подлинной политике (позиция, которую можно назвать канторуссоистской; мы еще к ней вернемся); 2) марксизм, этот враг прав человека, отождествляемый с коммунистическими режимами, особенно в трудах «новых философов», большая часть которых, напомним, имеет за плечами радикально-маоистское прошлое.
Общим знаменателем обоих этих элементов выступает отвержение наследия Мая-68. Для Эрибона нет неизбежной корреляции между реставрацией субъекта в гуманизме, уважительном к правам человека, и отказом от марксизма во всей его полноте, что доказывается хотя бы существованием фигур типа Анри Лефевра и Люсьена Гольдмана, которые отказывались от структурализма в пользу гуманистического и демократического марксизма. Поэтому следует видеть в этой демарксизации левых смену вех, а именно реальную переориентацию на рыночные ценности в духе компромиссной социал-демократии. Эрибон считает, что подробно освещаемая в прессе новейшая критика французской мысли 60-х годов есть лишь дымовая завеса, призванная скрыть новое смещение консенсуса вправо. Приписывать же структурализму «тоталитарный антигуманизм» и даже «варварство» означает полностью извращать дебаты о «гуманизме» 40-летней давности: понять смысл альтюссеровского теоретического антигуманизма можно только в ключе нового прочтения Маркса, отбрасывавшего тогдашние абстрактно-гуманистические (в том числе и советские) его толкования.
Существовали, согласно автору, и другие параллельные традиции, прочно укорененные во французском интеллектуальном пейзаже, как, например, персонализм, консолидировавшийся вокруг католического журнала «Эспри» (Рикёр, Мунье). Он четко дистанцировался от господствующего ницше-хайдеггеро-виталистского тона и опирался на католическое наследие, по возможности очищенное от допотопного консерватизма. Он ставил во главу угла личность и этику и провозглашал прочную структурную связь личного начала с сообществом коммунитарным.
Эрибон пытается выявить подлинные мотивы нападок новых консерваторов на то, что они называют «теориями подозрения». Их целью является «отбросить, как старый скарб, всякий детерминизм (имеются в виду любые теоретические попытки найти объяснения поведению индивида помимо и по ту сторону тех резонов, которые он дает сам себе) и… вернуться к политической философии, провозглашающей свободу агентов» (с. 111). Избавившись от бремени социальных вопросов, новые проповедники испытали острую нужду в философской подпорке, которая и обнаружилась в лице Канта и Руссо. Уже в своей книге «Прошлое одной иллюзии» Франсуа Фюре призывал вернуться к Канту, столь актуальному «в мире, лишенного любого референта, помимо рациональной деятельности субъекта». Возвращение к субъективной автономии, возвещающее окончательное примирение с субъектом, опирается на определенную идею просвещенного разума и индивида-гражданина, свободно отчуждающего свою свободу в пользу политической власти, «в которой он видит представителя Всеобщей Воли». Освобожденная от социального детерминизма, субъективность «этой деисторизированной фикции представляет собой не что иное, как добровольное подчинение под видом рационального выбора» (с. 113). Упразднение социального и институционального измерения означает в конечном итоге отказ от малейших поползновений на протест, что вполне вписывается в радужную перспективу, рисуемую неоконсервативными американскими think tanks. Но оно идеально созвучно и канто-руссоизму, не предусматривающему никакого пространства для меньшинств, никакой параллельной или гетерогенной конструкции, ибо любой интерес может найти оправдание исключительно перед лицом единой верховной и гомогенной власти, только если получает априорное одобрение в рамках Всеобщего интереса и – удушающего – Всеобщего блага. Не случайно Марсель Гоше в своей книге «Демократия против самой себя» высказывает озабоченность множеством расплодившихся «миноритарных» претензий, вредящих общему благу. Тем самым он фактически выступает за возврат к гомогенному национальному блоку как коллективному синтезу индивидов. В его границах невозможно будет поднять отдельный и независимый от других голос, чтобы гневный хор не обрушился на тебя как на опасного бунтаря.
Сохранение наследия семидесятых годов необходимо, если мы хотим, чтобы социальные движения и миноритарные субъективности продолжили существование в форме новой демократической этики и политики. Автор поясняет: тот общественный идеал, который лишь исподволь вырисовывается за вечным критическим «перечнем причин» (и слабость которого, может быть, отчасти объясняется этой «замаскированностью»), состоит не в слиянии общего интереса с трансцендентальным суверенитетом государства, а в априорном признании со стороны государства любых индивидуальных интересов, даже если они не согласуются с нынешней политической догмой. В этой позиции, пропитанной ностальгией по великим революционным канунам, прочитывается желание опробовать иные категории, чтобы обозначить возврат к определенной форме политической имманентности, которая должна отныне принять форму многообразия субъективных воль коллективов и меньшинств. Эта имманентность, на которую автор взирает взглядом меланхолическим и даже растроганным, предполагает смягчение госконтроля и признание принципиально непредвиденного характера результатов этой мобилизации (например, «изобретение» новых прав).
Автора можно упрекнуть в том, что он видит смену парадигмы только в сфере микрополитики, тогда как очевидно, что изменилась глобальная форма – не только дискурс агентов, но и экономические механизмы. Но он не занимается (или дает заняться другим) оценкой и анализом радикальных экономических мутаций.
Для Дидье Эрибона принципиальным представляется сохранение тесной связи с критической мыслью предыдущего поколения. Наследие это неоспоримо, однако вовсе не вневременно. Законсервировать его в прежнем виде означает признать, что оно не вписалось во французский интеллектуально-медиатический пейзаж и залегло в ожидании лучших времен на анонимных задворках. Отбросить его означало бы признать правоту за консервативной революцией. Эрибону критическое наследие представляется достаточным, если знать, что из него взять: «Я уверен, что только существование и утверждение с новой силой, говоря словами Бурдьё, либертарной левой традиции (т. е. традиции, развивающейся во внепартийной форме) и, как сказал бы Фуко, тоху-вабоху (т. е. беспорядочного множества движений, культурных политик, типов социальной мобилизации) могут привести к глобальным переменам не только у левых, но и во всем обществе» (с. 155).
Мрачноватое воодушевление, испытываемое при чтении этой проницательной фрески, не отменяет некоторого скепсиса по поводу пред(по)лагаемых способов гармонического примирения разнообразных мобилизаций (их политическая природа остается неизвестной, но о выборе можно догадаться: рабочие, гомосексуалы…) с новым консервативным порядком. Эта политическая семиология отдает тем несколько ностальгически-наивным духом, от которого не свободны иногда работы Бадью, и который отсылает, скорее, к радикалам, скандирующим имя Великого Кормчего, чем к новой политической этике. Священная и не подвластная времени фигура активиста (militant) вписывается в эту картину только благодаря ее абстрактности и полной непригодности ее словаря.
ДИДЬЕ ЭРИБОН – УЧЕНИК И СОРАТНИК П. БУРДЬЁ И Ж. ДЕРРИДА. ПОСЛЕ ДВУХ КНИГ ИНТЕРВЬЮ С К. ЛЕВИСТРОССОМ И Ж. ДЮМЕЗИЛЕМ НАПИСАЛ БИОГРАФИЮ МИШЕЛЯ ФУКО (ПЕРЕВЕДЕНА НА НЕСКОЛЬКО ЯЗЫКОВ) И РЯД РАБОТ О ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТИ. ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ АВТОРОВ ПО ТЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































