Текст книги "Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008"
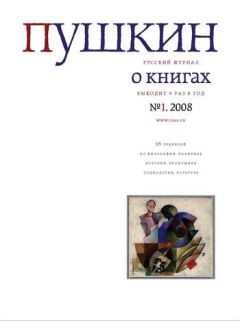
Автор книги: Журнал
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
СОЦИОЛОГИЯ
Научная теория забвения: Почему мой дед не помнит своего деда?
Екатерина Рослякова
Человек, который помнит то, чего не помнят другие, походит на человека, который видит то, чего другие не видят, В известном отношении он страдает галлюцинациями и производит неприятное впечатление на окружающих.
М. Хальбвакс. Социальные рамки памяти

Морис Хальбвакс. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007. 348 с.
Коллективное бессознательное
Мы едва ли отдаем себе отчет в том, что именно позволяет нам помнить прошлое, завершившееся до нашего рождения, и заставляет забывать о событиях, в которых мы участвовали лично.
Первым ученым, обратившим внимание на то, что индивидуальная память почти всегда опирается на память других людей, стал французский социолог Морис Хальбвакс (1877–1945). До 2000 года, когда вышел сборник статей Хальбвакса на русском языке «Социальные классы и морфология», имя французского классика было практически неизвестно большинству отечественных социологов. И вот не так давно появился долгожданный перевод классической монографии «Социальные рамки памяти», самой ранней из написанных М. Хальбваксом книг, посвященных проблемам совместной памяти (коммеморации).[97]97
Две другие это «Легендарная евангельская топография Святой Земли», изданная в 1941 году и «Коллективная память» увидевшая свет уже после смерти Хальб-вакса, в 1950 году.
[Закрыть]
В 1920-е годы, когда создавались «Социальные рамки», мысль о том, что помимо индивидуальной памяти может быть память еще какая-то коллективная, казалась нелепостью. Конечно, при желании, любой человек может разделить свои воспоминания на два типа: воспоминания о самом себе и воспоминания о событиях, в которых участвовало много людей. Однако и в первом, и во втором случае вспоминает все равно отдельный человек. Как же возможна коллективная память? Коллективное прорывается в опыт индивида в виде социальной рамки, которая и ограничивает сферу опыта, и придает ему форму, позволяющую удерживать пережитое. Социальный характер присущ языку, в котором мы выражаем наши воспоминания, а также категориям восприятия и оценки, придающим смысл тому, что мы помним. Согласно М. Хальбваксу, наше индивидуальное мышление способно к воспоминанию лишь постольку, поскольку оно «заключено в социальных рамках и участвует в коллективной памяти» (с. 29).
Своей теорией, сближающейся с системой Э. Дюркгейма, он опровергал взгляды модных тогда Фрейда и Бергсона. И тот и другой утверждали, что прошлое остается в памяти в целостном и неизменном виде на всю жизнь. Вопреки им, М. Хальбвакс заявил, что прошлое не сохраняется само по себе. В памяти остается только то, что востребовано в социальной коммуникации. Прошлое создается нашим усилием помнить. При этом в процессе воспоминания чело век не извлекает готовое прошлое, а воссоздает его заново из фрагментов впечатлений. М. Хальбвакс показал, что востребованное прошлое неосознанно переписывается каждый раз, когда мы к нему обращаемся. Это происходит потому, что меняются социальные рамки нашего мышления и восприятия.
Коллективная память семьи
Если у нас есть возможность сравнить свои давние впечатления с дневниковой записью, легко заметить, как изменилась наша память о событии. Но очень часто единственное, чем мы располагаем – это живые воспоминания. Для ребенка живая память близких родственников – главный источник, из которого он приобщается к коллективному восприятию прошлого. По сути, все время до нашего рождения, точнее, до тех пор пока мы не начнем себя сознавать – это мифологическое время, время, о котором мы ничего не можем узнать сами, отчего вынуждены опираться на знание других.
Сегодня исследователи выделяют различные типы коллективной памяти. Так, немецкий исследователь Ян Ассман различает коммуникативную и культурную память, которые выполняют разные социальные функции. Коммуникативная память – это живая память об относительно недавнем прошлом группы, а культурная – память о символическом истоке группы, опирающаяся на письменность. Применяя эту схему, можно сказать, что семейная память – не модель коллективной памяти вообще, а пример коллективной памяти коммуникативного типа.
Каждый может убедиться на своем собственном опыте, что глубина знания семейной истории в огромной степени зависит от того, насколько конфликтными были отношения между различными поколениями родственников до нашего рождения и насколько тесным было общение со старшими родственниками. Память создается в процессе коммуникации и есть тысяча причин, чтобы эта коммуникация не состоялась или оказалась неудачной. Не сложились отношения – и все фотографии, письма и дневники умершего человека в первую генеральную уборку отправляются в лучшем случае на чердак, в худшем – в мусорную корзину. Лишиться старых фотографий вроде бы жалко, но и хранить их нет смысла: сами по себе они ни о чем не говорят. Вслед за М. Хальбваксом можно констатировать, что не сложилась социальная рамка, которая помогла бы собрать все эти еще теплые человеческие свидетельства в осмысленную картину.
Помимо проблем внутрисемейной коммуникации к исчезновению памяти о прошлом ведет и коренная ломка всего социального уклада жизни. «Порой стоит нам сменить место жительства, профессию, перейти из одной семьи в другую, стоит какому-то великому событию – войне, революции – глубоко изменить окружающую нас социальную среду, как у нас остается лишь очень мало воспоминаний о целых периодах нашего прошлого» (с. 53).
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ ВЕСЬМА ПРИЧУДЛИВО ОТБИРАЕТ СОБЫТИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Коллективная память весьма причудливо отбирает события, предназначенные для хранения. Разница между тем, что, казалось бы, должно быть за-, помнено, и тем, что запомнено в действительности, весьма велика. Обескураживающий пример непостижимой логики коллективной памяти можно обнаружить в исследовании американских социологов, проведенном в нашей стране в 1994 году.[98]98
Говард Шуман, Эмми Д. Корнинг. Коллективное знание об общественно значимых событиях // Отечественные записки, 2005, № 2–3 (40–41).
[Закрыть] Они попытались выяснить, насколько хорошо люди помнят события советской истории, происходившие в 1937–1968 годах.
Как им казалось, они выбрали 9 всем известных исторических меток: «ежовщину», «Дело врачей», кампанию по освоению целинных земель, XX съезд КПСС Коллективная память весьма причудливо отбирает, собаку Лайку, кубинский ракетный кризис, «Один день Ивана Денисовича», Пражскую весну и Катю Лычеву. Оказалось, что из всего вышеприведенного самый сильный след в коллективной памяти оставила собака Лайка, побывавшая в космосе (дать правильное объяснение смогли 90% всех опрошенных) и компания по освоению целинных земель (84% правильных ответов).
Различие культурных кодов у поколений отцов и детей, бабушек и внуков может сегодня разниться настолько, что передать опыт предшествующих поколений становится невозможно. Он не конвертируется в ценности настоящего и не выразим на языке, которым мы сегодня пользуемся. Несовпадение ценностных систем приводит к тому, что передавать нечего и некому. Мне самой довелось это почувствовать, когда в порыве увлечения семейной историей я взялась расспрашивать деда.
Совершенно неожиданно выяснилось, что дед ничего не знает о своих дедушках и бабушках. Он не просто не знает каких-либо историй, но даже не помнит их имен-отчеств. И не потому что у него плохая память (память у него, как раз, отличная), а потому что «эти детали» никогда не имели для него значения. Это обозначило огромный зазор между тем, что хотел бы передать он, и тем, что хотела бы узнать от него я.
Нащупывая что-то взаимно нам интересное, я пыталась зацепиться за какую-нибудь повседневную деталь: «Дед, а скажи, какие пироги пекла твоя мама, с какими начинками?» Ответы деда меня обескураживали: «Да не было никаких пирогов с начинками! Не было. Мама хлеб пекла, ржаной, в русской печи. Очень вкусный». «Хлеб? Всего лишь черный хлеб?!»
Для меня это был такой же признак убогой жизни, как для моего сына отсутствие PSP в СССР. Ну и история! Какая-то куцая и бессодержательная. Что здесь помнить-то? Ни ярких образов, ни четких фактов. В своем стремлении получить хотя бы общий каркас для реконструкции прошлого, я натолкнулась на сильное раздражение: «Какого года рождения мой дед? Какого года рождения мой прадед? Я этими вопросами не задавался. Они абсолютно ни к чему! Это сейчас вот для того, чтобы как-то отвлечь народ от проблем, от плохой жизни… вот это самое… Корни! Родословная! Как у этого, режиссера Михалкова… У крестьян родословная: земля, пахота, скотина!»
Культурная амнезия
На этом опыте я поняла, как недавнее прошлое проваливается в зазор между различными социальными рамками памяти. Расспросы людей из поколения моих дедушек и бабушек показали: горизонт их прошлого в большинстве случаев ограничивается поколением родителей. Иными словами, живая память охватывает прошлое всего двух поколений.
При этом этнологи указывают, что в бесписьменных обществах живая память, как правило, охватывает 3–4 поколения.[99]99
Ян Ассман пишет: «Все исследования „Oral History” подтверждают, что и в письменных обществах живая память охватывает не более 80 лет» (Я. Ассман. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской письменности и культуры, 2004. С. 54).
[Закрыть] Факт столь короткой коллективной памяти, характерный для рожденных в СССР, не объясняется тем, что 80% людей из поколения моих бабушек и дедушек были неграмотными крестьянами. После революции всех научили писать. XX век предоставил колоссальные технические возможности для фиксации опыта. Однако это не стало определяющим условием. Без социальной потребности в такой памяти технически средства сохранения свидетельств прошлого ничего не значат.
Сохранившиеся материальные следы прошлого не обеспечивают память сами по себе. Они важны в качестве средства припоминания. В этом звене происходят постоянные сбои. Сейчас мы не хотим помнить советское прошлое, и наши дети растут в ситуации культурной амнезии. Почти все советское прошлое, за редким исключением, на наших глазах проваливается в забвение. Отказавшись от наследия советской истории, мы упорно ищем какое-то иное, альтернативное и более фундаментальное прошлое, какой-то новый мифологический исток. «Реальная» история, та, что сделала нас такими, какие мы есть, никого не интересует.

Е. Г. Гуро. Натюрморт с голубыми чашками, [1920].
При этом структура нашей исторической памяти становится архаической (а была ли она когда-нибудь современной?). Это прекрасно описано Яном Вансиной в книге «Устная традиция»: «… Историческое сознание (речь идет о бесписьменных обществах – Е. Р.) работает только на двух уровнях: время истока и недавнее прошлое. Поскольку граница между ними продвигается вперед со сменой поколений, я назвал разверзающуюся между обоими уровнями пустоту „дрейфующей лакуной”».[100]100
Там же. С. 51.
[Закрыть] Иначе говоря, пустота между недавним прошлым и временем мифологического истока становится больше с каждым новым поколением. И если в советскую эпоху время истока имело конкретную дату – 7 ноября 1917 года, то сегодня, когда все советское «обнулилось», возникла острая потребность в новом символическом истоке, новой дате. Набирающее силу увлечение семейной историей свидетельствует: люди жадно ищут собственные дореволюционные корни. По-видимому, живой памяти советского общества, не суждено стать историей, а предназначено провалиться в «дрейфующую лакуну». Только свершится это не сейчас, а когда закончится коммуникативная память непосредственных участников событий.
Жизнь и смерть коллективной памяти
Морис Хальбвакс был первым, кто показал, как происходит стихийное социальное конструирование прошлого в устной коммуникации. Однако он был уверен, что в истории, зафиксированной на бумаге, все должно быть иначе. Он не сомневался в том, что профессионалы в состоянии очистить историю от коллективной памяти, сделав ее объективной и беспристрастной: «Всю массу событий можно собрать в единую картину только при условии, что события будут отделены от памяти групп, сохранивших воспоминание о них, что будут разорваны связи с духовной жизнью среды, где они происходили, что от них останется лишь хронологическая и пространственная схема» (с. 51).
Хальбвакс полагал, что живая историческая память противостоит истории. По его мнению, сфера деятельности историка начинается там, где прошлое перестает быть «обитаемым», то есть там, где на него «не претендует коллективная память живых групп». Задача историка, по мнению Хальбвакса – очистить историю от искажений, вносимых коллективной памятью.
Однако, как показывает опыт, профессиональное «очищение» исторической памяти ведет не к формированию объективной истории, а к утрате смысла исторического события и отчуждению от истории. Британский исследователь Дэвид Лоуэнталь прекрасно это продемонстрировал. Он сопоставил важнейшие труды по истории Великой Французской революции, созданные через 50, 100, 150 и 200 лет после этого памятного события. То, что писалось через 50 лет после революции, создавалось на окраинах живой памяти о событии, и историку Ж. Мишле больше всего хотелось воскресить в своем труде истинный дух революции. Через 100 лет историк А. Олар уже не собирался ничего воскрешать. К тому времени осталось желание почтить память революции, но не допустить ее повторения. А через 200 лет наступила полная смерть коммеморативной традиции и Ф. Фюре, вдохновленный археологическим подходом к истории М. Фуко, «возглавил» движение по деконструкции многообразных дискурсов революции, прибегая к различным стратегиям концептуализации отчужденного массива исторического знания.
Вера в то, что факты можно отделить от теории, а историю можно разделить на «события» и «память» можно считать позитивизмом чистой воды. Теперь нам известно, что факты не существуют отдельно от концептуальных каркасов, а события истории не имеют смысла вне социальных рамок памяти. Однако в эпоху Хальбвакса еще верили в существование объективной и беспристрастной истории, где, как в океане, сливаются реки частного, «субъективного» опыта. Сегодня проводится множество исследований, посвященных политике памяти. Нам подробно рассказывают о том, как нечто упорно замалчивается, а что-то другое, напротив, преувеличивается. Мы лишены надежды на «объективную» историю. Ее пишут и переписывают до тех пор, пока люди в состоянии чувствовать свою связь с прошлым.
Увы, превращение коллективной памяти в историю знаменует собой не начало «чистой», «беспристрастной», «объективной» Истории, а начало отчуждения человека от прошлого. Когда историю перестают переписывать, она теряет смысл и превращается в груду ничего не значащих артефактов. «Объективная» история – это предпоследняя стадия жизни коллективной памяти. Следующий этап – деконструкция коммеморативной традиции и забвение.
Ф. Фюре принадлежит любопытная мысль о том, что Французская революция в действительности закончилась лишь тогда, когда закончилась коммеморативная традиция якобинцев,[101]101
«Доказывая, что „Французская революция закончилась”, Фюре утверждал, что якобинская традиция французской революционной историографии завершила свой путь» (П. Х. Хаттон, История как искусство памяти. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 347).
[Закрыть] которая существовала целых 200 лет! Непохоже, что советское общество может рассчитывать на столь длительную живую память. Остается уповать на социальную память в пределах «культурной константы» устной традиции – 80 лет. Если принять точку зрения Ф. Фюре на то, что событие длится до тех пор, пока жива традиция понимания его смысла, и попробовать взглянуть на события советской истории, то что мы увидим? То, что, к примеру, Великая Отечественная война еще не закончилась. Это произойдет только к 80-летию Победы, в 2025 году. Вот тогда-то, после распада социальной памяти, и наступит время писать объективную историю. Тогда мы и узнаем, за что Красная Армия воевала в 1941–1945, чего это стоило, и кто в результате победил.
То же самое касается гибели СССР. Формально Союз распался в 1991 году. Но он не рухнул окончательно. Социальной памяти о советском обществе доживать еще 60 лет. До сих пор советское «общество продолжает излучать радиацию».[102]102
Наталия Козлова. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005. С. 10.
[Закрыть] И продолжает воспроизводиться, несмотря на желание поскорее его забыть.
Память тела или «русский адат»
Нам, «наследникам эпохи Просвещения», не сразу понятно, что в «Социальных рамках памяти» Хальбвакса речь идет только об одном виде памяти – вербальной репрезентации прошлого, воспоминании. Между тем существует и другой вид памяти – спонтанное воспроизведение. Если для первого вида памяти требуются сознательные усилия, то второй воспроизводится «сам собой». Можно ничего не знать о своих крестьянских корнях, не знать имен прабабок и прадедов, годов жизни и названия деревни, где они жили, и, тем не менее, в своей городской жизни воспроизводить их способ отношения к миру.
Пьер Бурдье назвал такой тип социальной памяти габитусом, Э. Лимонов, столкнувшись с этим феноменом в России, назвал его «русским адатом»: «Среди прочих поразительных открытий, которые я совершил в своей стране, меня поразило, помню, что по улицам русских городов по-прежнему бродят те же старики и старухи, типично русского патриархального вида, какими я их оставил здесь в 1974 году… По моим расчетам они должны были давно вымереть. Получалось, что все они ненормально долго живут и должно им быть лет по девяносто как минимум. Простая истина, что это не те старухи, а состарившиеся за годы моего отсутствия граждане России, которым было в момент моего отъезда по 50 лет, дошла до меня не сразу, только после того, как я съездил в Харьков и увидел своих родителей… Вот тогда до меня и дошло, что эстафета особого русского стариковства передаётся из поколения в поколение».[103]103
Э. Лимонов. «Другая Россия». http://www.litportal.ru/
[Закрыть]
Генеалогия вместо большой истории
Сегодня трудно избавиться от ощущения, что жизненный цикл коллективной памяти становится все короче. Настоящее слишком быстро превращается в объект археологии, совершенно чужого прошлого. Растущая социальная дифференциация делает существование более-менее широких социальных рамок памяти все менее распространенными и ведет к нарастающему беспамятству. Область понятного прошлого стремительно сокращается до локальной истории, краеведения, и все чаще перестает выходить за пределы отдельных этапов жизни индивида.
Артефакты отчужденной истории становятся все многочисленней, а обнаружить в них какой-нибудь смысл становится все сложнее. Объективированное прошлое на глазах превращается в мусор истории.
Пока продвинутые историки занимаются деконструкцией доставшихся в наследство коммеморативных традиций, а их более консервативные коллеги с маниакальным упорством устанавливают мельчайшие факты далекого прошлого, простые смертные пытаются обнаружить в прошлом смысл всеми доступными «антинаучными» средствами. Востребованным оказывается все: исторические реконструкции, антиквариат, Радзинский по телевизору и в книгах, ну и конечно, семейная история.
Заниматься генеалогией людей побуждает стремление к личной, наполненной смыслом истории, уходящей хотя бы на 100–150 лет в прошлое. Не исключено, что, в конце концов, массив респектабельной «единой» истории сохранится лишь в той степени, в которой его удастся приспособить для своих нужд бесчисленным семейным историкам и доморощенным генеалогам. В этом случае судьба пространственно-временного каркаса мировой истории – всего-навсего служить социальной рамкой для «оформления» памяти о членах семьи.
СОЦИОЛОГИЯ
Человек завидующий
Олег Игнатов

Гельмут Шёк. Зависть: Теория социального поведения / Под ред. Ю. Кузнецова. М.: ИРИСЭН, 2008. 544 c. (Серия: Социология)
Обращаясь к истории социальной мысли, Шёк приходит к примечательному выводу: феномен зависти почти не упоминался в классический век социологии. Современные социологи также оставляют его без внимания. Так, Дарендорф в своей социологии конфликта никак не учитывает зависть, словно бы последняя никогда не становится мотивом социальных конфликтов. В целом можно смело говорить о слепом пятне в современных науках о поведении. Исследователи избегают рассмотрения феномена и концепта зависти, зачастую прикрывая его различными эвфемизмами.
Причина такого умолчания состоит в том, что социология, как и другие науки об обществе, следует эгалитарному соблазну: большая часть проблем, с которыми имели и имеют дело социологи, теоретически могли бы быть решены только в обществе абсолютного равенства. Отсюда возникает превалирующий интерес социологии к моделям и программам общества абсолютного равенства, а в таком обществе, как имплицитно допускают социальные теоретики, по определению не может существовать зависти, потому что все равны и находятся в одинаковых условиях. Шёк называет причину подобного положения дел в социологии: „Утопическое стремление к эгалитарному обществу не могло возникнуть ни по какой другой причине, кроме неспособности разобраться со своей собственной завистью или предполагаемой завистью более бедных собратьев». Другими словами, социологи, отталкиваясь от возможности утопического проекта общества без зависти и ставя зависть исключительно в зависимость от наблюдаемого социального неравенства, просто «вытеснили» ее, исключили из поля своего исследовательского интереса.
В своей книге Шёк ставит амбициозную задачу: «разоблачить феномен зависти, как секс был разоблачен психоанализом». Он не считает зависть универсальным способом объяснения всего человеческого поведения, однако она может помочь понять большее число социальных явлений, чем готовы обычно допустить как обыватель, так и искушенный социальный теоретик.
Зависть относится к числу фундаментальных проблем человеческого существования. Человек – существо завистливое. Он потенциально завистлив по отношению к любым своим собратьям и чем ближе к ним находится, тем больше возрастает степень его зависти. Однако человек в то же время боится вызвать на себя зависть других. Человек завидует и боится чужой зависти.
Шёк определяет зависть как побуждение, некий внутренний импульс, который является центральным для человека как социального существа: «Зависть – это энергия, которая находится в центре жизни человека в качестве существа социального» (с. 13). Суть этого побуждения заключается в сравнении: зависть возникает тогда, когда индивид начинает сравнивать себя с другими.
Таким образом, зависть – это нередуцируемый психологический и социальный феномен, который предполагает социальный контекст, то есть сосуществование двух или более индивидов. Зависть универсальна для всех человеческих существ, укоренена в конституции человеческой природы и обнаруживается во всех эмпирически доступных обществах. Она не является результатом частных исторических условий и присутствует даже в сообществах, в которых нет больших различий в благосостоянии. Шёк приходит к заключению, что частота, направленность и интенсивность взаимной зависти имеют мало общего с реальным уровнем неравенства в обществе, а также с богатством и бедностью конкретного индивида. Этот вывод основательно подрывает эгалитарную догму, согласно которой зависть порождается текущими обстоятельствами и может быть устранена посредством избавления общества от социально-экономического неравенства. Поскольку зависть неотъемлема для человеческой природы, ее невозможно искоренить.
Одним из аргументов здесь становится обширный экскурс Шёка в антропологические исследования общества примитивных народов. Эти общества, лишенные сколько-нибудь существенного богатства и развитых представлений о частной собственности, буквально заражены завистью. В них завидуют всему, что можно посчитать малейшим личным преимуществом по отношению к другим: здоровью, физической привлекательности, экономическому благополучию, случайной удаче или успеху, ставшему результатом длительного и кропотливого труда, и т. д. Эти общества далеки от идеалов мирного и дружественного сосуществования необразованных и не стремящихся к стяжательству дикарей, которые рисовали в своем уме многие социальные теоретики. Примитивные общества полны взаимным подозрением и враждебностью, основой которых является зависть. Социальный успех здесь часто прямо приравнивается к предательству своей группы.
Шёк показывает, что зависть, институционализированная в местных традициях и социальных практиках, препятствует социальному продвижению и накоплению богатства в таких отсталых обществах. Успешные и богатые общества в этом смысле – это те общества, которым в значительной степени удалось зависть подавить.
Рассматривая зависть в примитивных обществах, Шёк также приходит к очень важному выводу: частная собственность возникает не как порождение зависти, на чем настаивают эгалитаристы, но как защита против нее, как необходимый защитный экран между людьми, отклоняющий зависть, которая в противном случае была бы направлена на самих людей.
При всей своей негативности и разрушительной силе зависть выполняет множество важнейших полезных функций, без которых не могло бы существовать ни одно успешное и большое человеческое сообщество. Способность человека быть членом устойчивых социальных образований находится в зависимости от практически неосознаваемого стремления завидовать всем тем, кто отклоняется от господствующей нормы. Если использовать кантианский язык, зависть является условием возможности социального взаимодействия. Шёк полагает, что «…существование крупных социальных групп с разделением труда между их членами стало возможно в той степени, в какой люди, исходя из предполагаемой зависти других, выработали способность к взаимному контролю» (с. 504). Зависть играет роль ограничителя, который необходим для человека как существа, переросшего уровень инстинктов и биологически детерминированного поведения, чтобы он мог нормально существовать в крупных социальных группах. Человеческие существа занимаются друг по отношению к другу спонтанным взаимным надзором или социальным контролем, который обязан своему существованию тому, что у всех людей есть латентная зависть. Так, например, она может стимулировать множество людей добровольно следить за попытками посягательств на чужую собственность просто потому, что они завидуют возможной добыче мошенника и грабителя. Люди по собственному желанию выполняют функции полиции лишь потому, что завидуют. Шёк приходит к заключению, что в обществе, в котором никому не нужно опасаться ничьей зависти, не могло бы существовать норм социального контроля, необходимых для его существования в качестве общества.
УСПЕШНЫЕ И БОГАТЫЕ ОБЩЕСТВА ЭТО ТЕ ОБЩЕСТВА, КОТОРЫМ УДАЛОСЬ ЗАВИСТЬ ПОДАВИТЬ
Кроме того, повсеместность зависти нарушает неограниченную монополию на власть и служит естественным препятствием для тирании. «Позитивная» функция зависти особенно заметна в сдерживании власти и безответственных привилегий. Шёк пишет, что «… господство или преобладание в обществе любой отдельно взятой группы потенциально ограничено взаимной завистью членов этой группы или их завистью к лидеру» (с. 497).

Ольга Чернышева. Серия «Жители», 2007.
Чрезмерная зависть, однако, ведет к определенным издержкам. Боязнь зависти других препятствует инновациям, успеху и достижениям. Меры, порожденные завистью или желанием умиротворить ее, такие как прогрессивное налогообложение, делают то же самое. Наибольшая опасность для общества возникает тогда, когда зависти или завистливому человеку удается в нем институализироваться посредством культурных традиции, социальных практик, законодательных мер, социально-экономических программ и т. д. Согласно Шёку, «для существования общества и обеспечения функционирования важнейших социальных процессов требуется наличие у членов этого общества очень небольшого количества зависти. Зависть сверх этого минимума является излишком, который социальная система способна „переварить”; он, однако, несомненно, приносит больше вреда, чем пользы с точки зрения потенциального развития и уровня жизни этого общества» (с. 493).
Таким образом, с точки зрения Шёка, зависть имеет две важные и, на первый взгляд, противоположные функции. Во-первых, зависть, обслуживая традицию, сдерживает или подавляет инновации, потому что потенциальные инноваторы сковываются соображениями зависти других. Общества, больные завистью, не терпят ничего нового, так новое порождает различия. Во-вторых, зависть служит мотивом для деструктивных процессов – революций, причем некоторые из них на деле являются лишь взрывами сдерживаемой длительное время зависти. Противоречие между «консервативной» и «революционной» функциями зависти устраняется, если интерпретировать традиционализм и революцию как два выражения одного и того же комплекса эмоций и установок, который лежит в их основании: оба они направлены против тех, кто превосходит других или имеет какие-либо отличия. Возмущающиеся инновациями и защищающие традиции от того, что не способны смириться с личными успехами инноватора, и обрушивающиеся на хранителей и представителей всех традиций, требуя их полного уничтожения, движимы одним и тем же мотивом: «Оба приходят в ярость от того, что другой имеет, знает, мыслит, ценит или способен сделать что-то, чего у них нет и обладание чем они не способны даже вообразить» (с. 495).
Следовательно, объединяющая общество культура должна достичь состояния некоторого равновесия в отношении зависти. Ей следует допускать достаточно зависти, чтобы обеспечить функционирование социального контроля, и подавлять зависть к некоторым личным достижениям и успехам, чтобы способствовать инновациям, от которых зависит хорошая адаптация общества к окружающей среде.
Культура вообще играет большую роль в подавлении зависти, и то, насколько эффективно она это делает, формирует ее преимущества в отношении других культур. Орудиями подавления в культуре, по мысли Шёка, являются, к примеру, религиозные представления (так, крайне успешно справляется с подавлением зависти кальвинистская доктрина предопределения), рационализации неравенства фортуны, которая благоволит человеку случайно и без всякого умысла (культивирование идеи удачи в культуре), или иные представления о различной степени везения, которые успокаивают совесть человека и обезоруживают его завистников. Все они позволяют индивиду пережить существующее в его сообществе неравенство. Шёк предлагает рассматривать религию как сумму идей, «направленных на освобождение завистника от зависти, а объект его зависти – от чувства вины и страха перед завистниками».
Американский экономист Мюррей Ротбард, отдавая дань заслугам Шёка, писал, что современное эгалитарное побуждение к социализму представляет собой не что иное, как пособничество зависти. Однако социалистическая попытка элиминировать зависть через эгалитаризм никогда не будет иметь успех, поскольку никогда не исчезнут персональные различия, такие как внешний вид, здоровье, природные способности, удача. Эти различия не сможет ликвидировать ни одна эгалитаристская программа по переустройству общества, сколь бы радикальной она ни была.
Шёк показывает, что зависть является мотивирующей силой, лежащей за различными разновидностями современного государства, основная функция которого состоит в перераспределении богатства от одних граждан к другим. В современном государстве существуют армии движимых завистью бюрократов, основная работа которых состоит в том, чтобы поставить предпринимателей на место и ограничить их возможности по достижению максимальной прибыли. Они стремятся замедлить экспансию бизнеса, потому что это позволит затормозить создание персонального богатства. Стремление государства к перераспределению при этом ставит своей целью не увеличение богатства, но его уменьшение, поскольку богатство создает различия, вызывающие зависть. Современное перераспределительное государство тем самым находится под контролем завидующих и испытывающих большой страх перед завистью. Хорошим примером попустительства и поощрения зависти являются развивающиеся страны, одним из ключевых факторов отставания которых в развитии (или вообще полного отсутствия развития) является «барьер зависти», или институционализированная зависть населения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































