Текст книги "Музей революции"
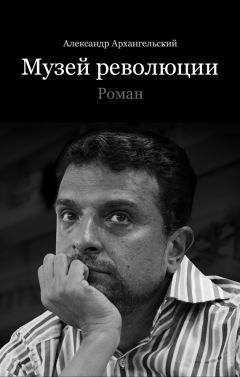
Автор книги: Александр Архангельский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
Теперь Иван Саркисович непроницаемо молчит. Ни приятия, ни отторжения. Стена. Слушает, не глядя в глаза, время от времени водит пальцем по экранчику, читает, морщится, опять чего-то пишет, сам себе под нос бормочет:
– Нет, что делают, мерзавцы?
И на слова директора не реагирует.
Обессилев, Шомер замолкает. Иван Саркисович кусает губы, демонстративно думает.
– Все сказали? Точно? Никаких капканов? Смотрите, если что не так, мы не забывчивы.
Кожа на его лице опять растягивается, нервным тиком отдается скрытый гнев.
– Да, это все, без утайки.
Иван Саркисович растягивает губы в подобие скептической улыбки.
– И что же, никакого личного интереса?
– Не очень понял?
Иван Саркисович снимает очки. Резко, с умыслом. Глаза у него размыто-голубые и мучнистые, на выкате, смотреть в них страшно. Говорит почти презрительно.
– Да все вы поняли.
Шомер, глядя собеседнику в плечо, бормочет:
– Мой интерес – какой? Я там директор, я там жизнь провел, мой долг…
Иван Саркисович вскидывает брови, отчего мучнистые глаза выходят из орбит, как при базедовой болезни.
– Хорошо, спрошу иначе. Вы там собственные бизнесы построили?
Ерзая, как на допросе, Шомер сопит. Чтоб тебе было пусто, чего ты в душу лезешь, можешь помочь – помоги, а не можешь – не мучай. Но деваться некуда, карты на стол.
– Построили.
– Какие?
Экий дотошный господин. И зачем ему мелкая сошка?
– Как сказать… гостиница, кафе… лошадков покататься… по мелочи, ничего такого…
– Да не прибедняйтесь, ладно вам.
– Но все налоги…
– Я же вам сказал, я не из этих, – говорит Иван Саркисович досадливо. – Мой вопрос другой: вы завязаны на деньги, лично?
Шомер, страдая, сдается:
– Завязан.
Собеседник бескорыстно веселеет:
– Вот об этом я и спрашивал. Мне ведь нужно что? чтобы вы не соскочили. И чтобы я не подставлялся. Личный интерес – надежная гарантия.
Неожиданно без стука входит человек – молодой, по шомеровским меркам просто мальчик, в черном костюме, черном галстуке, молочно-белой рубашке со скругленным воротом, на манжетах монограмма и литые запонки, в правой руке, как партийная черная папка, такой же экранчик в футляре.
Не обращая ни малейшего внимания на гостя, как собака серьезной породы на бобика, прямиком идет к начальнику, машет перед ним экранчиком и несет какую-то абракадабру:
– Иван Саркисович! Опять они по фейсу, в штыковую, надо срочно что-то делать, проиграем!
Начальник с непонятной злобной радостью глядит в экран, и командует на тайном языке:
– Сделай на фейсе пометку: «вне партий», точно говорю, скачком все вырастет!
Паренек налился радостью, как стосвечовая лампочка светом:
– Иван Саркисович, вы гений, понял!
И пулей высвистел из кабинета.
Начальник проводил его веселым детсадовским взглядом, повернулся к Шомеру – о, как же быстро этот человек меняется! Выражение лица опять высокомерно.
– Теперь еще один вопрос. Музеев как собак нерезаных, всех не поддержишь. Почему именно вам я должен помочь?
– Ну… как сказать… вы не должны, вы можете.
– Могу. Но вам-то – почему? Ведь вы мне совершенно не мешаете.
Шомер снова в тупике. Не знает, что ответить. И поэтому идет ва-банк:
– Но вы Святейшему поможете? Вы обещали? А ведь он вам не мешает?
Иван Саркисович держит театральную паузу, надевает очки и меняет гнев на милость. Дед его опять развеселил.
– Ох, Теодор Казимирович! Если бы вы только знали, как мешает… Ладно. Подумаем, что можно вытянуть из вашего сюжета. Вы же понимаете – я не про деньги. Если сочиним – займемся. И тогда я вас о чем-нибудь ответном попрошу…
Отвлекается, скорострельно пишет в экранчик – то ли письмо, то ли резолюцию – и завершает:
– С начальством вашим созвонюсь уже сегодня, попрошу слегка притормозить. Временно, Теодор Казимирович, временно! не обольщайтесь. Пока запустится серьезная машина. Или не запустится: увидим. Все ржавое, неповоротливое. Как сами-то оцениваете обстановку? Без подкрепления продержитесь? Месяцок-другой?
– Попробую.
– А как, без крови обойдетесь?
Он издевается? Да нет, выражение лица катастрофически серьезно.
Шомер отвечает с неохотой:
– Обойдемся.
– И славно.
Вторая глава
1Мышь забилась под горячую подвальную трубу. Смотрит, не мигая: черный кот растекся на подстилке, он безмятежен, но под тонким веком ходит глаз, по шерсти пробегают волны. Мышь знает, что не нужно шевелиться, кот учует ее сырный запах. Но дольше ей не выдержать. Отчаянно пискнув, мышь выскакивает из-под трубы и тут же чувствует, как в шею входят гладкие клыки, а хребет придавлен страшной лапой.
В глазах темнеет, но это еще не конец. Лапа вдруг мягчеет, смертельное удушье прекращается. Мышь делает проброс и снова забивается под жаркую трубу, терпит боль и безвольно дрожит. А кот самодовольно смотрит, придвинув морду и сияя беспощадными глазами.
Но внезапно раздается ржавый скрежет, в дверном проеме мышь видит лыжные ботинки с окантовкой и прямоугольными мысками.
Раздается мучительный чих, слышен сипловатый голос, как бы разъеденный насморком:
– А, вот ты где, отец Игумен, ну что, давай, попробуй.
На ободранный кусок фанеры валится еда; запах манит мышь, и в то же время почему-то кажется опасным. Кот забывает про удачную охоту и устремляется к пахучему куску. А мышь, не веря собственному счастью, продирается сквозь узкий лаз, вползает в нору, замирает.
2Шомер презирал сидячие дневные. Ездить он любил по-настоящему, как раньше: ночной состав, проводники в шинелях до полу, бордовых, с кучерявыми воротниками, накрахмаленное твердое белье, припахивающий содой чай в железном подстаканнике, ложка, звякающая о края стакана! А в сортире – непременно – умывальник из титанового сплава со стальной торчащей пимпой, на которую так неудобно и так приятно нажимать, набирая в ладони холодную воду.
Сегодня он первым вошел в туалет и налег на железную раму. Упрямое окошко приоткрылось, ветер пискнул, как котенок, которого пустили в теплую квартиру. Счастье приливало волнами, как в детстве, когда проснешься в полшестого и замираешь от предчувствия удачи. В туалете было идеально чисто, еще никто не наследил, в рукомойник не наплевано, на зеркале нет шрапнели белых брызг, запах льдистый и свежий. Порыкивая, как труба на репетиции, Шомер так растерся полотенцем в рубчик, что стал напоминать отпускника, обгоревшего на ветреном пляже.
За первым удовольствием он испытал второе: неправдоподобно ранний завтрак. Организм еще не разогрелся, желудочные соки не пошли. Но вкрутую сваренное яйцо, которое он очищал по-своему, катая по столу ладонью и в одно движение снимая тресканую скорлупу, пробуждало ненасытный аппетит. За упругим белком и рассыпчатым желтком последовал серьезный бутербродец с сыром, за бутербродом мандарин и крепкий чай…
Так незаметно пролетело время, и они подъехали к Московскому вокзалу; поезд по-пластунски прополз вдоль перрона; водитель Николай буравился сквозь выходящих пассажиров:
– С приездом, Федор Казимирыч!
– Приветствую. Какие пробки?
– Дорога чистая, домчим! Давайте чемодан. Ого, тяжелый!
– Ничего, мой друг, управишься. И трость возьми: она теперь без надобы.
3К сожалению, домчать не получилось. На заметенной трассе было скользко, вязко, под колесами вскипал размокший снег; их нагло обгоняли старенькие геленвагены, небрежно огибали бойкие девицы на своих незаслуженных лексусах. Водитель ворчал всю дорогу: говорил же, надо было покупать C-5, там подъемные рессоры, деньги те же, а с таким просветом по такому снегу…
Вскоре после поворота на Приютино вздорно буркнул телефон: тртр… тртр… тртр…
– Шомер на проводе. Слушаю.
– Теодор Казимирович, не отключайтесь, приемная Ивана Саркисовича, соединяю.
Он ожидал, что в трубке заиграет музыка, замурлычет Элтон Джон, но ничего подобного – никто от него не таился, было слышно, как Иван Саркисович сморкается, отдает попутные распоряжения (а не пойти ли ему… по шельфу совещание в четыре… нет, я же русским языком сказал, без Генштаба уже не получится) и сердито тарабанит по стеклу экранчика.
– Теодор Казимирович, вы здесь, не отключились? Короче, так. Я там вашему начальству объяснил, что дело хитрое, но потихонечку разрулим. И даже больше… но об этом после. Кстати, и у нас созрела просьба. Какая просьба? Ерундовая. Письмецо в газету написать. А? Что? Да не волнуйтесь. Мы тут сами набросаем, вам пришлют, просто пробежитесь по словам.
Говорил Иван Саркисович настолько бодро, что в животе у Шомера похолодело: Теодор, тебя назначили кабанчиком, поберегись, затворы взведены. Он человек не суеверный, но почему-то подумал с опаской, что сегодня понедельник, тринадцатое. А говорят, что совпадений не бывает.
Он ответил крайне осторожно:
– Да, Иван Саркисович, я благодарен вам, вы просто не представляете, как благодарен, а все-таки, о чем письмо?
Благоволящий голос приобрел стальные нотки.
– О чем письмо, говорите? Хороший вопрос. Так, о всяком разном. Например, о том, что нужно родину любить. А кто не любит родину, тот нехороший. Или вы считаете, что родину любить не нужно? Что? не считаете? И славно. Но у нас свободная страна, а вы свободный человек. До вечера есть время, решите, вы готовы поучаствовать в нашем проекте, или нет.
Тон был непреклонный и почти диктаторский, но Теодору почему-то показалось, что его далекий собеседник говорит сейчас не то, что думает, и недоволен тем, что должен делать.
– Конечно, Иван Саркисович, я понимаю. Я скорей для порядка спросил, – стал оправдываться Теодор, слегка презирая себя. – А не удалось узнать, кто стоит за безобразием?
– За девками? Пока не знаем.
– Нет, я про наше безобразие; я про усадьбу.
Иван Саркисович стал вельможно далеким и ответом на вопрос не удостоил.
– Значит, я жду до непозднего вечера. Как только доберетесь до компьютера, залезьте в почту, там будет текст письма. Сразу подтвердите получение.
Гудки.
4Не доезжая до ворот усадьбы, Шомер велит тормознуть. Откупоривает дверцу, тяжело вываливает собственное тело. И долго, настойчиво дышит, подставив лицо под весеннее солнце. Он обожает сиреневый март. Сугробы запаяны в корку, воздух светится, пахнет талой водой. Тревога начинает пригасать, можно спокойно подумать, осторожно взвесить за и против… Он всю жизнь увиливал и ускользал. Власти приходят, власти уходят, а любимый музей остается; главное, не вляпаться в историю. Во времена обкома их вызывали в Долгород телефонограммой, сажали за длинный полированный стол и долго-долго шелестели о предательстве отдельных ренегатов; директора не поднимали глаз, изучая отражения в столешнице. А на следующий день старались лечь в больницу или предъявляли траурную телеграмму и уезжали хоронить далекую родню. Иванцов демонстративно отправлялся в бутербродную, заказывал обжаренных пельменей и пил, пока его не выносили. В перестройку вышло послабление; лишь когда «Советская Россия» напечатала письмо Андреевой, их собрали и велели отозваться сердцем, но через две недели «Правда» поместила резкое опровержение и Нина Андреева стала плохой. И вот опять. Как будто ничего не изменилось.
И главное, больницей не отделаться… Наверное, он должен действовать уклончиво. Напишет вязкое письмо Иван Саркисычу, так и так, мол, всей душой и все такое, но есть музейная среда, интеллигенты, сами понимаете, а мне потом с ними работать. А? батюшка любимый государь, ослобони. Люди же они, в конце концов. А потом пойдет, согреет баню, Желванцов потрясет над ним жестоким веником, сбрызнет с листьев горячие капли, как будто протыкая спину раскаленными гвоздями, и будет легкость, прохлада и чай с чабрецом.
Он пересекает гостиничный двор; машина по-собачьи преданно ползет за ним на брюхе. Привычным взглядом отмечает просчеты. Крышка мусорного бака подвязана кухонным полотенцем, как челюсть покойника. Отдыхающий бросил серебристый джип поперек пожарного выезда. Мы что же, хотим выездную инспекцию? Мы нарываемся на штраф? А главное, дорога не расчищена – и на ней оставили следы перепончатые лапы экскаватора.
Стоп-стоп-стоп. Следы?! Шомер замирает, как в игре «умри-воскресни».
Что это значит? Что строители ушли, не попрощавшись? Исполнение желаний – началось? Уже? Вот тебе и чертов понедельник! И такое счастье озаряет Теодора, что он пытается взлететь по лестнице, перескакивая через две ступени. Энергия космического запуска, восторг полученного аттестата, первое признание в любви! Но ершистый половик при входе закреплен халтурно; он предательски уходит из-под ног. Шомера заносит, дедушка по-бабьи вскидывает руки и позорно шмякается задом. Ай-ай-ай! Как больно! Только не бедро! Не старческий провал из-за наркоза! Стыдоба.
Он заставляет себя энергично подняться, сжимает зубы, широко распахивает дверь. Перед глазами – бегают мурашки, радужные, влажные, как будто лопнуло стекло, и по сколам стекает вода. Он щурится, наводит фокус. Кто там, возле больничного фикуса? Желванцов. Притворяется, что не заметил.
– Здравствуйте, мой дорогой, – как можно вольготней произносит Шомер. – Справляетесь? Что нового.
Боль продолжает ввинчиваться штопором; терпение, терпение, терпение.
Желванцову некуда деваться, он ведь мужчина и зам. Делает полшага навстречу, опускает голову, как первоклассник у доски, и предельно осторожно сообщает:
– Теодор Казимирыч, кошмар.
5Накануне вечером отец Борис служил в полнейшем одиночестве. Если не считать Тамару, которая стояла столбиком перед амвоном, смотрела ровным взглядом незамужней женщины, и строго пела, заменяя хор, чтеца и паству. Узнав о предстоящей передаче храма, музейщицы на них обиделись – и перестали появляться, деревенских в церковь не заманишь (а когда приходят, кто перед крестинами, кто на сорок дней, то могут громко оборвать посередине проповеди: «Батюшка, да хватит говорить, темно уже, автобус ждет!»).
В армейские годы их сбрасывали на ледники, небольшими мобильными группами. Боевое задание: рассредоточиться на пятачке, «за пределами взаимного обзора», закрепить над пропастью гамак и зависнуть в нем на сутки. Вроде ничего особенного, обычный опыт выживания: на теле термостойкое белье и мягкий памперс, термос с теплым чаем приторочен к ремню, забудь об угрозе лавины, вгони себя в дрему, и спи, спи, спи, пока не услышишь отбойный рык вертолета… Однако постепенно нарастает ужас: висишь, как муха в паутине, задыхаешься, в ушах потрескивает, как в сломанном радиоприемнике… Так и сейчас. Дышать как будто нечем. Беспросветная, пустая тишина. Глухо звякает кадило, как медный колокольчик, зажатый в ладони.
В большом приходе слышно роение жизни. Возле кануна играют мелкие девчонки, смешные и серьезные до важности. Одна переставляет огарки по росту, чтобы самый большой был спереди, а самый маленький – сзади. Потом наоборот. В ней проступает будущая церковная бабуся в затянутом строгом платочке… В каждом полноценном храме есть такая – зорко следящая за свечным порядком, всю литургию переставляющая свечи по ранжиру, чтобы они спускались по косой, от недавно запаленных к догорающим, и во всем была видна гармония порядка… Сердишься на эту бабку, делаешь внушение, она смотрит на тебя исподлобья, с показной покорностью и твердой убежденностью в своей правоте. И вдруг понимаешь, что в упрямой бабке живет не наигравшаяся девочка…
Там дети шумят, родители цыкают, толчея. Зато молитва поднимается от прихожан, плывет в алтарь, ты молишься в ответ, легко и радостно. А здесь слова молитвы тяжелеют, упираются в холодную преграду, скребут, как лопата о камень. Почему так – непонятно. Дома стоишь на келейной молитве; разжигаешь сахарный осколок розового ладана, дышишь медленным голубоватым дымом, звонко шепчешь правило, напеваешь акафист Сладчайшему, и становится так хорошо и так покойно, что лучше поскорей зажмуриться, сбить накатанный ритм полунощницы, дабы не ввести себя в соблазн. Но в храме без людей совсем иначе. Закрывая царские врата, испытываешь вражеское облегчение: ну, Слава Тебе, отслужили.
Впрочем, если б дело было только в этом…
На последнем епархиальном собрании владыка поманил отца Бориса, прищурился и приказал: это… ваших… греческих… не надо… уберите. Он имел в виду античных мудрецов, которых иконописец поместил по обе стороны от алтаря: смешной Платон со свитком, похожим на свернутый коврик, умничка-отличник Аристотель, Солон… Три столетия премудрые язычники прожили в их храме, не смущали даже советскую власть; и вот тебе на…
Отец Борис промямлил, дескать, это по канону, есть традиция; но владыка даже не дослушал:
– Традиция-вердиция. Ты другим расскажи. Язычники – у алтаря! В позитуре блаженных! Ты чего, отец? Набрался у этих? Так мы тебя это.
Отец Борис, как мог, оттягивал неприятный момент, авось рассосется, забудется… не забылось и не рассосалось. Накануне позвонил помощник, Подсевакин, и напомнил скользким добротворным голосом: «Владыка спрашивал, как там, язычников убрали? Нет? а когда? Ну, до прощенного все нужно сделать».
По совести, он должен отказаться. Да, владыка вызовет, спросит с утробной насмешкой: что, отец, интеллигентом стал? И выставит за штат. Ну и что? Семеро по лавкам не сидят, есть не просят. Да и старый проходимец Шомер тут же злорадно его обласкает, зачислит в избранную гвардию музейного величества, выделит полную ставку и начнет по двадцать пятым числам выдавать конвертики с доплатой, из своих усадебных доходов… Но представить себе, что НИКОГДА ты не войдешь в уснувший храм, не выдохнешь синим предутренним паром, не облачишься, не повяжешь плотные поручи, как научил когда-то старец Николай, не поправишь крест, который при земных поклонах бьется на груди, как второе наружное сердце, и вдруг, по расписанию и вдохновению, не возгласишь хрипловато:
Бла-го-сло-венно Цаааарство… —
нет, этого представить невозможно. Как в юности нельзя было представить, что вот, отчислят из училища, и больше никогда ты не пройдешь единым строем в гордом марше, плечом к плечу, сотрясаясь от мощного шага, не испытаешь расслабляющий рывок в груди, с восторженным ужасом глядя на быструю землю, которая летит навстречу, не услышишь хлопок парашюта и не почувствуешь мягкий удар постромок, которые держат за плечи, как гигантская птица когтями…
И еще, конечно, жалко перспективы. Никто в епархии пока не знает, что отца Бориса летом вызвали в Москву: Святейший омолаживает епископат и поручил викарному поговорить с отобранными кандидатами. Их было пятеро; они сидели в очереди перед кабинетом в Чистом переулке, как больные в травмпункте, стараясь не смотреть друг на друга. Время от времени в коридор выглядывал помощник, и вызывал: отец такой-то. С той же интонацией, с какой медсестры выкликают пациента.
– Архимандрит Борис.
Усталый владыка с темными мешками под глазами листал его личное дело, как старый штабной кадровик.
– Армия… то добре… усадебная церковь… не устали служить без людей?
В самую точку попал! Но ответ владыке был не нужен; он задавал вопросы, и сам же на них отвечал.
– Тяжело без людей, тяжелооо, нам бы прихожан побольше. Так. Образование какое? А, Московская Духовная, сие похвально. Нареканий нет… характеризуется сугубо положительно… а если на Чукотку вас пошлем, что скажете? Но, впрочем, вы армейский, умеете честь отдавать. Добре, – архиепископ как-то чересчур молодцевато хлопнул ладонью по столу, – будем рассматривать, будем рассматривать… Бог благословит, ступайте.
Никогда отец Борис не рвался в иерархи; не для того он принял постриг, чтобы командовать церковным округом. Но если так само сложилось, без его участия, значит, в этом Промысел; можно сделать кое-что полезное для Церкви.
Но для начала все-таки придется сделать гадость.
В пятницу отец архимандрит зашел в сторожку к Сёме. Сёма сидел на диване, читал детективную книжку. Увидев священника, вскочил. Стоял подобострастно, словно согрешил, и ждет немедленного разоблачения: покорно, покаянно, но с тайной надеждой, а вдруг пронесет?
Странные люди; церковной жизнью не живут, с Богом общаются лично, когда пожелают, и Господь обязан каждую минуту быть готовым выслушать претензии и просьбы; что им долгополое сословие? А все равно, поди ж ты: ряса действует на них, как генеральские лампасы на армейских. Рав-няйсь! Смиир-на! Вольна.
– Здравствуйте, Семён Гелиевич!
Отец Борис старался говорить как можно ласковей; боялся, что в ответ услышит: здравия желаю! Но Сёмен ответил тоном провинившегося мальчика:
– Здравствуйте, ваше высокопреподобие.
По уставу вьюнош говорит, не от сердца…
– Семён Гелиевич…
Семён испуганно замахал руками; дескать, что вы, что вы, я для вас без отчества:
– Да просто Сёма.
– Сёма, пришел к вам покаяться.
Глаза у Сёмы округлились. Он молчал, покорно ожидая приговора.
– Придется отобрать у вас не только храм.
Сёмино лицо покрыла обморочная белизна; юноше сегодня не до шуток, нужно изъясняться осторожней.
– Нет-нет, вы меня, наверное, не так поняли. Просто правящий архиерей потребовал убрать философов.
И за что такое испытание – говорить о том, во что не веришь?
Сёма всполошился, снова замахал руками! Но по-другому, как напуганная птица машет крыльями, когда у нее отбирают птенцов.
– Да вы что, нельзя, они же на учете! Их закрашивать нельзя! Меня посадят!
– Опять неправильное толкование, дорогой Семён. Росписи останутся на месте, но мы их на время прикроем чехлами. Глядишь, придет другой владыка, утонченней – сразу снимем.
Сёма такой человек: никогда не спорит до конца. Высунется, как черепаха, коротко ответит, спрячется обратно, и оттуда, из-под панциря, глухо добавит: ну да… ну так…
– А… если чехлами… а они не задохнутся? Нет? Ладно, как директор скажет.
Что скажет директор, заранее ясно. Но директор далеко, в Москве, и когда вернется, не объявлено; угрожающая дама Цыплакова отправлена директором в командировку. (Архимандрит и опасается ее, и уважает – когда в конце 70-х храм собирались раскатать и переправить в музей деревянного зодчества под Вологдой, Анна Аркадьевна пригрозила областному управлению культуры, что дойдет до Брежнева; те отступили.) Так что бучу никто не поднимет. Зато владыка рядом, и если что решил, то своего добьется.
Поэтому они с Тамарой Тимофеевной купили ткани, здесь же, на музейной фабрике; для постных чехлов креп-сатин, для мясоеда белый штоф; субботним вечером вдвоем пристроились на солее. Тамара звучно нареза́ла заготовки, а насквозь простуженный отец Борис туго натягивал ткань, чтобы ножницы легко скользили. Он был сейчас как мальчик, помогающий маме сматывать пряжу в клубок.
– Ну, долго нам еще?
– Отче, не спеши. Лучше натяни как следует. Ровно. Вот таак, хорошо. А ты не чувствуешь, как пахнет?
– Ничего не чувствую. Тебе не кажется?
Тамара Тимофеевна отложила ножницы, приоткрыла боковую дверцу алтаря.
– Неет, я точно говорю. То ли крыса сдохла, то ли что. Как же ты служил, отец, я не пойму. Пойди, посмотри за престолом.
Тамара Тимофеевна убеждена, что батюшка – столп православия, но в быту несмышленый младенец; ей доставляет удовольствие покорно слушаться его во всем церковном, властно помыкая в жизни. Отец архимандрит не возражает; хочет так думать – пускай.
Он благоговейно обошел престол. Вроде все в порядке, ничего плохого не заметил. На всякий случай опустился на одно колено, прощупал одежды престола, как портной прощупывает складку. Под колючей парчой обнаружилось странное вздутие. Сунул руку под край, заранее брезгуя крысой, и наткнулся на твердое, гладкое. Отвернул края; за ними лежал отвердевший котенок, с вытянутыми лапами и приоткрытыми остекленелыми глазами. Первой грешной мыслью было: музейные решили отомстить. Но отец Борис перекрестился и прогнал этот вражий соблазн; не могли музейные так сделать, они же не бабки-колдуньи, которых на Крещенье спросишь строго – «Воду для чего берешь? не для гаданий?» – «Для каких таких гаданий, батьшк, никаких гаданий, батьшк, не знаю». А наутро обнаружишь под порогом обгорелое воронье перо, обвалянное в сосновой смоле, над которым долго колдовали, поминая тебя за упокой.
– Фу, смердит, унесу.
– Куда?
– Вам, отчинька, лучше не знать.
Когда Тамара недовольна, она переходит на вы, и тон у нее становится насмешливо-елейный.
Настроение совсем упало; закончив неприятную работу, Тамара милостиво приняла благословение, и они разошлись по домам, думая, что неприятности окончились; не тут-то было. Воскресным утром, распахнув врата, отец Борис не поверил глазам: между окном и кануном, возле закупоренных философов, сутулясь от смущения, стоял их противный завхоз. Выскочка, нахал и атеист. Вот уж кто ни разу сюда не заглянул, ни на Пасху, ни на Рождество: в жизненные планы Желванцова встреча с Богом как-то не входила. Как, впрочем, у большинства в их непонятном, смазанном каком-то поколении; молодые, даже юные, а идеальных устремлений ноль, только деньги, деньги, деньги…
Но чудны дела Твои, Господи; никогда не говори никогда. Или Желванцов узнал о том, что росписи закрыты? И пришел объясняться? Навряд ли. Он мог обождать до обеда, не теряя воскресного утра, данного нам в сновидениях. Значит, что-нибудь случилось, и причем такое, что проняло и твердокаменного Желванцова.
– Миром Господу помооолимся! Гоооосподи помииилуй!
Желванцов не исповедовался, тем более не причащался, но ко кресту, однако, подошел, недовольно коснулся губами. После чина прощения, который сегодня пришлось сократить до предела, – некому было вставать на колени, кладя покаянный поклон, радостно и горько лобызаться в торжественной и страшной тишине, – отец Борис позвал Желванцова позавтракать. Тот бормотнул: да я уже покушал, разве чаю? И, уплетая яичное жарево, стал возбужденно тараторить: Бог знает, что творится! Бог знает что! Ночью позвонила сторожиха: яжежговорила, развели котов, не кормите, они, яжговорила, мрут, а мы за вами убирай. Желванцов не стал вникать. Ну, сдох кошак, и сдох. Делов-то. В семь утра объявился сантехник. В подвале сорвало силуминовые стыки, хлынула горячая вода; сантехник воду откачал, принюхался – такая вонь, пошарил возле батареи, а там раздувшийся отец Игумен.
Желванцов насторожился, учинил обход. У закрытой на ночь двери в шомеровский кабинета валялись три или четыре кошки. Он перепугался, появилось нехорошее предчувствие, потому что никакой санобработки не было и быть не могло: кто же травит крыс в конце зимы? Словом, Желванцов решил, что надо в церковь.
– А ведь у меня такая же история, – сказал отец Борис.
И Желванцов позеленел.
А дальше все пошло по нарастающей. Околевших котов находили в запасниках, в мастерских, на кирпичном заводе, на складе, за кипами тканей. Дохлых кошек бережно, в чистых тряпочках, приносили узбеки. Брезгливо, совками, вышвыривали на улицу свои. Вечером явился Сёма с тяжелым целлофановым пакетом из «Пятерочки»; пакет оттягивала кошка Мура; Сёма был напуган до смерти. Таким Желванцов его еще не видел; глаза бегают, кожа пятнами, связать двух слов не может.
Кошек складывали на задах хозблока, под старой советской рогожкой; и хорошо еще, что было морозно, весна не вступила в права.
…Шомер долго смотрел на печальную горку, играл желваками, пыхтел. К боли от ушиба примешивалась новая тоска. Теодор вспоминал, как перед самым отъездом в Москву ходил по пятам за Игушей и подлизывался к мерзкому коту, уговаривая его налить в пустой поддон: у кота вываливалась шерсть и воспалились дёсны, ветеринар велел сдать анализ мочи, причем не позже, чем за шесть часов до лаборатории.
– Воот мы какие сегодня… ай, ты, Гууша, ххарроший мальчик… мурчит, заливается… кто сегодня сходит в туалет… ну, Гушенька, давай, пописай.
Игуша источал доброжелательство, принимал подачки и мурлыкал. Но как только его ставили в поддон, осторожней, чем фарфоровую вазу, он брезгливо дергал хвостом и царственной походкой уходил из туалета. И когда Игумен злобно напрудил на кожаное кресло в кабинете, Шомер был счастлив, как в детстве. Серебряной мещериновской ложкой (хорошо, никто не видел) зачерпнул из лужицы, перелил в зеленоватую мензурку, бросил на испорченное кресло мятую салфетку, чтобы все впиталось, и полетел на полной скорости в лабораторию…
И вот он остался один. Нету теперь у него ни Игуши, ни других любимых кошаков. Шомер неумело прослезился. Не скрываясь, вытер слезы тряпичным носовым платком, – бумажных он не признавал, высморкался, и отсыревшим голосом велел:
– Санэпидемстанцию не вызываем. Сжигаем у них, в котловане. Я отплачу. Я клянусь, отплачу.
А потом отошел в сторонку, чтобы никто не услышал, и набрал приемную Иван Саркисыча.
– Барышня? Да-да, я понимаю, вы не барышня. Простите. Передайте, что звонил Теодор Казимирович Шомер. Да, тот самый, которому. Так. Так. Получил, и по почте отвечу. Но вы лично передайте, ладно? Что я подпись поставлю, пусть отправляют в печать.
Ночью котлован напоминал подсвеченную хеллоуиновскую тыкву; желтая рожа кривлялась и корчилась; остро пахло обгорелым мясом и паленой шерстью.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































