Текст книги "Музей революции"
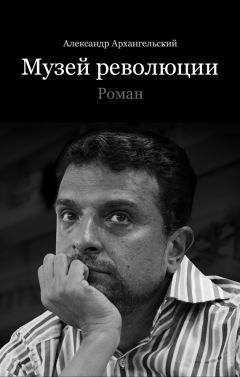
Автор книги: Александр Архангельский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Рыбий стон оказался сигналом от Таты, рядом с ее ником проявилось красное колечко, в сердцевине – циферка 1: удивительно похоже на мишень. Саларьев тихо выругался: ей-то что сегодня нужно? Скайпом она пользоваться не любила, предпочитала тратить деньги на междугородние (а из Барселоны – и международные) звонки. И на тебе, в неподходящую минуту объявилась.
Он тыркнул пальцем в Татин адрес, из сердцевины синего мерцания соткалась короткая записка:
Пашук привет
Привет
Как ты
Нормально
Пока жена сочиняла какой-то сверхдлинный ответ, Саларьев быстренько переключился на окошко Влады:
Я каюсь я каюсь правда каюсь стыдно все узнаю ближе к ночи и вам отпишу когда прикажете
о мне нравится такой подход только не пишите сама наберу хорошо?
У Влады изменился тон и это здорово, он не заслужил такого счастья.
Конечно хорошо я буду в нетерпении
Записочка, ликуя, понеслась навстречу Владе. Но только оказалось, что не к ней; в спешке он запутался в окошках, ткнул в чужое. И сразу получил навстречу Татино недоуменное:
Не поняла. С тобой все в порядке?
Только тут Саларьев прочитал обширную записочку от Таты (в красном колечке высветилась цифра 2; первая мишень поражена), на которую ответил фразой, предназначенной для Влады.
Тата писала:
Сегодня наконец закончила негритоску, для Кехмана, лично, такая трудная была работа, я так счастлива, не представляешь! А у тебя какие успехи, хвались!
Вывернувшись наизнанку, как скайповская бойкая спираль, Павел совершенно по-дурацки отоврался:
В смысле надеюсь ты ее еще не отдашь заказчику до моего возвращения. Жду с нетерпением, чтобы увидеть.
Ты переутомился:-) как я могу задержать куколку до твоего прилета? я еле успела к сроку сдачи
Ну извини. Сфотографируй.
Чего фотографировать? Ты лучше видео включи, сейчас посмотришь.
О Господи! На крейсерской скорости, уже не лаская экран, а истошно стуча по нему, как тонущий подводник по задраенному люку, Павел настрочил финальное послание для Влады. Сосредоточился, послал по правильному адресу:
Влада, буду ждать сигнала для атаки! до свидания!
Отключил ее окно, и перенаправился на Тату.
Видео раскрылось, как цветок после дождя; в центре синюшного кадра, вплотную к видеоглазку, так что лицо растянулось блином, была его Татьяна, хорошая и честная, талантливая, умная, скучная, несчастная; рядом с ней на столе, не умещаясь в кадре, сидела гуталиновая кукла, размером с половину человека.
Татьяна повертела куклу, смотри, какая она сбоку, а вот у нас какие мелкие косички… Жаль, у Таты слабенький компьютер, изображение шло с неприятной задержкой, движения как будто смазывались, по экрану всякий раз тянулся след, как от неудачной фотографии с неверной выдержкой.
– Ты бы перешла в мой кабинет, у меня там мощная машина, сверху многопиксельная камера, будет видно лучше.
– Хорошо.
Изображение скукожилось и через минуту заново включилось с упающим рыбьим звуком; Тата снова появилась в кадре вместе с куклой. Посадила рядом, повертела камерой, настроила изображение. Ну, вот теперь совсем другое дело. Все отцентровано, баланс нормальный, свет качественный, ровный, без эффекта радуги.
– Танюха, чуть-чуть отодвинься, а куклеца, наоборот, придвинь.
– Угу. Так хорошо?
– Так – хорошо. Так – очень хорошо.
Кукла сидела прямо перед ним, смешная, и оплывшая, как отражение в начищенной столовой ложке или в тугопузом самоваре. Улыбалась вывороченными толстыми губами. Мочки ушей оттягивали – до самых плеч! – стеклянные серьги, похожие на гэдээровскую люстру. Грудь была серьезная, руками не обхватишь, тугими черноземными холмами она выпрастывалась из цветастого платья; сквозь шелковую тонкую ткань гордо выпирали твердые соски. Выражение лица у куклы было хитрое, и наглое, и энергичное: все сворочу, не стойте на моем пути! На животе обвисали могучие складки, открытые черные локти все в ямочках, но ни намека на рыхлость, все такое жизненное, твердое, как волейбольный мячик.
– Гениально, Тата, просто гениально! Ты сама себя превзошла, – искренне и без усилий восхитился Павел; о деле с Татой было хорошо, приятно разговаривать.
– Я знаю, – отвечала Тата.
– От скромности ты не умрешь.
– Ой, Пашуня, есть столько поводов для этой самой смерти, что если можно умереть хотя бы не от скромности, уже прекрасно.
– И наконец-то не фарфоровая реставрация!
– Эх, Пашка! С черным цветом ошибиться невозможно, только поэтому взялась…
7Кукла сделана – и силы кончились; Татьяна выжала себя до капли, без остатка, от нее осталась только колбочка, маковая одногнёздая коробочка, из которой высыпались семена. Так было с ней всегда – завершая новую работу, она как будто выключалась из розетки и оставалась обесточенной. Раньше, до беды, она одевалась как можно теплей и уходила в город, заряжаться. Бродила целый день, до вечера, без какой-либо цели и плана. То по мрачным лабиринтам на Васильевском, то по скользким дорожкам Летнего сада, где скульптуры заколачивают на зиму в военные футляры, то вдоль игрушечных каналов Мойки. Ветер норовил куснуть в лицо, солнце терлось о ребристую изнанку тучи, кучковались толпами туристы, ошалевшие от высокого и вечного и мечтающие где-нибудь присесть и выпить… А она все шла и шла сквозь серое и золотое, разбавленное желтое, песочное, голубоватое, и этот непонятный город, который то пугает, то возносит, пестро вращался вокруг, как цыганская юбка!
Давным-давно она лишилась этой радости. Теперь по завершении работы просто крутится волчком в квартире, вновь и вновь, по замкнутому кругу, из темной мастерской в гладильную без окон, из гладильной в занавешенную спальню и оттуда в одинокий Пашин кабинет. И так часами. Заходит в комнату, включает свет, он медленно, трусливо разгорается. Выходит – выключает. И по новой. Ее бы воля, никаких экономичных ламп, только старые, мгновенные, с роскошной слепящей спиралькой. Но бережливый Паша настоял: говорит, что эти лампочки почти не потребляют электричества, так что можно их не выключать, пускай себе горят. А она не может их не выключать, это детский инстинкт, мамино назойливое воспитание. И вообще, как быстро все вокруг меняется, еще вчера считалось нормой и привычкой, а сегодня нужно привыкать к другому…
Единственное, что ее спасает в электрическом аду – роскошные домашние цветы. Это их, семейное, наследственное. Жирные бабанины фиалки, яркие герани, пахнущие скисшим по́том, славились на всю – тогда еще и впрямь резную – Вологду. А маманя, по ее рассказам, пока жила с отцом, ругалась каждый день из-за растений; он требовал очистить окна от курчавых зарослей: невозможно жить в подвальной темноте, я репетировать не в состоянии.
Судьба цветов не зависит ни от климата, ни от расположения окон, ни от прикорма, исключительно от жизненной энергии хозяев. В квартире напротив живут журналисты, у них на каменном полу стоят четыре жалкие горшка с чахоточными драценнами и похожим на дистрофика слоновьим деревом: с рахитичного пузатого ствола свисают усохшие космы. А у нее, при занавешенных гардинах! – лесные заросли столистников, черепашьи лапы денежного дерева, фазаний хвост кротона, темно-красный отсвет декабриста, беззастенчивые фикусы, которые не терпят лишнего соседства, покрытые старческим пушком листки фиалок… В углу, у книжных полок, притаился старомодный увлажнитель воздуха, который то и дело пфыкает мельчайшим паром, а сверху, как в домашнем инкубаторе, днем и ночью оловянным светом светит флористическая лампа. Эту лампу Тата никогда не выключает. Людям нужно экономить, а цветочки – Божьи, им по жизни полагается сияние.
Еще в глубоком детстве Тата поняла, что верит в Бога, но не в того, небесного и непонятного, про которого рассказывает церковь, а в этого, который прячется в корнях и листьях. (После, в институте, она узнала слово пантеизм, которое ей очень не понравилось, потому что ничего не может передать. Пантеизм. Статья в энциклопедии. Пустое место.) А пятилетней славной девочкой она уезжала на лето в деревню, в их северных краях июнь короткий и дождливый, зато июль затянутый и жгучий, и если б не сочные раздувшиеся комары, это был бы настоящий рай.
Бабушка, которая всю жизнь работала учительницей начальных классов, бесплатно замещала деревенскую библиотекаршу, и каждый день собирала детей возле серой суровой избы с надписью «районная библиотека»; выставляла низкие столы и стульчики, затевала обучающие игры… все были счастливы, и только внучка тосковала и ждала, когда же можно будет выйти за околицу, где стояли низкие упрямые березки, колосилась невысокая пшеница, а на низком взгорье ввинчивалась в небо колокольня. Древняя, заброшенная, старая.
Таня уходила в колоски, их усики кололи щеки, норовили оцарапать, она прикрывалась ладонью и шла. В разогретой гуще пшеничного поля темным цветом вспыхивали васильки, гудели пчелы, с неба парашютиками опускались бабочки-капустницы. Она растворялась без остатка в этом соломенном царстве, пропитанном густыми запахами хлеба. А потом оказывалась возле плоской и широкой речки; над асфальтовой водой дрожал июльский воздух, и с неба, как женщина по сгнившей лестнице, осторожно, глядя под ноги, спускалась черная гроза.
– Тата, Тата, домой, – говорила бабушка, а Тата не хотела возвращаться, она ждала, пока сгустится небо, сквозь него продернется внезапный холодок и сияющая молния воткнется в перепуганную воду.
Если есть на свете вечность, то она живет на севере, где сплющенные желтые поля и зеленый приземистый ельник; оранжевое солнце светит низко, тени по-пластунски расползаются по краснозему, и кажется, из-за любого поворота может появиться старичок в монашеской черной одежде, с белой невесомой бородой:
– Таточка, девочка, здравствуй! Пойдем со мной, не бойся.
– Тата, Тата, немедленно, слышишь! домой.
8Быть евреем – значит, быть чужим. Впрочем, Ройтманы не праздновали Рош-Гашана, не отмечали Пурим. Зато на Первомай и на Седьмое ноября папа просыпался засветло, драил полы. Ползал по паркету на коленях, тер его вафельной тряпкой, кулаком вбивал отставшие паркетины, а мама, возвышаясь, как гора, сипела сверху: Ханя, нельзя идти назад по мытому, Ханечка, тряпку выжми!
Ханаан выжимал.
Вечером являлись гости. Стол был, по-тогдашнему, роскошным. Тертая свекла, как следует промешанная с майонезом, нежно-фиолетовая, с чесноком и кислыми кусочками моченых яблок. Настоящая ростовская селедка, которую папа называл донским зало́мом: толстая, присыпанная ядовито-белым луком. Исходящая паром картошка, на которую положишь масло, и оно расплывается желтым. И, конечно, царь стола – огромная бадья с салатом оливье. Миша накладывал ложку за ложкой, и думал, что если бы он стал богатым, то ел бы салат оливье каждый день. Он не обращал внимания ни на кого; он смаковал. Соленый огурец, породненный с докторской колбаской, картофельными кубиками и яйцом, и все это утоплено в густой кисло-сладкой заправке…
А главным событием года было Девятое Мая. Накануне отец надевал костюм с боевыми медалями, весь год висевший в шифоньере; костюм болтался на плечах, а медали были чересчур большими, как шоколадки в золотой обертке. И уезжал один в Москву. Повидаться в Парке Горького с однополчанами. Пообниматься. Поругаться. Выпить. Помянуть. И вечером – на поезд.
Мама так и умерла, не став настоящей еврейкой. Отец в последний год очнулся; принес из синагоги свиток, вписал в него букву алеф, перед сном читал Талмуд – зависая над огромной книгой, как маленькая мушка над тарелкой. И все вздыхал: вот умру, и кто надо мной почитает кадиш? Миша понимал: отец боится смерти, ее неотвратимой тесноты, ищет запасные варианты. А вдруг там что-то есть? и там у наших дополнительные козыри?
Но в Германии – еврей ты, не еврей, а лучше быть со всеми вместе, хотя бы изредка зевать на службе в синагоге и заглядывать в кошерное кафе, что у вокзала. По вторникам, в 17–30. Обычно начинали с общих тем, быстро перекидывались на гениальных внуков дяди Мойши, на тупую веру русских («не встал – не воскрес») и не менее тупую жадность немцев.
Больше всех ему не нравился секретарь общины, Гоша Фейгин. Гоша был худой, неряшливый, болтливый; всякий раз он требовал у кельнера две рюмки водки и маслину. Выпивал, совал указательный палец за щеку и звонко, так что все оглядывались, чпокал. Тут же выпивал вторую рюмку, чпокал, грыз маслину, косточку бросал на стол.
И заводил разговор о политике.
Однажды Гоша наклонился к Ройтману и чесночно прошептал на ухо:
– Михаэль.
– Да, Георгий Яковлевич, я весь внимание.
– Подожди минуту, я тебе что-то скажу.
Гоша на секунду отвернулся, прокричал могучим голосом:
– Herr Kellner! Zweimal Vodka. Und eine Olive! Wie ich liebe, – и снова, склонившись, перегарно зашептал:
– Так вот. Вы заканчивали, как я понимаю, железнодорожный?
– Да.
– И эти немцы диплом подтверждать не спешат?
– Не спешат. А вы это к чему?
– К тому, что деньги вам не помешают. У моих племянников в России бизнес. Они перевозят бензин. По железной дорогое. И у них несовпадение. Так получилось, неважно. Они нормальные ребята, все евреи, троюродные братья, но никак не сговорятся. Я вот думаю, им не нужны бандиты. Им нужен надежный, скромный человек, такой, чтоб разбирался в транспорте. Вы меня понимаете, Ройтман?
Гоша выпил рюмку, закусил маслиной и продолжил.
– Они сейчас у нас гостят; поговорите с ними, дайте консультацию, они вам немножко заплатят.
– Эй, кельнер, noch einmal vodka!
9Помягчевшая, как будто обесточенная Анька в тот вечер засиделась в шомеровском кабинете. Он, затуманенный лекарствами и тоже чуть размякший, постарался расписать ей в красках, детально, свое московское хождение по мукам – и про Силовьева, и про Иван Саркисыча… Она, чего за ней не замечалось прежде, слушала его внимательно, почти сочувственно. Практически не перебивала. И в ответ сама с настойчивой иронией поведала, как возбудились ветераны диссидентского движения… раскалился телефон, а где, во сколько, с кем… ну просто времена Петросовета… как по-детсадовски надулись, когда все отменилась… а все твоя уклончивость и хитрожопость…
Теодор не возражал; все равно ее не убедишь. Он разлил вишневку по лафитничкам, чокнулся с Анютой, и сказал: да ладно, это мы проехали, а ты помнишь, как мы познакомились? В семьдесят седьмом, на семинаре! И Цыплакова поддалась. Конечно, помню, как же – я! – могу не помнить?! А ты-то, Федя, ты-то помнишь? А как меня забирал из роддома? Взял Козю на руки, а он большой, уютный, глазки круглые, блестят, и вижу, ты плачешь!
– Аня, кстати. Почему Козя мне никогда не пишет? Ты ему скажи, чтобы писал – хоть два слова, жив-здоров, и ладно.
Так они по-стариковски час-другой пожили прошлым; за окнами распространялись темнота, секретарша, не желая беспокоить, подсунула под дверь записку – ухожу, до завтра…
Было хорошо, надежно и казалось, все у них опять наладится. Но тут часы сыграли полночь – отрешенно, тихо, как шкатулка, спрятанная под подушку. И Анька словно вспомнила, зачем пришла. Снова сжалась, будто завела в себе какую-то пружинку:
– Все. Хватит, Теодор. Повспоминали – будет. Усадьба не усадьба, а ты наподличал. И больше мне тут делать нечего. Не для того я ломала советскую власть, чтобы терпеть позор и лизоблюдство. А когда завтра посадят тех, на кого ты настучал…
– Да куда там посадят, ты что! Пугают от нечего делать.
– Нечего-канечево, а когда начнется, вздрогнешь. Помяни мое слово. И прости, Теодор, я решила уйти. Навсегда. Заявление на отпуск и на увольнение оставлю завтра на столе в предбаннике. Пора уже на пенсию. Прощай, мой дорогой скотина.
Подошла, погладила по лысой голове. Жестковато усмехнулась, сдула с ладони налипшую пудру. Секунду взвешивала – поцеловать? Или не стоит? Все-таки нагнулась, чмокнула в макушку. И пулей вылетела из кабинета. Старенькая девочка на каблуках. Цок-цок-цок. Какая гордая… Не остановишь.
Ладно; он попробует вернуть ее. Потом. После победы. Как в том кино, любимом с детства – в шесть часов вечера после войны.
А на следующий день явился Сёма. Большой, расхлябанный, одетый не пойми во что. Байковая зимняя рубашка на подкладке, ткань слишком яркая, большие желто-сине-красные квадраты, пуговицы не застегнуты, подол торчит, под рубашкой черная футболка. Стеганые брюки из болоньи, лыжные окаменелые ботинки, с окантовкой… Сёме он платил вполне прилично, тот мог бы и купить себе одежды; нет, говорит, мне и так хорошо. А ботинки почему? а потому, что лапы у меня кривые, пока разносишь обувь, семь потов сойдет, а ботинки вечные, с подковами.
– Теодор Кузьмич, не знаю, в общем, как сказать. Я ничего такого, мне все очень даже, но так сложилось… В общем, мне пора.
– Куда тебе пора? Скажите, дорогой мой, яснее.
Мнется, наотрез отказывается сесть. Смотрит в сторону, косым бесполым взглядом. Огромные руки, как плети, по швам.
– У меня там, мама, в общем, заболела. Надо к ней в Ташкент, ухаживать.
– Чем заболела.
Сёма промычал невразумительно… сосуды…
А этого куда несет? Точно что причина не в газете. Политикой Семён не увлекался, ему что нынешние, что вчерашние, что завтрашние – на лыжные ботинки хватит, а больше ничего не нужно. Лишь бы не мешали книжки конспектировать и писать трактат о восстановлении Михайловского монастыря.
– Семён, вы не обязаны мне отвечать. Но. Я вас прошу. Скажите честно. Это из-за церкви? Вы что же, боитесь комиссий?
Семён замялся, стал инстинктивно почесывать руку, хотя аллергия у него прошла бесследно.
– Нет, ну правда мама заболела. Ей нужно денег отвезти, найти больницу… – Упомянув про деньги, Сёма почему-то окончательно смутился, как будто деньги это нечто стыдное. – Но вы, Теодор Казимирович, не подумайте! Я же ничего, я так… Если надо, отвечу. Но мама… Одна, в Ташкенте…
Теодор поднялся из любимого вольтеровского кресла; Сёма выше, Теодор крупнее. Положил свои широкие ладони на мягкие плечи сотрудника; источая справедливость, благодушие и понимание, внушительно сказал:
– Не бойтесь. Я решу. Я открою философы. И этот церковь, он будет наш. Вы напишите мне, сделайте служебную записку. Я распишусь. И тогда отвечаю я. Не уходите, Семён, этого не стоит. И знаете что? попросите отпуск. С того числа, когда отец Борис. С числа, когда философы закрыты… – Он опять запутался в проклятых русских управлениях. – Побегайте на лыжах, отдохните. Через неделю снова приступайте. У вас как, лыжи есть? Или только ботинки?
Сёма весь покрылся пятнами; он что-то хотел возразить, но привычно сдался.
– Я что… я ничего… спасибо, Теодор Казимирыч. А лыжи – есть.
И, цокая ботинками, побрел в сторожку. Ласковый, безвольный, с шелковистой гривой, стянутой резинкой… Есть в нем что-то лошадиное, понурое.
Все готовы предать, отступить. И если бы не кошки… кто их знает… он бы тоже начал колебаться. Но как вспомнишь сладкого Игушу, или его подругу Фенечку… Фенечка была капризной, блядовитой кошкой. На руки не шла, выпускала маленькие когти, извивалась. Но если просыпалось настроение ласкаться, сама бежала к Теодору, вздрючивала серый хвост, твердый, круглый, похожий на зрелый камыш, и, оглядываясь, как куртизанка, вела его к дивану. Размурчавшись, Фенечка уже не уклонялась, упруго терлась мокрой мордой о его ладонь, подставляла холеную спину.
Он ей не мешал ласкаться, приговаривая: ах ты, мой дружок, ах ты, мерзавка, ах ты, Фофочка…
В назначенное время заявился бодрый Желванцов.
– Привет великому начальству! Какделаничего? Принес тетрадки на проверку, учитель.
Ну, этот не сбежит. Этот крепкий паренек. И очень любит деньги, что похвально.
Предшественник мальчишечки, хохловатый тыловик, майор, упрямо делал вид, что ничего не замечает. Это не его вопрос – в каких количествах уходят кирпичи, по каким артикулам проводят ткани, и почему по вечерам, когда усадьба закрывается для посетителей, на свежий воздух из фабричных помещений выбираются безмолвные узбеки; одни спешат в продуктовую лавку за хлебом и чаем, другие садятся на корточках в круг, курят и цыкают длинной слюной. За это Шомер не мешался в мелкие дела тыловика. Но года три назад комиссия нашла несоответствие в бумагах; майора погнали взашей, жестоко, по плохой статье, а взамен прислали молодого Желванцова – то ли родственника вице-губернатора, то ли сына хороших знакомых.
Для начала Шомер напугался до смерти; на пару месяцев притормозил заказы, выслал узбекское воинство в отпуск. Однако оказалось, что мальчишечка умен и стучать наверх не собирается. Но и притворяться, будто ничего не замечает, не намерен. Все время, как бы мимоходом, спрашивал про цены на кирпич, на ткани; стало ясно: с этим лучше поделиться.
Шомер пригласил его отужинать в директорском банкетном кабинете. Заказал расстегаи с ухой, правильной, на трех бульонах, настоящие пожарские котлеты, половинный графин хреновухи, настоянной по шомеровскому личному рецепту. Разговор повел издалека, дескать, невозможно втиснуть жизнь в регламенты, приходится немного отступать от правил, давайте выпьем первую… но Желванцов, отставив хреновуху (не пью, Теодор Казимирыч; поколение у нас такое), перебил:
– Директор, я дико извиняюсь, давайте напрямки. Вам нужен крепкий жулик? Вот он я, весь ваш. Обещаю: ничего не утечет, никто не подкопается. Тридцать процентов.
– Тридцать процентов?! За что?
– А сколько же?
– Ну… не знаю… Я бы думал, все десять.
– Тридцать, господин учитель, тридцать.
– Ну давайте хотя бы пятнадцать.
– Соглашайтесь, Теодор Кузьмич. Хорошая цена. И главное, вы ничего не потеряете. Я же резко увеличу обороты, на руки получите гораздо больше, чем сейчас.
И Желванцов не обманул.
В обычной жизни, он был похож на робота из старых голливудских фильмов; казалось, у него к рукам привинчены стальные штучки – телефоны и блестящие экранчики (такие же, как у Иван Саркисыча и его черно-белого мальчика). Но бухгалтерию – домашнюю, не для отчетов – он вел вручную, по-старинке, в общих тетрадях с клеенчатой обложкой, пачкучей шариковой ручкой. Почерк курчавый, с нажимом, штабной. Молодой-молодой паренек, а советский.
– Виталий, дорогой, оставь тетради. Сегодня плохо, больно. Завтра все внимательно смотрю.
– Вот завтра, господин учитель, и принесу.
– Ты что же, мне не доверяешь?
– Вам, разумеется, я доверяю. Кому же еще, как не вам. Но если кто найдет? А с обыском придут?
– Какой обыск? Зачем? Кто?
Глаза Виталия округлились.
– Теодор Казимирыч, мы ввязались в серьезное дело, вы это понимаете, или как? Мы пытаемся отжать больших людей, а они чего? Глазками похлопают, скажут спасибо? Вам кошки – ничего не объяснили? Вытравили – за ночь – всех!
– Кошки объяснили. А у тебя что ж, не найдут?
– А у меня, – гордо и раздельно ответил ему Желванцов – не найдут.
И тут зазвенел телефон. Не простой телефон, а с гербом. Значит, не помощник и не секретарша. Сам. А вы говорите наподличал. А вы говорите – обыщут. Сами обыщем. Если решим обыскать.
Шомер гордо подмигнул завхозу, ловко расслабил мышцы лица и ответил со сладостным, нежным прогибом:
– Слушаю. Аллоу. Виктор Викентьевич? Здравствуйте, Виктор Викентьевич. Спасибо, что звоните, Виктор Викентьевич.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































