Текст книги "Музей революции"
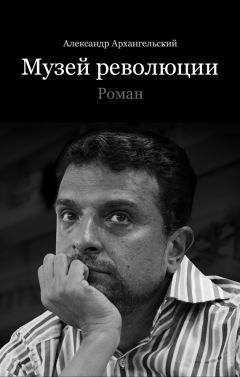
Автор книги: Александр Архангельский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
В этот загадочный зал Павел вошел одним из последних; дверь плотно затворилась; сразу стало тихо. Так бывает тихо в кабинете, ранним утром или поздней ночью: спокойно светит настольная лампа, книжные полки в тени, на улице ни зги, все спят. По глухим коврам бесшумно разбредались приглашенные. За барной стойкой не было официанта; каждый наливал себе, и молча отходил в сторонку. По центру были накрыты столы, мест на сорок, максимум на пятьдесят. За столы пока что не садились; брали мелкие закуски, отходили.
Часть обширной комнаты была освещена высокими торшерами; матовые белые потоки света поднимались к потолку. Другая половина растворялась в полумраке, напольные лампы мерцали желто-синим, как гаснущее пламя на конфорке. Молодцеватый губернатор, так непохожий на их долгородского жирного пентюха, неохотно пил коньяк и въедливо смотрел на двух своих помощников. Они молчали, и он тоже не говорил ни слова. Англичанин уселся к публике спиной, положил ноги на подставочку и, кажется, пытался задремать. Ройтман в дальнем уголке беседовал, вяло шелестя губами, со своим партнером, Мельманом; у Мельмана были светлые игривые кудряшки, голубые нервные глаза, сам он весь какой-то потревоженный и подростковый, отвечая, нервно сглатывал.
Не было ни Юлика, ни пестрых девушек, ни скучных женщин в деловых костюмах. Зато его попутчица – была. Алла сиделе рядом с некой важной дамой, из начальниц, и вежливо кивала в ответ на безостановочное шелестение. Ей шло темно-серое платье с жемчужным отливом; в этом приглушенном свете она казалась даже симпатичной. Павел страшно обрадовался и, нарушая общую размеренность, сделал несколько шагов навстречу. Два человека из экономического класса попали в царство избранных, им есть о чем между собой поговорить. Но Алла заметила его порыв и не пригласила жестом подойти, а просто помахала рукой: приветствую, и стойте, где стоите. Павлу ничего не оставалось, как переместиться в дальний угол.
Через час англичанин очнулся, встал во весь свой неудобный рост; губернатор скривился: англикосы вечно лезут первыми. Но тоже встал. За ним поднялись остальные. Губернатор зачитал короткую пустую речь. Ройтман тонким голосом, с ужасной дикцией, пробормотал спасибо всем, и первому лицу, и что он ценит, и конечно, и так далее. Англичанин, с интонациями провинциального актера, произнес торжественный спич. И, попросив прощения, откланялся: чересчур большая разница во времени.
Как только дверь за англичанами закрылась, губернатор скинул пиджак, выщелкнул черные запонки с холодной платиновой окантовкой, с удовольствием хлопнул в ладоши, плотоядно потер их и громко сказал:
– Ну что, теперь пора за стол? По-нашему, по-русски? Хлебосольно?
Следуя какому-то неписаному правилу, женщины сразу встали и ушли, вместе с ними Алла; мужчины устремились к столам.
7Гости расходились не на шутку. Солидные, подсушенные жизнью мужики, выстроившись в летку-енку, вскидывали ноги в дорогих штиблетах, громко пели вразнобой:
в нашим – доме – пасилился – за-ми-ча-тиль-най – сасед
Допев и доплясав, полусогнулись, уткнулись лбами в спины впередистоящих, разом выкинули руки в обе стороны, получился настоящий самолет.
– Это чьи поля? – голосом задорного мышонка пропищал директор меднорудной шахты.
– Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса! – хором прокричали остальные.
– А это чьи владения? – пискнул начальник налоговой.
– Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса! – развеселая колонна накренялась, тревожно жужжала, снова ложилась на курс.
– Тут чье хозяйство?!
– Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса!
Губернатор и Ройтман тихо, затаенно улыбались; остальные бескорыстно хлопали в ладоши.
На подиум поднялся гендиректор комбината, как все торинские начальники, сухой, высокий, со вздувшимися венами на бритом черепе: он напоминал анатомический рисунок, на котором обозначены сосуды и сухожилия. Взмахнул рукой (очень узкая ладонь, суковатые длинные пальцы, того и гляди оторвутся):
– Оркестррр! Нашу, любимую!
Музыканты, все в черном, вышли под единственный софит, деловито поклонились, крючковатый дирижер вонзил свою палочку в воздух, и понеслась знакомая мелодия.
– Песня о сексе!
Гендиректор приятно запел:
Ничего на свете лучше нееету,
Ничего на свете лучше неету,
Ни-чегооо!
На свете!
Лучше!
Нету!
Ничего на свееете лучше нееету!
Ла-ла-ла-лала,
Лалала-ла-ла,
Лалала!
Е! Е!
Е! Е!
Пили, говорили тосты, за Самого, за губернатора, за Ройтмана, как накатим, как накатим, как накатим… наше троекратное краснознаменное, с оттяжкой… И снова громогласно пили, если строганину из нежнейшей нельмы, закрученную бело-розовыми перьями, ее все называли нельмачка, безупречно свежего муксуна, пили за великие дела, и оленина с клюквой и брусникой была необычайно хороша, а грузди со сметаной, серые, залипшие друг в друга… пили, ели, пили ели пили.
– Пора, – сказал вдруг изрядно напившийся Ройтман.
И пьяный губернатор подтвердил с какою-то паталогической серьезностью и даже скорбью в голосе:
– Пора.
Земство разом отодвинуло тарелки, тяжелые ножи и вилки застучали барабанным разнобоем. Застегивая пиджаки и фраки, знающие гости потянулись к незаметной двери за просцениумом; Павел, сгорая от любопытства, поспешил за ними.
Они переместились в залу, похожую на игровую зону казино. Здесь не было ни окон, ни часов, стены обиты тяжелым панбархатом, мрачновато-бордового цвета. В центре залы – еще одна стеклянная стена, с прозрачной запирающейся дверью; за стеклянным ограждением, как внутри гигантской колбы, раскинулся огромный черный стол, со скругленными уютными краями. Не сговариваясь, гости разделились на две группы; некоторые, во главе с начальником и богом, торжественно проследовали в колбу и расселись за длинным скругленным столом. Остальные (включая Саларьева) расположились вдоль прозрачных стен, снаружи.
Помощник губернатора привычно сел на заглавное место и стал перемешивать карты.
Что-то слишком тонкая у них колода…
Из динамиков рванулся громкий голос:
– Господа! Внимание. Мы начинаем.
8Помощник губернатора метал; колода была тонкая, усохшая; карты пролетали вдоль стола и ложились точно перед игроками. Каждому досталось по одной.
– Господа, в нашем городе ночь!
Все поспешно натянули маски на глаза.
– Честные граждане спят! Но мафия не дремлет!
Четверо участников бесшумно приподняли маски. Молча поглядели друг на друга и опять прикрылись.
– А где же Комиссар Каттани?
Михаил Ханаанович сдвинул повязку на лоб; со смесью раздражения и самодовольства подмигнул ведущему и закрылся маской, как забралом.
– Наступило утро! Господа, поздравляю вас, в нашем городе обосновалась мафия!!!
А, так вот что это за игра. Павел много слышал про нее, но самому играть не доводилось. Когда-то это было модным общежитским развлечением; на ободранном щите для объявлений по пятницам вывешивали яркие плакаты: «Товарищи студенты! Не проходим мимо! Завтра выходной! Играем в МАФИЮ! Сбор в холле 4-го корпуса!». Но туда ходили только технари, несколько психологинь, юристы; они разбивались на группы, занимали все пластмассовые столики, выставленные в холле, и шумно резались до самого утра. Историки, филологи, искусствоведы презирали этот способ выжигания пустого времени. Они предпочитали собираться на квартире у кого-нибудь из ленинградцев, варили пушкинскую жженку или алкогольный гогель-могель с ромом, сочиняли яркие пародии на «Иисус Христос – Суперзвезда», соревновались в буриме и шарадах, а когда перепивались до соплей, разбредались по грязным кроватям и возились парочками, стараясь не слушать, как в полуметре стонут и пыхтят другие.
Проснувшись, жители захваченного города стянули маски.
– А я, – азартно спорил губернатор с председателем правительства, – говорю вам: Иванов – на подозрении!
Иванов возмущенно парировал:
– А я, Аскер Камильевич, подозреваю вас! Вы хотите выбить меня, потому что вы мафия! Предлагаю вас арестовать!
– Сильное заявление, Иванов. Ты хорошо подумал? – как бы весело сказал губернатор.
– Аскер Камильевич, да что вы, я так…
– Стоп, Аскер, здесь нет начальников и подчиненных, – вступился Ройтман. – Давай играть по правилам.
– А может, вы и есть та мафия? – вступился областной прокурор за губернатора.
И все сошлись на том, что Ройтмана полезно отстрелить.
Лицо его перекосилось; сколько разных масок Михаила Ханаановича видел Павел – обезжиренного идиотика, резкого умника, пресыщенного властью хозяина жизни; в этот раз перед ним был дворовый бандит, которого унизили, и он сидит на корточках, и цыкает длинной слюной, прежде чем рывком подняться, вынимая финку из-за голенища.
– Это вы меня решили отстрелить? Меня? Вы забыли правило: если хочешь со мной говорить, то молчи.
Несколько секунд понадобилось Ройтману, чтобы совладать со злобой, вспомнить, что это игра; в конце концов он разочарованно сказал:
– Ну что, господа демократы. Ваш народ как всегда пролетел. Я был комиссаром Каттани.
Все были в потрясении.
– На прощание оставлю вам предсмертную записку – бойтесь трубочиста, он знается с чертом!
Банкующий помощник заерзал; извиняющимся голосом сказал:
– Аскер Камильевич, вы же в курсе правил…
– Да знаю, знаю, я убит без голосования. Играйте дальше, стреляйте в невинных людей!
Губернатор выдержал паузу, и с хохотом перевернул свою карту: да мафия я, мафия! Попали! И вместе с Ройтманом направился к прозрачной бронебойной двери. А игроки опять надели маски; мафия очнулась, как в немом замедленном кино жестами определила жертву, и снова погрузилась в сон.
Кресло Павла стояло рядом с выходом из игровой; бог опять его заметил, что-то важное припомнил, положил на плечо невесомую руку:
– Слушай, историк, еще раз спасибо, и у меня к тебе будет дельце. Не сегодня. Скорее завтра. Эй, Геннадий, – кликнул он бесплотного секретаря, – свяжи нас, когда я проснусь.
Подумал и добавил с намекающим смешком:
– Если вообще смогу до вечера проснуться.
Павел не стал уточнять, что к вечеру его уже не будет; у него есть дела поважнее, дневным он летит в Красноярск.
Пятая глава
1Господа, наступило утро!
Ровно, нудно ныла голова: боль нарастала в затылочной части, клещами сжимала виски и пыталась добраться до глаз. Это не было похмельем – он вчера практически не пил; но это значило – меняется погода, ветер северный, давление пониженное, снег. Теперь он больше не уснет, а до конца проснуться не хватает силы воли. И сны никак не отпускают. Последний был совсем плохой, как будто он забросил маму, она лежит в параличе, а он забыл прийти, поменять на ней подгузники и покормить… вспомнил через двое суток, мамочка еще жива, но такая жалкая, беспомощная…
Тихо. Очень тихо. Слишком.
Павел все-таки заставил себя встать, принять на голодный желудок таблетку. За окном было плотное месиво; снег слипся в дрожжевое тесто; тесто разрасталось вширь. Такого снега он нигде не видел, даже в январской Лапландии, где с неба тоннами ссыпалось крошево, в ночных прожекторах похожее на фейерверк. Здешний снег не падал, он вращался, как тяжелое намокшее белье в окошке стиральной машины. Это было так мощно, так сильно, что Павел не сразу догадался испугаться. А догадавшись, ринулся к компьютеру – что с рейсами? на сколько задержаны вылеты? какая погода на завтра?
Гостиничный (как все торинское, огромный) компьютер загрузился, поскрипывая от удовольствия, но все попытки выйти в интернет закончились провалом. Эксплорер с файерфоксом бастовали. Он потянулся за планшетником. Блескучая таблетка стильно щелкнула, но тоже не нашла вай-фая… Павел схватился за мобильный: смертельно дорого звонить отсюда, в интернет входить еще дороже, но сейчас деваться некуда.
И телефон, однако, отказал.
Из последних сил Саларьев отбивался от тошнотной мысли, которая рвалась в сознание, как мошкара в ночной плафон; он ее уже почти подумал, но никак не хотел признаваться.
ВСЁ.
Влада будет ждать, и удивляться, и бесполезно набирать, и поглядывать на маленький экран. Потом она разочаруется, твердо усмехнется, и отправится к себе домой. Чтобы больше никогда. И ничего. Оскорбительный, наглый облом; мелкий дядя оказался трусом. Летают самолеты из Торинска, не летают – это не ее забота; такие женщины в детали не вникают. Хочешь – сможешь. Не сможешь – не очень хотел.
Он приоткрыл окно. Сытое снежное месиво плюхнулось на подоконник и стало торопливо таять. Тесто, полуразмороженное тесто. По вязкой фактуре, по форме.
Белым-бело, и при этом ни зги.
2Как мог, он успокаивал себя. В конце концов починят интернет, до Влады достучимся, объяснимся; она хорошая, она поймет. Но видеть не хотелось никого. Как не хотелось ни читать, ни думать. Пришлось включить болтливый телевизор – он, хотя бы и с помехами, работал.
В новостях опять пугали нарастающим конфликтом; ну сколько ж можно нарастать?! Нарастает, нарастает, а никак не грянет. Неуверенно и осторожно, как педагог на классном часе, ведущий рассказал о всеобщем падении индексов. В долгородском краевом музее поставили скамью на фоне посоха Осляби (в народе он считался чудотворным, спасающим от зубной боли; остов был обглодан, как сахарная косточка), усадили трех мясистых стариков – владыку, губернатора и Теодора… что они несут… патриотизм… сотрудничество церкви и музея… ну, дела.
Саларьев врубил телевизор на полную громкость; так смотрят только деревенские – стены содрогаются, петухов и кур не слышно. Приютино – на Государственную премию?! Ничего себе! Вот это новость! Рука потянулась к мобильному; ах, ну да, конечно, никаких звонков.
Так вот чем занимался Теодор в столице! они-то думали, что разговоры говорил, интриговал, а он ходил по министерским кабинетам и согласовывал давным-давно запущенное постановление. Дааа, как же их возненавидит все сообщество; станут поздравлять и восхищаться, а подавленная зависть будет краешком торчать из-под улыбок… И так-то большинство коллег их презирают, дельцы, а не последние святые, сплошные муляжи, пускают пыль в глаза…
По экрану скользнула бегущая надпись: ожидайте экстренного выпуска! ожидайте экстренного выпуска! Павел нажал на красную кнопку; про самое важное он уже знал.
Через минуту в дверь забарабанили; на пороге стоял непроспавшийся Шачнев. Под глазами темные мешки, как если бы под кожу впрыснули чернила. Снова опростился, стал похож на привычного Юлика. Очень недовольного, непротрезвевшего, но желающего быть (как сам он выражался) обаяшкой.
– Старечог! Наконец-то хорошая новость! А? Ты почему скрывал? Такие люди – в нашем околотке! Надо немедленно выпить.
– Юлик, ты чего? Какое выпить? Ты на часы смотрел?
– Десять утра. По торинскому. А по нашему, прости, московскому… не обижайся… вы, питерские, такие обидчивые… еще четыре ночи. Будем считать, что еще не ложились! Наливай. Да не бойся ты, здесь мини-бар бесплатный.
Павел заглянул в надежный холодильник; в светящейся желтой норе покорно ждали участи бутылочки с хорошим виски, с местной водкой и французским коньяком. Пить совершенно не хотелось; он вылил в тяжелый короткий стакан два пузыречка «Баллантайна», отдал Юлику, себе набулькал трезвой оранжины.
– Что, сегодня пить не катит, с Мишей вчера перебрали? – Шачнев ревниво скривился.
Так вот зачем он притащился; сообщение о премии лишь повод, а дело – во вчерашнем отравлении обидой. Карлика позвали, допустили, а Юлика послали баиньки, не взяли погулять со взрослыми. Всю ночь проворочался, бедный, с отвращением пил в одиночку; утром, тяжело очнувшись, хотел прийти и расспросить, как было, но мешала уязвленная гордость. И тут – такая чудная возможность: премия.
– За ваш очевидный успех.
Пил он без большого удовольствия, очень крупными глотками, лишь бы стакан опустел.
Смягчая обстановку, Павел спросил о приятном:
– А все-таки, куда девался Абов? Что там у них не срослось?
Юлик посерьезнел, в нем снова проступила важность, как проступает мокрое пятно на ткани.
– Знаешь, в чем разница между врагом и предателем?
– В чем?
– Враг может уничтожить, но воюет честно, и ничего у тебя не берет.
– А предатель?
– А предатель все возьмет и кинет.
– Юлик, я тебя люблю, но ты оставь понты для подчиненных. Ты можешь мне сказать, что там у вас стряслось?
– У них там стряслось то, что англичанин получил инсайд.
– Чего он получил?
– Слил он ему наши заготовки, вот что. Плесни-ка еще. Да не экономь ты.
И как можно равнодушней:
– Как вчера у вас прошло?
3Высосав подробности, Юлик успокоился и захмелел.
– Ну, я пошел додремать.
– Иди, иди, мой дорогой… дремли.
Павел завернулся в плед, открыл балкончик, выглянул. По лицу хлестнуло сырым и холодным, вокруг было мутное, белое, плотное. Его как будто бы заматывало в саван; он быстро превращался в неуклюжего снеговика, морковки вместо носа не хватает, и метлы. Через минуту стало холодно, а через две тепло, он был внутри сугроба и трудно дышал через снег. Было хорошо, как младенцу в утробе. И в то же время очень страшно. Он отряхнулся по-собачьи, от ушей к хвосту, и поспешил вернуться в номер.
Почти два месяца назад раздался голос, и победил его, и подчинил себе. Так не должно быть, это нелогично, нет ни одной причины, которая не то что оправдала – объяснила бы его идиотический невроз, тупую подростковую влюбленность. И в кого? В неизвестную женщину. Замужнюю. Практически чужого круга. Один раз повстречались в поезде. Посмотрели друг на друга в скайпе. И вот уже назначено свидание – в Сибири; ну разве это не маразм? Или ей настолько скучно, что она решила сочинить романчик в жизни? Не хватает культурки-мультурки, хочется чего-то необычного? Судя по всему, она богата, но совсем не бизнес-леди, вышла замуж по необходимости, но тошно ей, тошно, дайте что-нибудь потоньше, поумнее… Стоп. Это что ли ты, Павлуша, поумнее и получше? Молодец, хороший мальчик. Уж признайся по-мужски, без экивоков, что она всего лишь развлекается. Что ты ей нужен как собаке пятая нога. Признайся – и скажи себе: и ладно. Пусть развлечется. Для тебя это шанс и удача. Что будет потом – то и будет. А пока что будет счастье.
Хорошо. Ее мотивы разобрали. А про свои-то что скажем? Молчок. Схема ломается, монолит крошится, ничто не объясняется из ничего. Ни, не, ни. Все-таки русский язык грандиозен; перевести тройное отрицание нельзя, но зато оно дает на выходе такие смыслы, от которых мурашки по коже.
Таня, Таня… Ты здесь вообще за скобками. Хороший, верный образ: скобки. Жили-были Т и П. Т осталась, П исчез. И тут же обнаружился за скобкой.
За это короткое время в своих отношениях с Татой он прошел через несколько стадий: притворной ласки, под которой тлела неприязнь; истерического покаяния, из-за которого он просыпался в половину пятого, резко, как будто подняли пинком, и лежал по часу, по два, проклиная себя, и ее, и любимую Владу, и чччертова мужлана Старобахина… От постели он как-то увиливал; то грипп, то Москва и Торинск. Лишь однажды он вспыхнул, как спичка, Тата с радостью отозвалась, но на последнем взлете вдруг почувствовал тонкий удар, как если бы в хребет вогнали спицу, весь покрылся бисерным холодным потом, и со злобным рыком отвалился на подушку.
Тата напугалась, прижалась к нему: что с тобой? Ты весь холодный… и мокрый… Пашенька, это не сердце?
Сердце, Таточка, сердце… Принеси мне валидолу.
А потом наступило похмелье – усталое тупое равнодушие. Он отстреливался от Таты эсэмесками, но делал это как по расписанию: 17 ч. 15 мин., ежедневно, общение. А так – она как будто бы сошла на нет, выветрилась из его жизни. Сложится у него с Владой, или не сложится, но с Татьяной всё равно придется объясняться. Рано или поздно. И от такой чудесной перспективы настроение совсем прокисло.
4Собственно, она давно предполагала.
Хотя, конечно, нет, неправда. Не давно. И это были не предположения. А почти физическое чувство слома, как перед спадом атмосферного давления.
Таня знает это чувство слишком хорошо. И Паша, и она – хронические метеопаты, а у них, метеопатов, голова устроена особым образом, не как у нормальных людей. Лето в разгаре, на небе ни облачка, траву придавил обленившийся зной; но ты просыпаешься с тянущей болью в висках и в наросшей косточке стопы – и это значит, завтра-послезавтра ждите ледяного ливня, ветер северный, с переходом в северо-восточный, местами сильный град… Здравствуйте, тетушка осень. Метеопатами были и бабаня, и мамуля; у обеих выпирали косточки из туфель; Татьяна им наследовала в этом, но получается, наследовала и в остальном.
Бабаня родила мамулю от заезжего героя и осталась навсегда безмужней; мамуля вышла замуж по любви, за скрипача из театрального оркестра. Но скрипач не явился в роддом, а на обеденном столе, мама обнаружила записку, о которой до последних дней не могла рассказывать без истерического содрогания. «Любимая, – писал ее проклятый папочка, – прости. Я должен расти, развиваться, если к тридцати не стану первой скрипкой в симфоническом, так и загину в яме. Я осознал, что мой творческий путь несовместим с семьей. Целую тебя. И люблю.» Торжественное «я загину» было подчеркнуто трижды, а «люблю» написано красным карандашом.
С самого детства Татьяна боялась, что повторит судьбу бабани и мамули, что ей придется рано или поздно родить – от кого-нибудь – ребенка для себя, и одной его воспитывать. Ребенок у нее не получился, а вот муж, наоборот, нашелся. И стал ее маленькой радостью. Счастьем – нет, неправда, никак не скажешь; настоящим горьким счастьем был второй ее роман, с негодяем, кокеткой, нарциссом Володей (что за страсть к мерзавцам? сказались мамулины гены?). При виде этого Володи сердце становилось круглым, глупым, губы тянулись в улыбку, его хотелось приняньчить, погладить по мелкому пузу; она, конечно, видела, что у этого Володи слащавые глазки кота, что он дозволяет ей себя любить, а сам он как холеный манекен. Движения расхлябанные, вялые, белесая небритость на щеках, на подбородке, над толстыми самодовольными губами… Перед выходом смотрится в зеркало, поправляет по-женски прическу, врет по поводу и без него. А когда она свалилась в гриппе, не приехал, и в ответ на ее возмущенный звонок пробурчал: ну есть же у тебя соседка, пусть занесет бисептола, нет, сейчас я не могу, никак. До сих пор вспоминаешь – и слезы.
С первой же случайной встречи на пропое красного диплома у подруги, Таня понимала, кто такой Володя. И внутри себя произносила монологи, педагогические, правильные, жесткие. Раз в день как минимум, а то и чаще. Но рассуждения в одну секунду испарялись, стоило Володе появиться. Ах! И ноги сразу же слабеют. Смешно-то, конечно, смешно, а ничего поделать невозможно.
В конце концов она приперла Владимира к стенке (не в первый раз, и как наивно полагала, не в последний!). А он внезапно твердо, без кокетства, по мужски признал и объявил: да, это, видимо серьезно, я решил уйти.
После этого примерно год она жила в тумане. Работа, работа, работа, никаких мужчин, даже друзья – и те побоку. Потом начала потихоньку оттаивать, боль заросла; тут ей и встретился Паша. Она его увидела издалека – хрупкая, кургузая фигурка. Но почему-то сразу ясно, что – мужчина. По осанке, по смелому ходу; он шел по льду, как по брусчатке; не брел, а именно что шел, хотя ему мешали голенища валенок. Когда Пашук приблизился и с ней заговорил, она ощутила легкую, приятную тревогу; спящее сердце проснулось. Не разгорелось, как тогда, с Володей, а спокойно, ласково оттаяло. События она не торопила, но сделала все, чтобы ему понравиться. Пела с особым вольготным настроем, обращаясь не лично к нему, а ко всем, но на самом деле – пела для него…
С ним было хорошо, надежно и покойно. Даже если в ссоре. Было?!
Зачем он отправил ее в свой треклятый кабинет? Для чего усадил за собственный чертов компьютер, в котором скайп не запаролен и выбрасывает на экран всю эту подленькую переписку? «Спроси еще, во что раздета. Я разочарована, Павел Саларьев». Если бы не эта глупость, перемешанная с подлостью, Татьяна бы так и не знала про его двойную жизнь. Так бы и гадала, что с ним происходит. Но когда в загрузившемся скайпе, без пароля, высветилось его тайное нутро, это гнусное, почти Володино! кокетство… ее передернуло всю. Как будто наступила в гостиничной ванной на чужие волосы. Тем более, что Паша не Володя. От него она такого не потерпит.
До чего же противно и стыдно. Она и читать не хотела, само так вышло, удержаться не смогла. Значит, говоришь, Торинск, а из Торинска в Красноярск, и далее – прости прощай, до скорой встречи? А может, он это сделал специально? чтобы спровоцировать ее? вогнать ситуацию в кризис? чтобы вырваться из кризиса через скандал? или это бред сумасшедшего? что он хочет сказать? что он имеет в виду? ничего?
По-хорошему, ей нужно было бы сейчас уйти из дому, по черному смутному городу помчаться к любимой подруге, выплакать ей ужас жизни, поговорить – обо всем и ни о чем, в два голоса, чтобы вдруг все стало ясно и понятно. Очень грустно и очень спокойно. Но катастрофа в том, что она растеряла подруг. Конечно, есть коллеги женска пола, кукольные мастерицы, галерейщицы, фотографини, но подруги, с которой можно обо всем – часами – без утайки, не осталось. Как-то так случайно вышло, само собой. Просто с Павлом можно было говорить о чем угодно, и зачем еще какие-то отдельные подруги?
И у него, по крайней мере ей так кажется, практически нету друзей. Раньше вроде были… надо же, а как их звали, и не вспомнить. Раз в неделю Павел собирался с ними в баню, счастливый, возвращался к часу ночи, чистый и пьяный, что-то ласковое бормотал… иногда он приглашал их в гости, они торжественно звонили в дверь, вручали ей букетики занюханных гвоздик, и, не снимая грязных ботинок, топали на кухню. Один был тощенький и странненький, с козлиной плохо растущей бородкой, все время закидывал голову и тонко хохотал; другой усатый, горделивый, лет на десять старше – с видом опытного бонвивана; третий, с толстыми глазами, рослый, говорил без умолку, слово было невозможно вставить… Постепенно ходить перестали. Раньше ее это не тревожило – подруги ушли, а друзья обособились, значит, поняли, что Тате с Павлом хорошо без них, для совместной радости чужие не нужны, к чужим идут, когда чего-то не хватает, или когда беда. И вот беда пришла, а пообщаться не с кем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































