Текст книги "Музей революции"
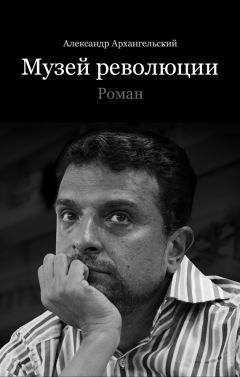
Автор книги: Александр Архангельский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
– Историк? Ау. Ты меня слышишь?
– Слышу, Миша. Как говорят военные, докладываю громко и голосом: Аллу доставил в целости и сохранности.
При имени Алла Влада нарочито поморщилась.
– Да при чем здесь Алла. При чем тут она, а? С ней порядок, мы уже вчера поговорили. Неет, тут дело гораздо серьезней.
– И в чем его серьезность?
Павел зажал трубку рукой, страдальчески улыбнулся Владе: прости, не могу не поговорить, это Ройтман. Влада сделала круглые глаза: Ройтман? Так запросто, запанибрата? Нет, невозможно привыкнуть.
– А в том его серьезность, что я не только не еврей. Я творческая помесь цы́гана с мордовкой. – В ройтмановской интонации проявилось что-то матерное, простонародное.
– Вот это генетический компот! – Саларьев понимал, что лучше сейчас не смеяться, особенно в голос, но справиться с собой не смог. – А откуда узнал?
– Оттуда. Подняли все справки в загсе. Родители меня усыновили. Взяли из дома малютки, и усыновили. Ты прикинь – меня – усыновили.
– Честно говоря, не вижу никакой беды.
– Ну я же тебе объяснял… ты что, тогда не понял?!
– Понять-то понял, только разделить не могу. Вот завтра я узнаю, что я – еврей. Или армянин. Что во мне изменится? Ровным счетом ничего. Как был русским, так им и останусь. Зато теперь ты можешь отыскать свою реальную мамашу. С папашей, боюсь, не получится.
– Да иди ты знаешь куда?
– Ладно, Миш, не обижайся. Я ведь ничего такого. Не молчать же мне в ответ. А что еще тебе сказать – я просто не знаю.
– Ладно, – Ройтман помягчел. – Прилетишь, еще поговорим. Ты завтра, вместе с Алкой? У нас тут сплошные сугробы, я вам тягач подгоню.
8Начало всякого романа – испытание; мужчина должен остроумничать, женщина показывать холеную строптивость, оба дьявольски напряжены, следят за каждым своим шагом, смертельно устают от этих масок, но не решаются их снять. Как же! А вдруг не поймет… И только через месяц, через два получают право быть, какие есть. Но с Владой сразу же стало легко и свободно; они бродили среди каменных диковин, замирая, смотрели в холодную даль, целовались, спрятавшись от любопытных за тяжелые стволы деревьев. Потом промерзли до костей и отправились обедать в непонятный загородный ресторан, где среди деревянных столов и темных лавок из мореного кедра стальными горами вздымались тепаньяки. Возле гигантских жаровен сновали настоящие японцы, жирные, непроницаемые, как борцы сумо. Над их гигантскими сковородами метался быстрый пар, по залу разлетались запахи кореньев, масла, маринованной говядины, курицы и чего-то размороженно-морского, а за окном, на том берегу Енисея, была видна просевшая деревня, с неуютными серыми стенами и перекошенными крышами.
Павел для чего-то стал рассказывать про детство в Темрюке, про то, как мама работала в школе, а папа был моряк в торговом флоте, и Павел по нему скучал; а Влада все больше молчала, только инстинктивно, по инерции поглаживала руку Павла. Как привыкла поглаживать Коле. Этот вежливый и бойкий мальчик ей понравился. Сначала просто заинтриговал. Потом удивил на концерте; он прекрасно слышал музыку и все сразу угадал про дирижера. А на площади он был мужчиной. Маленьким, как петушок. Но волевым. И ночью с ним внезапно было хорошо. Хотелось раскрыться навстречу, стать его частью, отдаться. Какое хорошее слово – отдаться. И сколько пошлости налипло на него… В общем, мама была бы довольна. Наконец-то кавалер не из армейских. Настоящий, как положено, интеллигент. Но только мама никогда об этом не узнает. Потому что завтра он вернется в этот свой чччертов Торинск, она вылетает в Москву, а в Москве особенно не пороманишь. Да и лучше оборвать сейчас, пока не проросло…
Они вернулись в город, выпили по чашке кофе в синем баре, прошли в гостиничный номер. Саларьев потянулся к Владе, но она его остановила: не сейчас, успеем.
– Лучше давай поиграем.
– Давай, а во что?
Глаза у Павла загорелись.
– Включи свой айпед.
В глазах недоумение. Что она задумала такое?
– Ты умеешь делать аккаунты в скайпе?
– Конечно, умею.
– А я, представь себе, нет. И пароль свой забыла. Можешь завести мне новую страничку?
– Еще бы, как нечего делать. Давай сюда машинку… а какое у тебя теперь будет имя?
– Имя?! Ах, ну да. Имя. Я даже не знаю. Сам придумай.
– Давай ты будешь моявлада.
– В одно слово и с маленькой буквы?
– Да хотя бы и так… Все готово, моявлада. Заходи на огонек.
Влада приспустила занавески, и они остались в мирном полусумраке; сели друг напротив друга; на лица и руки падали тихие отсветы. Павел зачем-то подумал: если дело все-таки дойдет до предков.#ру, это будет классная заставка, викторианский господин и современная красавица сидят насупротив друг друга и переписываются по айпеду… но смахнул эту подлую мысль.
– Тук-тук все дома еда готова?
– заходите гости дорогие
– Паша а почему ты никогда не спрашивал чем я по жизни занимаюсь
– ты по жизни вызываешь счастье какая разница чем еще
– ну я же тебя спрашивала
– ты. сравнила тоже. я делаю разные штуки, люди узнают про них, обращают внимание на меня. но слушаю и повинуюсь, спрашиваю: чем?
– я делаю деньги. и очень хорошо их делаю
– а не муж Старобахин?
– так. выбирай. или общаться, или…
– выбрал. общаться. но мне правда интересно, я был уверен, что он.
– а я при нем? продала свое милое тельце так чтоли
– нет, ты меня неправильно поняла!!!!
– так я тебя поняла не ври. балетная девочка лимитчица хохлушка как ей еще устроиться
– ну прости дурака
– ладно чего там. я действительно балетная и замуж выходила по расчету. но получилось что и по любви. а потом научилась делать дела. а любовь… ну что любовь. так бывает. а ты?
– я точно не по расчету:-)
– догадываюсь. а кто твоя жена?
– ты уверена, что хочешь об этом
– я всегда уверена ты еще не заметил?
– заметил. жена моя делает кукол
– ???
– правда, настоящих кукол. по заказу.
– а фамилия у нее твоя? а ты ее все еще любишь?
– моя. я не хочу про это говорить.
– а с дочкой Ройтмана у тебя ничего нет?
– я же сказал – ничего. я тебе ни в чем ни разу не соврал.
– а другим часто врешь?:-)
– работа у меня такая
– да-да, я помню, ты историк.
9Щеки пылали; у Татьяны в детстве была аллергия, стоило съесть мандаринку, и щеки покрывались шершавой красной коркой, хотелось их расчесывать до крови; сейчас они горели точно так же, больно. Напрочь забытое чувство вернулось, и за это спасибо любимому мужу. Который сладенько воркует с этой Владой, зачем-то сменившей свой адрес. Чем занимается жена? А, так. Кукол она делает. В общем, ничего особенного. Женщина как женщина, нормальная, обычная, куда ей до вас. Их переписку в Питере читает полуброшенная Тата, а в какой-нибудь Москве бесполезно ярится обманутый муж…
Смесь обиды, унижения, недоумения. Она такого не заслуживает. Несчастный и жалкий врунишка.
10– Ты, кстати, так и не сказал, что там у вас в Приютино?
И снова Влада стала грамотно писать. Как будто в голове переключили тумблер. Щелк, и ставим знаки препинания. Выщелк – и опять поток сознания, которому мешают запятые. Павел на секунду оторвался от экрана и коротко взглянул на Владу. Она забралась в кресло с ногами, нервно съежилась и почему-то кусала губу. Эх, девушка, девушка. Если так не хочешь слышать о жене, зачем задавала вопросы? Теперь тебе приходится выныривать из неприятной темы, делать вид, что интересно о Приютине; ладно, про усадьбу, значит, про усадьбу.
– в Приютино у нас теперь порядок. музею дали государственную премию, говорят, сам Хозяин приедет.
– то есть сафари не будет?
– да откуда ты все знаешь? про Сафари? А, ну да, ты же делаешь деньги, туплю. Нет, не будет сафари.
– а ведь люди вложились, и серьезные люди, я их знаю. Что делается? А? Прикинь. А что сейчас в других музеях, по соседству? Не знаешь?
– знаю полная беспримесная тишина. Никто никого ничего.
– а если нападут из-за угла? вот как на вас?
– тогда каюк. там некому сопротивляться. красноносый алкоголик иванцов. зато красивое название. мелисса.
11Когда Влада проснулась, Павла рядом не было. Значит, обошелся без будильника. Не захотел прощаться. И записку даже не оставил. Жалко, так хотелось хоть еще разок прижаться… Наверное, по-своему, он прав. Но невозможно же смириться с тем, что больше никогда – и ничего – ни разу, и забудется солоноватый запах мятой простыни, два волоска на подушке; все остальное – забудется тоже. Или не забудется? Боже, что она наделала! Как провинциальная восторженная дурочка, не способная закрыться от случайной страсти: несет меня лиса за синие леса, за высокие горы. Смешно. Значит, мама все-таки права? И как ни прячься за придуманные подбородки, на роду написаны вот эти мелкие, в профессорских очочках? От которых никакого толку, разве только музыку послушать, и с которыми ей никогда не жить?
Слезы сами набежали на глаза, и она расплакалась навзрыд.
Третья глава
1– Шомер, сука, жидовская морда, щурёнок!
Уазик Иванцова вылетел на территорию усадьбы, как вылетают за пределы трассы, юзом скользнул на аллею. Его занесло на подтаявшей апрельской наледи (зима никак не желала сдаваться), бросило на черную, всю в подгнивших прошлогодних листьях землю; машина глубоко увязла. Иванцов, чертыхаясь, выскочил из-за руля и рванул напрямую; споткнулся, извазюкался в грязи, чернозёмными руками схватил за грудки Теодора.
Теодор брезгливо сбросил руки Иванцова:
– Цыц.
Маленький такой, короткий… бобик. Как водится, привычно пьян.
Бобик злобно подпрыгивал:
– Ты мне, падаль, за это ответишь!
Шомер спросил его с брезгливым снисхождением:
– С чего ругаемся, сосед?
– Я те щас такого соседа устрою, кровью будешь умываться… – Понимая, что со стариком ему не справиться, Иванцов отступил на шаг. – Ты чего их ко мне переслал? Это твоя территория? А? Твоя?
– Кого переслал? И куда переслал? Слушайте, сосед, пойдемте поразговаривать, я не очень понял вашу мысль.
Умывшись, оттерев штаны от грязи и охотно опрокинув рюмку, Иванцов немного успокоился, стал сбивчиво рассказывать. Недели две назад в его Мелиссе появились экскаваторы. Заняли огневую позицию за неухоженным фруктовым садом, и начали рыть котлован. Иванцову предъявили план застройки, показали розовые нежные листочки с разрешением построить баскетбольные площадки, теннисные корты, два жилых поселка, клубный охотничий дом «Лисья гора», с искусственными озерцами, рыбной ловлей, рестораном; насыпные холмы, горнолыжные спуски… Иванцов метнулся к губернатору, но повторилась шомеровская история: безутешное молчание в приемной, ответный факс о предстоящем тендере… Гостиницы у Иванцова не было; зато имелись райские охотничьи угодья. Право их обслуживать и предлагалось выставить на тендер.
Вспомнив о потерянной охоте, сосед покрылся пятнами и снова начал страшно материться.
– И что мне, б’дь, теперь стреляться? Кто ко мне теперь поедет на охоту? Егерей моих куда девать? На пенсию? Три тысячи рублей, подсобное хозяйство? А ты отбился, государственные премии получаешь, на меня все перевел, жидовское твое отродье. Сука. Сука. Сука.
2Шомер не терпел антисемитов, но в этот раз он пригасил тяжелый гнев, сдержанно выслушал хамскую исповедь. Дождался, пока Иванцов, захлебнувшись от желчи, умолкнет. И весомо ответил:
– Вы, Иванцов напрасно. Я ни сном, ни духом. Но чем-нибудь попробую помочь.
И с усталым важным видом, как победитель и хозяин положения, он набрал приемную Иван Саркисыча. Секретарша слишком сладким голосом пообещала доложить. Это Шомера насторожило. Но виду он, конечно же, не подал.
– Вот видите, Иванцов, обещают соединить. Как только соединят, я про вас расскажу.
– Ага, – взъярился тот, – нашел дурака. Я за ворота, ты и думать забыл. Ты мне вот что объясни – почему все тебе? Почему? у тебя же ничего не сохранилось! Не музей, а выставка народного хозяйства! Антикварная лавка! Тебя же из наших, музейных, никто за своего не держит, ты этого, трататата, не замечал?!
А вот это Иванцов сказал напрасно. Ругаться на евреев – ладно, стерпим. Но бросать ему в лицо, что нет музея… что все он тут придумал… да, придумал! Все ваши сохлые комоды, воняющие гнилью завеси, которые хранят следы прикосновений, это просто кладовые, а вы при них кладовщики. А вот в его Приютине – история. Потому что это не столики-бобики, не сервизы на четырнадцать кувертов, не серебряные поставцы, не тарелки по эскизу Е. М. Бём, двадцать четыре, сорок восемь, девяносто шесть, кто больше. История – это чувство, что ничего еще не кончилось, что все продолжается здесь и сейчас. Сидишь в Овальном зале, касаешься губами края мягкой севрской чашки, мелкими глотками пьешь пахучий кофе, закатное солнце скользит по зеленой обвивке, на белых манжетах лежит малахитовый отсвет империи, и ничто никуда не девалось, вся жизнь Мещериновых тут.
Он ее придумал, сочинил? Да. А ты попробуй, жлобское твое отродье, что-нибудь такое сочинить. Слабо? Тогда молчи и слушай.
Теодор распрямился. Он еще не знал, что будет делать, влепит Иванцову оплеуху, чтобы тот слетел со стула, и поганой мордой шмякнулся об пол, или просто положит тяжелые руки на плечи, и глядя в тупые глаза, презрительно скажет: «паш-шол!», или вмажет кулаком по крышке стола, так что телефоны вспрыгнут, как напуганные кошки…
Чуткий Иванцов нахохлился.
И в этот момент позвонили. Из Питера. У Иванцова отлегло от сердца, а на Теодора навалилась тяжесть.
То была их соседка, из квартиры напротив, бывшая актриса Нонна. С надрывно-сочувственным пафосом, готовя дорогого Федю к испытаниям, ах, как сложно устроена жизнь, она на что-то долго намекала и вихлялась. А на прямой вопрос ответила внезапно поскучневшим голосом: да, Валю увезли в больницу. Нет, она жива. Феденька, да почему же вы мне не хотите верить? У нее а-поп-лекси-чес-кий удар. Вот, вы пишете? координаты, телефон…
Шомер бросил лающего Иванцова, – тот сразу осмелел и что-то докрикивал в спину, – завел свой надежный Харлей и полетел на полной скорости в больницу; одно неловкое движение на обгоне, и уже не Валентину, а его придется увозить на скорой.
Валентина должна была стать его счастьем. А стала его наказанием. За какие грехи – непонятно.
Когда она пришла знакомиться с его семейством, мама вежливо скривила губы, оглядела пышную, высокую невестку с пепельными волосами и отстраненным, чересчур спокойным взглядом. Спросила: русская? И замолчала. Раз и навсегда. До самой смерти словом с Валентиной не обмолвилась. Однако Валины глубокие глаза, сдобное живое тело, и то, как она медленно и неохотно начинала, а потом ее бросало в дрожь и все кончалось настоящей судорогой – все это так держало Теодора, что ни мамино унылое молчание, ни презрительная русская родня ничего поделать не могли.
Единственное было плохо – забеременеть никак не получалось. Ни в первый год, ни во второй, ни в третий. А когда они пошли к врачам, те вынесли жестокий приговор: продолжения рода не будет, Валентина бесплодна.
Узнав диагноз, Валя как-то сникла, поскучнела, блеск в ее глазах погас, дрожать она перестала и все чаще уклонялась от его ночного буйства. Работать так и не устроилась, целый день бродила по квартире в распущенном махровом халате, крутила ручку медной кофемолки, потом забывала сварить себе кофе, вставала у окна и смотрела на соседний дом, как там люди готовят обед, ссорятся, садятся вместе к телевизору… У нее все чаще стали проявляться странности. Она могла уйти из дому и не найти обратной дороги, ее приходилось искать по больницам и моргам. Могла перепутать лекарства, угодить в реанимацию. Консультации, врачи… Если бы он только знал, что ее родная тетка, а до тетки троюродный дед, а до него отец – прошли через психушку! а тетка вообще покончила с собой! однако он тогда не знал.
Потом у него появилось Приютино, а у нее не появилось ничего. Доктор не просил – приказывал! – поддерживать с ней ровные, устойчивые отношения, а Валентине посоветовал использовать заколку в виде бабочки. И днем и ночью. Не снимая.
Как ни удивительно, рецепт сработал. Нацепив неуместный кокетливый бантик, Валя веселей не стала, но из дому больше не уходила и пузырьки с лекарствами не путала. Супруги виделись не часто, но дружили, и даже проводили вместе отпуск.
Летом восемьдесят шестого, только-только начинались горбачевские брожения, они поплыли на огромном теплоходе из Новороссийска через Жданов в Ялту, с заходом в маленькие порты. Что на него тогда нашло? Они сцепились из-за сущей мелочи, сейчас уже не вспомнишь. То есть это он сцепился, а Валентина из себя не выходила. Шомер бесновался, что-то ей доказывал; она насмешливо глядела, вскинув бровку: да? ну что ты говоришь? цецеце… а мы-то думали. Лучше бы она в ответ орала, у него бы появилась точка для взаимного упора, можно было бы отбушеваться и устать. Но Валентина была как тесто, он увязал в ее могучем равнодушии. И Теодор внезапно вскинул руку (Валя съежилась, как собачка, на которую замахнулся любимый хозяин), сорвал идиотский бантик и выбросил за борт.
Валя взвыла – тонко, больно; обеими руками прикрыла прядь, как голый прикрывает срам, секунда – и она перевалилась за борт.
– Стой, дура, стой!
Бездельники на палубе столпились, стали показывать пальцами: Валя барахталась в море, а платье вздулось над водой, как мокрый шар. Шомер вырвал из гнезда спасательный круг, швырнул жене, и прыгнул сам. Обдало холодом, одежда слиплась, потянула вниз; Валентина отбивалась и кричала, пришлось ухватить ее за волосы и резко потянуть к себе. Как только он коснулся волос, она обмякла, подчинилась, позволила накинуть круг. Но стоило приотпустить, и Валентина снова завелась; тонкий, режущий визг, закатившиеся глаза, руки сами лупят по воде.
Теодор держал ее за волосы, как пойманную мелкую воровку, так и вел к медицинской каюте; толпа, конечно же, глядела в спину, строила пошлейшие предположения; он их люто ненавидел – всех!
Врач, старый жирный грек из Симеиза, все быстро понял, смотал из марли плотную полоску, затянул узелок; прядь торчала, как морковный хвостик. Валентина лежала на врачебной койке, обитой бежевой клеенкой, молчала и, казалось, была ко всему равнодушна; только время от времени беспокойно ощупывала узелок, поправляла его, и покорно опускала руки.
– Вы, пассажир, сходили бы в каюту, и переоделись. А то смотрите, сколько натекло. И жене принесите халат, или что там. А то она в трусах и лифчике, я врач, мне все равно, но ей неловко.
Грек смотрел исподлобья, с презрением; был он весь какой-то неопрятный, сальный, от дрожжевых бугристых щек до тыквенного живота. Шомер неожиданно подумал, что испытывает к врачу всю гамму светлых чувств, которые на протяжение веков его предки питали к этим хитромордым.
– Ей сейчас тоже все равно.
– Так тем более несите. Вам-то, я надеюсь, все это пока не безразлично?
В каюте Валя продолжала молчать. Не с выражением обиды, не обледенев, как леденеет женщина, решившая порвать с мужчиной. А безучастно, тупо.
На первой же стоянке Теодор спросил: ты полежишь? мне запереть, или оставить дверь открытой? Не получив ответа, кубарем слетел по трапу (он чувствовал спиной, как эти твари смотрят и шушукаются, гои, недоумки!), ворвался в промтоварный магазин, умолял девчонку-продавщицу (солидный мужчина! ученый! девчонку!) найти кусочек атласа, но даже ситца не было в продаже.
Перебежал дорогу: тут только наволочки, простыни…
Времени было в обрез, стоянка промежуточная, трехчасовка. Выскочив на улицу «Приморская», он обнаружил вывеску «Молодоженам». Это было ателье, наверняка единственное в городе. За нечистым стеклом образцы: блекло-черный пиджак со стеклярусным, жестким отливом, широкие партийные штаны, пышное искусственное платье, похожее на розочку с пломбира за девятнадцать копеек.
Прилавок пуст; на столешнице – медная блямба. Шомер с размаху шарахнул по блямбе; на звонок из-за пыльной портьеры высунулся маленький портной с шелковыми нарукавниками и кусочком плохо пахнущего мыла.
– Что звоним? Зачем такая сила? Вы брачуетесь? Солидно. Но примерок сегодня не будет. Завтра приходите, со справкой из ЗАГСа.
– Слушайте.
– Я весь внимание.
– У меня есть проблема.
– О! у меня целых три.
– Слушайте. Я не шучу. Мне нужен обрезочек атласа. А лучше нужен бантик.
Портной взглянул на Шомера с сочувствием.
– Ну поверьте. Я не больной. Но мне для больного. Долго будет объяснять. Я с парохода. У моей жены болезнь. Ей нужно вот сюда пришпилить бантик. Так доктор прописал. Прошу вас.
Портной слушал внимательно, губы его шевелились, он, казалось, повторял за Теодором.
– А фамилия ваша как будет?
– Шомер. Теодор Казимирович Шомер.
– А моя фамилия Фиштейн. Постойте тут, я поищу в загашнике.
И через несколько минут принес прямоугольную коробочку, завернутую в плотную бумагу. Одним движением, как фокусник, потянул за кончик и сдернул с коробки обертку.
– То, что вам надо. Зачем-то завезли сюда, а кто тут носит бабочки? Даже на свадьбу, скажите мне?
Шомер влетел в каюту, как будто бы могло случиться чудо, и за это время Валя исцелилась. Жена полусидела на железной койке, ввинченной в окрашенную зеленой краской стену, и смотрела в пустоту. При его появлении не сдвинулась с места, не вскинула голову; вид ее не был мрачным, скорей рассеянным, блаженно глупым, какой бывает у заглядевшегося человека. И от этого сделалось по-настоящему страшно.
– Валя, дай-ка мы тебе повязочку поправим, – лживым сладким голосом приговаривал Шомер. Как будто перед ним ребенок, и нужно влить в него лекарство.
Проклятый грек перестарался; свитая марля была завязана двойным тугим узлом, растянуть его никак не удавалось. Шомер все боялся растревожить Валю, растормошить ее, довести до нового припадка, но она продолжала сидеть равнодушно и смирно.
Только сказала:
– Ты плохо пахнешь. Надо мыться.
А еще бы пахнуть хорошо. После городской пробежки.
Марля поддалась, но обломился ноготь. Отвратительно цепляя ткань, Шомер вытащил из плотной дорогой коробки, пахнущей картонным клеем, галстук-бабочку. Широкий, ярко-синий, в нелепую крупную крапину. Перехватил тугую прядь, вытянул марлевый жгутик, замотал резиночки от галстука, связал их между собой, срезал железные кончики. Осмотрел. Ужасно. Похоже на кокетливые ушки, повязанные девкой из киношного кафе-шантана; не хватает бархатной черной обвязки на горле и юбки воланом, из-под которой торчат неприличные штрипки, а между ажурной обвязкой чулка и шелковым поясом видна полоска сливочной незагорелой кожи.
Почти полгода Валя провела в лечебнице; он приезжал к ней регулярно, раз в две недели, по субботам. А потом они старались не общаться. Появляясь в Питере, Теодор заглядывал к ней в комнату, здоровался, не нужно ли чего; она вежливо и отстраненно отвечала. И так почти что четверть века, даже больше. А теперь вот у нее инсульт.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































