Текст книги "Музей революции"
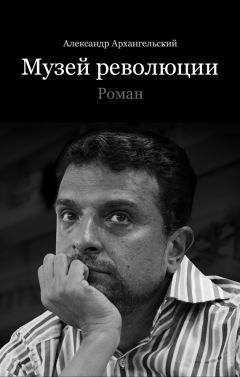
Автор книги: Александр Архангельский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
В ожидании верховного начальства Шомер похаживал гоголем; он милостиво улыбался всем, и областным чиновникам, и краеведам, и карликовым местным олигархам, и по-настоящему богатым москвичам. По-старинному, под ручку, прогулялся по двору с владыкой; шуганул испуганного дворника, ласково щипнул девчонок-подавальщиц. Девчонкам было неуютно в накрахмаленных халатах и платочках, их сдобные тела не умещались в отведенные размеры, но царя не встретишь в чем попало, и поэтому они смирялись, разглядывая пеструю толпу с презрительным подобострастием. Спутник Юлика в ярко-малиновых джинсах и пахучем шейном платке вызвал замешательство и восхищение:
– Ой, как вы одеты интересно. А можно вас сфотографировать? Ни за что соседки не поверят. Сразу видно столичного жителя.
Малиновый пахучий господин оторопел; тем временем его со всех сторон обсняли.
Хозяин ожидался к двум, но только в полшестого раздалось тяжелое гудение моторов. Гости испуганно стихли. Разрывая небо лопастями, над усадьбой завис вертолет; он резко накренился набок и, врезаясь в упорное небо, сделал торжественный круг над усадьбой; вертолет напоминал подростка, нацепившего бейсболку козырьком назад.
Секунда – и он приземлился, а вокруг него доисторически вращалась пыль.
Громадный губернатор, пригибаясь, поспешил навстречу. Лопасти стихли, бешеный ветер опал. По трапу спустился Хозяин; он твердо посмотрел по сторонам, сощурился, как щурится художник, выставляя вперед карандаш, смерил всех насмешливым и цепким взглядом, мимоходом сунул руку губернатору и прямиком направился к воротам. За Хозяином плелась борзая, на длинных развязных ногах; у борзой была походка старого стиляги. Чуть поотстав от борзой, Хозяина сопровождал знакомый Павлу человек, с пугачевской стрижкой вкруговую; ба, да это Шура Абов! Остальные не решались пересечь незримую черту.
На экране, в бесконечных новостях, Хозяин казался сухим, моложавым; в жизни он был полноват и напоминал актера Питера Устинова. На стерильно выбритой щеке пробивалось несколько бесцветных волосков, словно бы оставленных навырост. Он продолжал улыбаться одними губами, изображал домашний интерес, охотно замирал под камеру, но Павел видел, что Хозяину сейчас ни до чего; зеркальный взгляд скользил по каруселям, мастерским, по шпанским сукнам, диванчику Благословенного и Храму Розы Без Шипов, а мыслями Хозяин был не здесь. Порою Абов жестом тормозил экскурсовода и приманивал кого-то из толпы. Хозяин колко взглядывал, сурово слушал, сухо соглашался («Шура, поставь на контроль»), иногда нетерпеливо обрывал («Нет-нет, не думаю, сейчас не время»); один раз горько усмехнулся: «Не проси, не дам, на всех евреев у меня не хватит».
Шомер мысленно руководил экскурсией, проборматывая про себя: «так-так, сейчас веди к амбарам… куда же ты… не надо было это говорить»; при этом он ревниво оттеснил Саларьева и притерся к барскому плечу. Борзая толкала его мордой в ягодицу; Шомер, не оглядываясь, нежно отводил ее большой и мокрый нос. А Павел все непоправимей отставал от общего потока; наконец он смог остановиться. Толпа свернула на Собачье кладбище и скрылась из виду; еще минуту-две за ней, как шлейф, тянулся ровный шум, но в конце концов и он погас.
5Два часа езды на скорости сто десять, и попадаешь в другую страну. Белая ночь отступила, небо стало сумрачным и непрозрачным, в придорожной канаве клубится туман. Издали надвигаются тучи; мрачно идут, затаенно, морды опущены вниз. Сегодня в Приютино явный аншлаг, запоздавшие гости бросали машины в начале музейной бетонки, понимая, что потом не припаркуешься; автомобили, как большие сонные жуки, мирно отдыхают на обочине. Тата все-таки рискует, едет дальше; она внимательно глядит по сторонам, и вот ее награда за терпение: расступается еловый молодняк и манит в уютную норку. Разъевшийся джип не пролезет, хэчбек с трудом войдет наполовину, а юркий, как мышонок, «Мини-Купер», спрячется в деревьях без остатка. Только бы не местная шпана. Только бы не провели гвоздем.
До приютинских ворот – каких-то двести метров; можно перебраться на бетонку, но Тата выбирает путь сквозь сосны. Их шершавые тела скрипят – где-то там, наверху, намечается ветер. Под ногами проминаются иголки, вперемешку с многослойной пылью; в траве назревает ночная роса. Какое незаслуженное счастье – идти по прогретой июньской земле. Просто идти по земле. Туфли покрываются унылым слоем грязи и напоминают непромытую картошку. А все равно – такая радость!
В небе раздается колокольный звон; звонарь затевает пожарный набат, но, явно недовольный слабовольным гулом, сразу переходит на метельный, деревенский; заглушая звон колоколов и с античной мощью поднимая тучи, в небо вертикально поднимается стальное тело: вертолет качает круглыми боками и словно изучает обстановку. Убедившись, что угрозы снизу нет, с облегчением кренится влево и скрывается за горизонтом. Подрезаемые стрекотом вертушки, вновь становятся слышны колокола; через несколько минут они стихают. И наступает давящая тишина.
Зеленые ворота заперты, до калитки шагать и шагать, но Тата знает тайный путь через нутро отеля: если от ресепшена свернуть налево, то попадешь на ресторанную веранду, а с веранды быстрый спуск в аллею. У двери, однако, выставлен охранник: молоденький усталый мальчик, в неловком служебном костюме и с пружинным проводком за ухом. Не успевает Тата испугаться (вот и все, напрасно ехала), как мальчик вдруг склоняет голову и прижимает к уху проводок. Так в толпе прижимают мобильный, осторожно подавшись вперед, что? что вы говорите? тут не слышно. Кивает головой невидимому собеседнику и широко, самодовольно улыбается. Оцепление снято! Дежурство окончено! Отдых. Он весело выдергивает свой пружинный провод и, цокая подбитыми ботинками, идет на ужин.
А Татьяна проникает на веранду. На столах затеплены жирные свечи; фитили расплавили их восковую плоть и теперь огонь шевелится внутри. Сладко пахнет пасекой, дымящейся спиралью против комаров и дорогой сигарой. С улицы, со стороны аллеи, на веранду поднимаются мужчины: сутулый человек расплывчатого возраста, со стромодной стрижкой вкруговую и густыми неопрятными усами, и три высоких сильных старика. Один в солидной рясе, со сверкающей алмазами иконой, другой в двубортном полосатом пиджаке, а третий – их дедушка Шомер. Татьяна резко подается в тень, но дедушке сейчас не до нее. Щекастый тяжело сопит в усы и тонким голосом велит: «располагайтесь». Старики садятся, демонстрируя взаимную покорность, а он продолжает зудеть: вы чего, соображаете, что делаете, а? этот ваш священный пидорас… да-да, б’дь, по имени Юлий… нашли тоже Цезаря. Он на этот праздник жизни как попал? Вы его зачем сюда позвали? Да еще в присутствии Хозяина. И в такой великий день. Вы что, не в курсе, кто за ним стоит? Нет, не знаете? А надо знать.
Старики униженно кивают. А Татьяна чувствует себя задетой – лично; она обижена за дедушку и ненавидит этого, с усами. И скорей отправляется дальше, сквозь быстро нарастающую темноту: не видеть, не слышать, не знать.
6Интернет сегодня не работал, но базу данных для «Флешбека» Саларьев загодя согнал на жесткий диск. Несмотря на то, что в мире стало неспокойно, работа над проектом продвигалась; студенты, нанятые Ройтманом в Мумбаи, отыскали сотни тысяч писем и открыток, самостийно выложенных в интернете. В Штатах и Австралии, в России и Гонконге люди после смерти бабушек и дедушек разбирали старые бумаги, находили перевязанные пачки писем; дергали веревочку за ненадежный хвостик, вываливали старые конверты и до полуночи читали переписку – на желтой бумаге в косую линейку, четвертушках роскошной верже с водяными знаками, оборотах почтовых открыток. А потом включали сканер, и, прокатывая плоский синий свет, выводили на экран страницы. Паковали в тяжелые файлы, выпускали в открытые сети… Зачем и для чего? А просто так. После чего заказанная Ройтманом программа просвечивала эти файлы, находила сотни совпадений и рассылала предложения о переписке: ваш прадедушка N. 14 августа 14 года находился на призывном пункте в деревне Шонефельд, вместе с прапрадедушкой D., предлагаем взаимную дружбу.
Павел так увлекся, что очнулся в сумерках; в комнатке царила духота, между стекол колотились мухи, а вокруг прицельно зависали комары. Саларьев вышел продышаться; воздух по-июньски остывал, но земля, как полы с подогревом, выпускала из себя тепло.
Мимо флигелька прошел Галубин. Белый холщовый пиджак и желтые широкие штаны были в травяных зализах; полное лицо слега припухло; Галубин был весьма сердит.
– Старик, – сказал он сипло, – слушай. Я, конечно, все могу понять. Твой драгоценный Шомер захлебнулся в собственном величии, с него и взятки гладки. Но ты-то, ты-то?!
– Что – я? – изумился Саларьев.
– Так, – сиплый голосок Голубина набряк. – Будешь мне ваньку валять. Лев Николаевич в гробу перевернулся, а ты! И зачем я только к вам приехал.
Повернулся, плюнул и ушел. Что там у Галубина случилось? Чем его в Приютино обидели? Раздасадованный странным разговором, Павел возвратился в кабинет. Но заново войти в работу не успел: в дверь нетерпеливо постучали. Мол, свои, имеем право, отворяйте!
На пороге стояла Татьяна. Кровь бросилась ему в голову; он не знал, что нужно делать, радоваться или ужасаться.
– Ты?! Здравствуй, Таня, проходи. – И отступил на несколько шагов вглубь комнаты.
Она улыбнулась просительно и тоже шагнула навстречу. Тут же спохватилась, суетливо вздернулась.
– Ой! Слушай, ну я идиотка! Я же тебе привезла твой компьютер, ты его забыл в кабинете… и оставила в машине. Подожди тут, только не уходи, я быстро, я вернусь.
– Да куда же ты! потом.
Тата откликнулась эхом, как будто только этих слов и ждала:
– Ты прав, ну конечно, потом!
И оба замолчали, как чужие, не зная, как начать и чем продолжить этот разговор.
Павел выдавил пустой вопрос:
– Как живешь?
– Нормально живу. А как ты.
– Тоже вроде ничего.
Вновь установилась тишина. Люстру они не включали, только горела настольная лампа и светился безликий экран. В этом двойном, неравномерном освещении Тата казалось подкисшей и жалкой; она как будто боролась с собой – было видно, что ее начинает бить дрожь.
– Паша.
– Что, Таня?
– Паша! – она приблизилась вплотную; ее родное нелюбимое лицо было так близко, что делалось смертельно страшно, как в детстве перед первым поцелуем.
– Паша! Что же мы делаем? Я люблю тебя, Паша. Милый мой Паша.
Она обняла его за шею, крепко-крепко, зажмурилась, и быстро вжалась в губы своими теплыми и влажными губами. Павел из последних сил не отвечал, потому что еще полсекунды – и он бы начал плавиться в желании. А он ни за что не хотел возвращаться. Жалел эту милую женщину, очевидно, лучшую на свете, незаслуженно подаренную ему, умирал от стыда перед ней, но возвращаться – нет, и ни за что, и никогда.
Внутренне окаменев, Саларьев снял ее руки с плеч и мягко отодвинул Тату.
– Нет, я не могу, я не хочу.
Она вся сжалась, стала как просящая еды старушка.
– Чего ты не можешь и не хочешь? Чего?
– Назад не хочу. Домой не хочу. Все поздно, уже ничего не изменишь, меня нет, это другой человек.
– Да какой же другой человек, черт тебя подери! – крикнула Тата, заплакав.
– Не знаю, какой. Но отдельный, – ответил Павел.
– Это из-за нее, да, из-за нее? Но ведь она ушла, я знаю, можешь меня презирать, я следила! Да, я следила! потому что я хочу смотреть на все, как ты! Не ври мне, не ври, я не верю!
Павел снова начал колебаться, но пересилил себя, и сказал:
– В том-то и дело, что я не хочу тебе врать. Если бы хотел – насколько бы мне было легче… Послушай, Тата, я не из-за этой девушки… С ней у нас не вышло ничего, почему – неважно, но не вышло.
И вдруг испытал катастрофическое облегчение; стало свободно и страшно, как будто несешься с горы; быть честным – разрушительное счастье.
– Да знаю, знаю, – сквозь слезы ответила Тата. – Я же тебе во всем призналась, я следила.
И вдруг отшатнулась в полнейшем ужасе:
– Значит, ты меня уже не любишь?
– Нет, не в этом дело, Тата. Нет. Я просто понял про себя одну страшную вещь. Я не тебя не любил. Я еще вообще никого не любил, никогда. Может быть, только себя, да и то сомневаюсь. И вдруг я полюбил, так получилось. Ты говоришь, не ту? Она ушла? Ну да. Но я – полюбил. Неважно, кого и за что. Но я теперь как волк из зоопарка, который попробовал крови. Ты понимаешь это?! Ты понимаешь?!
Тата перестала плакать.
– Я понимаю, я все понимаю… Господи! Как стыдно! Что же делать-то теперь, что делать…
И выбежала из Пашиного кабинета.
7– Ох, – внезапно выдохнул епископ.
И замер, как в игре «замри – умри – воскресни». Голова скосилась набок, правая нога не гнется; вместо властного, хитрого старца – жалкий разлапистый дед.
– Владыка, что с тобой? – перепугался Шомер.
Петр прошелестел губами:
– В спину вступило. И шея…
– О, это мы недавно проходили… Ну-ка быстро ко мне, за лекарством… или нет, постой… туда ты не дойдешь, туда по лестнице. Лучше здесь передохнём, таак, осторожненько давай… вот тааак… направо.
Они зашли в ближайший кабинет. Дверь оказалась отперта; комнатка была завалена коробками и книгами, на столе громоздились экраны, змейками ползли шнуры, все было вздыблено, всклокочено и грязно. Директор доволок епископа до кресла, а сам помчался в Главный Дом, и через три минуты возвратился с кожаным футлярчиком аптечки. Стесняясь, завернул епископу подол, но распустить ремень и расстегнуть ширинку не решился; воткнул иглу через штаны. Епископ мелко вздрогнул; он смотрел на Теодора по-собачьи, доверчиво и напряженно: ну ты же меня не обидишь? Лекарство было сильное, швейцарское; через минуту он порозовел, осторожно повел головой.
– Уффф, а я уже подумал, все: инсульт и все такое. Помню, как в двухтысячно десятом… нет, в двухтысячно девятом… или нет, в восьмом. Скрутило так, что в туалет ходил по стеночке. А приехали твои евреи, положили на тахту, размяли… И оказались, так сказать, одними из единственных, которые. Наши, так те ничего. А эти, понимаешь, да…
Они немного посидели, помолчали; день сегодня был тяжелый, важный. Особенно когда в конце недолгой церемонии, поздравив всех троих лауреатов, Хозяин сунул руку в боковой карман и вытащил продолговатые листочки, исписанные нервно, от руки. Все смолкли. Сидевший от Хозяина по правую руку, Теодор взглянул через плечо и разглядел катастрофический жестокий почерк – большие, но как будто сдавленные буквы налезали друг на друга, фиолетовые строки торопливо загибались вниз.
– Еще раз поздравляю, – клочковато, как бы неохотно произнес Хозяин. – Люди вы заслуженные, делаете важное дело. Мы вас поздравили, и поздравляем и еще поздравим. Но… – на этом «но» Хозяин сделал смысловое ударение, и огромные, на выкате глаза сверкнули. – Мы находимся в месте, которое связано с историей нашей страны, нашей родины, нашей России. Так я говорю? Верно?
Он бросил взгляд на Теодора и епископа. И подтвердил:
– Разумеется, верно. И где как не здесь сказать о той опасности, которая нависла над Отечеством.
Хозяин резко перелистывал странички, и с каждым новым перевернутым листом в зале нарастало ощущение тревоги. Отозвать посла из Монреаля, привести войска в повышенную боеготовность и ответить каждому, кто попытается… А когда он закончил словами «Родина требует жертв», в зал, как будто по команде, влетели два десятка девок, в эротических зеленых гимнастерках и пилотках с советскими звездами. «Родина требует жертв! Родина требует жертв!» – закричали они истерично, а Хозяин улыбался сжатыми губами, и ничуть его все это не смущало, как, должно быть, шуты не смущали царей. Но Шомер, к сожалению, не царь. Шомер, к сожалению, не царь и не Хозяин. Он музейный директор. Он, наверное, отстал от жизни. Про войну он как-то в состоянии понять, а про девушек в зеленых гимнастерках – нет, увольте.
– Не нравится мне это, – владыка первым вышел из задумчивости. – Не нравится, – повторил он упрямо, словно убеждая самого себя. – Нет, ну мы, конечно, все такое. Родина в опасности, и так сказать. Но ты-то понимаешь, Теодор, что происходит?
– Не маленький.
– Вот-вот, и я о том же. Ну да ладно, чему быть, того не миновать. Надо будет Подсевакина послать за солью… А и ты, я вижу, человек запасливый. Что там у тебя за бутылочки стоят?
– Где стоят?!
– На полке, не видишь?
– Я близорукий.
– А я дальнозоркий.
Шомер пошарил рукой, нащупал пыльные бутылки.
– Ох ты, ничего себе запасец. Просто провиантский склад.
– Ну-ка подай, погляжу.
– Владыка, слушай, но они чужие.
– Ты как будто в школе Горького не проходил. Если от многого взять немножко, то – что? – Владыка сделался гостеприимно-весел, как будто дело было не в Приютине, а в его уютной резиденции.
– То это не кража, а просто дележка, – рассмеялся Шомер, радуясь памятной с детства цитате.
Епископ повертел кургузую бутылку шоколадницы, изучил этикетку на штофе, велел:
– Отворяй-ка, друг мой, запиканку, мы ее с хохлами пили в академии, гадость, доложу тебе, невероятная.
Шомер возражать не стал; ножницами надорвал жестяную пробку-бескозырку, освободил затянутое горлышко, и по комнате разнесся сладковатый мутный запах. На вкус крепленая бурда была похожа на разбавленный портвейн. Не спотыкач, не старка, не перцовка, но для сельской местности сгодится. Закусили пересохшими орешками; налили по второй, по третьей, и застоявшаяся кровь пришла в движение.
– А теперь мы пойдем погуляем. – Владыка начал говорить командным тоном; видно, хмель ему ударил в голову.
Они шагали крупным стариковским шагом. Под ногами колебался гравий; после быстрого июньского дождя одуряюще запахли смолки, неопытные соловьи стыдливо начинали петь и тут же умолкали; зудели мелкие занудливые комары. Но ветер становился холоднее; он завихрял сырые сгустки воздуха. Издалека донесся диковатый посвист; так полосуют ствол на лесопильне.
– У тебя тут что ли пилорама?
– Пилорамы у меня тут нет. Это что-то другое, – ответил испуганный Шомер.
Они пошли на этот неуклюжий визг; от низа живота в грудную клетку поднималось мерзкое предчувствие, сердце билось туго, с перебоями. Что-то происходит возле храма, а сегодня, как на зло, прийти на помощь некому, даже в роли звонаря пришлось использовать секретаря владыки. Подсевакин был не очень-то доволен, но смирился.
Храм сиял в скрещении прожекторов. А внизу, под четырьмя опорными столбами, медленно клубилась чернота; казалось, храм оторван от земли. И что-то здесь происходило непонятное. Фотографы трассировали вспышками; солидный, корпулентный оператор зависал над маленькой носатой камерой; прорастая глазом в окуляр, он вел ее за ручку по железной рельсе. Возле старенького «туарега» кучковалась группа молодежи: растянутые кофты с капюшонами, широкие приспущенные джинсы, на ногах разлапистые кеды. Кто дал им разрешение на съемку? Кто они такие? Ну-ка…
Шомер сделал резкий шаг навстречу, но тут включилась нижняя подсветка, и он не смог поверить собственным глазам. В нижней части храма, под высокими опорами столбов с партизанской веселой сноровкой сновали какие-то люди, подозрительно похожие на цирковых. Один мужчина путался в поповской рясе, поправляя рафинадный куколь; другой был в шелковой чалме, напоминающей ночной цветок пиона; третий, высокий и полный, нацепил резиновую маску президента, и держал в руках визгливую носатую пилу. До чего знакомые фигуры; ба, да это же художники, которых он выставил месяц назад?! С шутовским надрывом прокричав «родина – требует – жертв», человек, изображавший президента, включил пилу и слега куснул зубцами столб; раздался истошный вопль владыки:
– Что делают, отцы, что делают!!! Стой, гаденыш, я тебе сейчас!!!
8Оператор – профессия сдельная. Редко-редко удается оторваться от заказа и пуститься в свободное творчество, доверяя собственному глазу, который умнее тебя. Такие моменты смакуешь. Однажды он снимал документальное кино про постаревших членов гитлерюгенда, все шло неплохо, по стандарту: интервью, перебивки, жанр; работа как работа, ничего особенного. Но в последний день случилось чудо. Ранним утром группа вышла из гостиницы, а по Берлину стелется туман, низкий, в половину человеческого роста; люди идут сквозь него, как будто плывут в облаках… Оператор, не теряя ни секунды, выставил камеру, настроил фокус, снял общий, крупный, средний, и сосредоточился на лицах, растерянных, каких-то детских; ненатужный символ поколения, ничего не надо объяснять словами, картинка говорит сама собой… Вот это – творчество. Вот это – настоящее.
Сегодня он не ждал особого художества, просто нужно было заработать денег. Получил от режиссера смс: валерик есть работа срочная две смены за одну срывайся, бросил все, помчался на Литейный; в старой питерской квартире, с рыхлыми карябаными стенами, роскошными немытыми полами из цельной дубовой доски, собрались молодые художники, возбужденные, как будто накурились. Матерились, наезжали друг на друга: «ты тупая, нет, я не тупая! ты останешься с ребенком! нет, не останусь, у меня, б’дь, тоже есть место в истории!». Оператор слушал вполуха; его дело – работать глазами. Он смотрел на трещины в прекрасных древних окнах, на мучнистое небо, пока режиссер не оборвал разговоры: значит, сценарий такой. Едем в это самое Приютино. Дожидаемся отмены оцепления, заходим через задние ворота, возле церкви выставляем камеру. Вова-старший надевает рясу, Химик будет в чалме, Олег переоденется Хозяином. Подключаем к динаме пилу. Нет, не циркульную, а такую… знаешь, с длинным языком. Круглая в кадре не смотрится, от нее не страшно. Олег вопит «Родина требует жертв» и с пилой бросается на сваи. Типа рушит опоры. Типа вот к чему ведет война. Слегка цепляет сваю этим самым языком; еще кричит, еще цепляет. Только осторожнее, Олег – мощность 2 400, и весит огого, одно неверное движение, и полный и беспримесный капец. Как только набрали картинку – мотаем. Готовьтесь, что потом повяжут всех. Зато не промолчим. И весь мир про нас узнает. Так, Алеша, звони журналистам…
Затея оператору не нравилась. Но деньги были нужны позарез.
Доехав до места, в Приютино, он отвел режиссера в сторонку.
– Слушай, тут такое дело. Короче, давай напишем соглашение, в простой письменной форме. Что я нанят на работу, для съемок эпизода… типа постановка… ну чтобы мне потом не отвечать.
Режиссер с презрением зыркнул.
– А деньги тоже с выплатой налогов? Через кассу? Или все же наличманом?
– Ну ты же все понимаешь.
– А, хрен с тобой. Листок есть? А ручка? Какой ты запасливый.
Но стоило начаться съемке, и оператор сразу позабыл о риске; он был нервным окончанием картинки, это все происходило с ним, он не просто фиксировал сцену, а был внутри нее, словами тут не объяснишь. И как только появились эти стариканы, он почувствовал: тема пошла. Нужно было снять во всех подробностях, как высокий бородатый дед пытается отнять пилу у этих; эти дразнят старика, пила воспаленно визжит, высокий дед отскакивает в сторону, как кот, которого турнули со стола; но ведь какой упрямый, нападает снова, толкает мужика с пилой, тот хочет удержаться на ногах и упирается пилой в опору, путается в рясе, а пила визжит…
Ой, что сейчас будет!
– Атааас!
Раздался грузный треск, и оператор, сам себе завидуя, поймал ту самую секунду, когда надломилась опора. На месте слома выпросталось облачко, густое, как морозное дыхание; дерево как будто выбросило из себя остатки жизни – и просело. Здание с животным стоном накренилось; как воздушный шарик, лопнул второй столб; отлетели яблоками купола, а острая вершина, похожая на вышку линии электропередачи, повалилась, беспощадно вспарывая воздух. Страшная, а все же красота. Жалко, что снято в режиме; всего величия происходящего – не передашь.
Оператор с сожалением закончил съемку, и только тут к нему вернулась способность реагировать на происходящее. Он увидел, что у основания обрушенного храма торчат обломки четырех столбов, как выеденные старческие протезы; между ними – грудой – стесанные бревна, которые пытается оттащить другой старик – лысый, в темном пиджаке.
Корреспондентка, белая от ужаса, как будто бы лишилась дара речи – и отчаянно показывала жестом: вещи – в кофр!!!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































