Текст книги "Избранное. В 2-х томах. Том 2"
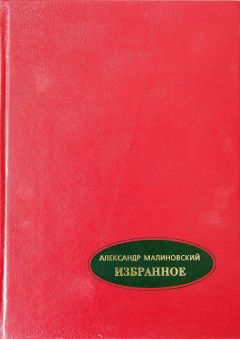
Автор книги: Александр Малиновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
5
– А хошь, я расскажу тебе, как я первый раз ходил со своей будущей женой Зинулей в городе в кино? Я тогда после училища только что начал работать на стройке. Парень был хоть куда. На Куйбышевской в кинотеатр «Ленинский комсомол» взял два билета – и мы в фойе. Все было в порядке, если бы черт не дернул меня угостить мою даму сердца сладким. Я попросил в буфете двести грамм конфет. Крашеная дамочка заявила, что конфет нет. Меня аж взорвало: «Как нет, все витрины ломятся от конфет». «Это же бутафория», – отвечает. Смотрю на этикетки, названия не разобрать, а цена четыре с полтиной. Ну нет, думаю, мы не слабаки, нас ценой не напугаешь, тем более такое название красивое. А дамочка так испытующе на меня смотрит. Был я парень фасонистый. Девчонка рядом. Ну, думаю, знай наших. Отвечаю небрежно: «Ну и что, коли бутафория, у нас деньги имеются. Пожалуйста, быстренько полкило бутафории отпустите…» Думаю, крепко нам повезло, что зазвенел звонок и под общий шумок моя Зинуля быстренько меня за рукав утащила в зал.
– Дядя Петя, расскажи лучше о своих нынешних городских делах, – просит Мишка.
Шурка стоит рядом около огромного вязового, изуродованного несколькими попытками его расколоть, чурбака – забежал на минутку к Мишке за резиновым клеем.
– Садись, Шурк, – сказал приветливо его друг, – это мой родной дядька, – заважничав, доложил он. – Строитель, да еще известный, с Мироновым работал, геройским человеком.
Александру непонятно было, о чем говорит его друг. Дядьку Мишки он видел в первый раз, хотя много о нем слышал, даже в газетах областных о нем писали. А фамилия «Миронов» не попадалась.
– А, Ковальский, садись, брат, я тебя помню и отца твоего немного знал.
Шурка сел на шершавый массивный пенек, обхватил впереди обеими руками ручку увязшего в сучках колуна, торчавшую как ружье.
Он во все глаза смотрел на гостя. Плотный, широкоплечий с красивыми залысинами на крупной голове, тот вовсе и не походил на своего родного брата, отца Мишки, Григория. Его будто кто подчистил, поскоблил, будто прогнал на каком-то станке. И фигура его, и манеры, и цвет лица были другими – городскими.
И лишь на левой стороне лица от уха до самой ключицы, выглядывавшей из расстегнувшейся на две пуговки сверху рубахи, было огромное пятно, грязно-коричневого цвета с множеством рубцов – след, очевидно, давнего ожога.
– Ты, Петро, скажи, с Василием Марфиным-то получается? – Григорий пыхнул беломориной и выжидательно посмотрел на брата.
– А ни хрена, ничего не получается, братишка. Трудное это дело оказалось – доброе имя восстановить.
– Но ведь были же свидетели, кроме тебя.
– Были, но что вышло: теперь и улица Миронова в городе есть и улица Сафразьяна, а он, как преступник, только оттого, что именно он зажег спичку тогда в подвале бытовки. Он забыт напрочь. Не только забыт, он – основной виновник. Но ведь спичку мог зажечь и я, я был почти рядом тогда.
– Как же все-таки он умудрился, зачем, а? Ведь бывалый человек, – удивился Григорий.
– У него – насморк и температура около тридцати девяти; ему бы дома лежать, но Сафразьян, видишь ли, бывший военный, член коллегии министерства нефтяной промышленности, приехал с инспекцией из Москвы. Осмотр объектов начался около шести утра. Попер он в эту чертову бытовку и нужды-то в этом не было… Василий с января пятьдесят первого года руководил строительством нефтеперерабатывающего завода близ станции Липяги – крупнейшего в Европе. Все вопросы к нему. Они все вместе и были, в том числе начальник Марфина Петр Игнатьевич Миронов. Хотя они с Василием не очень ладили. Независимым был очень Марфин. Щепетильным, я уважал его за это. Но это другой разговор.
– Закурили? – не выдержал Мишка.
– Да нет, – горько махнул рукой дядька Петро, и на лице его была такая боль, как будто это только что случилось, а не 11 августа 1954 года, около шести лет назад. – Не закурили…
Помолчал, посмотрел чистыми синими глазами на Мишку и сказал:
– В подвале бытовки было темно, спустились, сгрудились, я был повыше, поближе к выходу. Слышу Сафразьян приказывает: «Зажигай спички!» Кто-то в ответ: «Здесь газ!» Сафразьян вновь Марфину: «Зажигай! Или испугался?» Многие чувствовали газ, простуженный Василий – нет. Под окрик он и зажег. Произошел взрыв. До машин мы дошли сами. Некому было и помогать-то. Время раннее. У медсанчасти вышли из машин – вереница почти голых людей. У Василия было девяносто пять процентов ожога. Ему не было и пятидесяти. Он держался. Первыми умерли Сафразьян, Миронов, затем Вдовин – главный инженер. Самоотверженные все люди. Но вот так получилось. Газеты сделали тогда, после взрыва, свое дело – в памяти всех осталась причина трагедии: «зажег спичку». А ведь Василий Марфин был одним из первостроителей промышленности СССР, строил заводы в Грозном, Майкопе, Ярославле, Москве, Уфе, Орске и вот последний – в Новокуйбышевске. Мы с ним многое вместе пережили. И институт один в Москве кончали, только я на пять лет позже. Потом судьба в Ярославле соединила.
Шурка смотрел на говорившего и не верил сам себе: перед ним сидел, казалось бы, простой человек, утевский, брат Мишкиного отца, колхозного конюха, и вдруг такие события, города, имена незнакомых, но героических людей. Его внимание не споткнулось остро на той боли, которая была в дядьке Петре от несправедливости по отношению к незнакомому ему Марфину, это была как бы часть большого целого, а целое было нечто такое, что можно было назвать: геройский труд, самоотверженность – все то, что было в конце концов победоносным и значительным. Еще не пришло его время, когда он задумается об этом так же остро, как этот красивый, спокойный и уверенный в себе, но придавленный несправедливостью, человек. Задумается над ценой, которая стоит за героическими и самоотверженными делами.
– Мне через три года будет шестьдесят, – проговорил задумчиво Петр. – Пока еще я кое-что значу, пока я не только заслуженный строитель СССР, но и просто строитель, мне надо реабилитировать Василия. А стану через три года пенсионером, никто слушать не захочет. У меня есть выписка из заключения по несчастному случаю, там указан в виновных член комиссии Сафразьян, давший приказание зажечь спичку в подвале бытовки нефтеперерабатывающей установки.
– Дядь Петь, нам с другом интересно, что сегодня делается, – настырно напирал Мишка.
– Нынче? – переспросил старший Лашманкин. Зорко посмотрел поочередно на обоих и, помолчав, сказал: – Я, браточки, нынче нахожусь там, где ворочается пока в пеленках огромадный младенец, который скоро окрепнет и заявит о себе.
– С какой загогулиной говоришь, – усмехнулся Григорий.
– Точно, брат, – быстро отреагировал Петро. – Когда нефтеперерабатывающие заводы строил, так не думал, то ли моложе был, общий порыв, то ли крепко нефть, бензин, керосин стране нужны были – не рассуждал. А вот нефтехимия пошла – задумался. Больно мы круто бежим в искусственное, синтетическое. Так ли надо? Ну да ладно, это для меня вопрос пришел, а вам… каждому свой срок…
– Сейчас-то чего строишь? – переспросил Григорий.
– В марте прошлого года сдали в эксплуатацию цехи фенола и ацетона, альфа-метилстирола на заводе синтетического спирта, заканчиваем строительство производства полиэтилена. Это будет огромный завод и интересный. Ступенью выше нефтепереработки. Здесь поселок Нефтегорск – центр местной нефтедобычи, там Новокуйбышевск – будущая столица нефтехимии области. Первая очередь спирта освоена в пятьдесят седьмом году, в пятьдесят девятом директору завода, женщине, присвоили звание Героя Социалистического Труда. Федотова Анна Сергеевна ее звать. Замечательный человек.
– Мужики, вы так ладненько сидите калякаете, а я все жду: щербу разливать или нет? – Мишкина мать выглянула из сеней.
– Разливай, разливай, – закивал головой Мишкин отец. – Заговорились.
– В избе есть будем или во дворе?
– Давай, брат в избе, солнце печет, – поежился знатный гость.
– А, может, вон под карагач стол поставить, там тень? – предложил Мишка.
– Ага, во это будет здорово, – подхватил Григорий. Гость не возражал.
Когда все встали, Шурка и Мишка пошли в мастерскую искать клей.
– Может, останешься, мамка сказала, на уху?
– Не, Мишь, я так давно ушел, там велосипедная камера зачищенная осталась на пороге. Куры теперь затоптали.
…Шурка быстро шел вдоль переулка, а перед глазами стоял гость из Новокуйбышевска. Будоражили слова его: фенол, альфа-метилстирол, ацетон. Размах и масштаб деятельности удивлял. Рядом совсем ворочалась огромная машина: в Нефтегорске, в Новокуйбышевске, Ставрополе. Вершилось небывалое и захватывающее. И в этом небывалом участвовали бывшие жители Утевки.
Ему вспомнились снова слова дядьки Петра: «…А я многих к себе тогда перетянул строить Новокуйбышевск, строителями сделал. Если б твой, Александр, отец не был инвалидом – и его бы забрал. Я отца его хорошо помню, Федора, крепкий и смекалистый был, ему образование получить, и он как минимум мог быть управляющим трестом. Дюже мужик самостоятельный был. Азоркин, Берлин, Кувшинов, Чураев – они все в город подались».
«Если б не инвалид! Если б да кабы! Отец мой и здесь не пропадет. С тех пор как он стал сторожем в клубе, все кресла отремонтировал – в зале, столы, стулья – в фойе. Даже вешалку в гардеробе и ту сделал по своему, сам. Ему постоянно не хватает работы. Он ее ищет! За ночь помогает матери: подметает пол во всем клубе, заправляет дровами большущие голландки. Когда надо выгребает и выносит золу. Его в клубе зовут, кто ночным директором, кто домовым».
Любаев удивлял всех, кто бывал с ним рядом, хваткой в работе.
Казалось, он торопился утолить свой аппетит, помнив то, что он не доделал, пролежав около семи лет в госпитале. У него были ко всему свои мерки. Так в паре с Катериной они и работали в клубе: сторожили и отапливали очаг районной культуры, потихоньку став как бы неотъемлемой частью его. Менялись директора дома культуры, художественные руководители, а Любаевы оставались при исполнении своих обязанностей. Такая вот работенка да скотина во дворе помогали им растить своих ребятишек. «Не тот богат, у кого много, а тот – кому хватает», – говорил, бывало, Василий Любаев, бодрясь.
Но, по правде говоря, чтобы «хватало», надо было крутиться безостановочно. А что делать?
Все это напряжение матери и отца, их стремление, не жалея себя, одеть и обуть детей, накормить и непременно дать десятилетнее образование приводило Шуру Ковальского к трепетному и безоговорочному уважению своих родителей… Он давно выработал себе установку: подчиняться и не возражать даже там, где они порой, казалось, были и не правы.
Всю физическую работу, которая выпадала на его долю и которую сам успевал находить, исполнял как обязательную. Александр был старший из детей и постоянно об этом помнил.
Мать часто помахивала опущенными руками – ломили кости от ведер с водой, от тяжелых дров, от мытья полов в клубе, но сама всегда была веселой. Когда она заходила в магазин, где был народ, либо в другое место, большинство приветствовало ее и тут же завязывался какой-нибудь шутливый разговор, сопровождавшийся смехом. Этому он всегда удивлялся. Удивлялся тому, как мать сходу начинала разговор, который почему-то враз превращался в такой необходимый для большинства. И его тема будто только и ждала вмешательства Катерины Любаевой…
Он уважал своих родителей безмерно. Кто заложил в него это? Школа? Но там главенствовал менторский тон учителей, который больше отпугивал. Кино, книги? Да, отчасти, может быть. И только. Сами родители? Но им некогда было воспитывать, им надо было работать. Да и образование у них – на двоих три класса…
…А Мишкин дядя Петя этим вечерком пошел посидеть на Шум, сомят пощупать, как он сказал, да и мольберт захватил, «вдруг настроение будет: то местечко с березкой, которое облюбовал в тот раз, зацепить».
Большой груз свалился с его плеч. Производство полиэтилена, которое они строили в Новокуйбышевске, комиссия приняла, теперь уже шли пуско-наладочные работы и можно было отдохнуть, что он и делал, вырвавшись к брату Григорию в деревню. Такая возможность была очень редкой. Он порой просто тосковал по Самарке. «Старею, – признавался сам себе. – К земле потянуло, у городских это позже приходит, если вообще приходит, а тут корешки-то дают знать».
Последний год Петр Сергеевич стал задумываться над самыми, казалось бы, простыми вещами.
– Вот полиэтилен, – говорил он своему заместителю, – это все прекрасно, но ведь это не только прогресс, рывок вперед, но и отрыв от натурального. Все скоро будет подчинено тому, что отрывает, уносит нас дальше и дальше от природного к синтетическому. Будет ведь скоро и язык синтетический, вернее, на эсперанто начнем говорить. Вон немцы, которые вели шеф-монтаж на полиэтилене, они же за это. А что им – лишь бы технологии свои у нас внедрить, на нас заработать, а там хоть на каком языке, деньги они все оправдают, по-ихнему.
Петр Сергеевич вспомнил, как рассмеялась директор завода Анна Федотова, когда он ей после одной из строительных планерок сказал о своих думах.
– Да ты, Сергеич, оппортунист чистой воды, ей богу. И мне с тобой строить, когда ты не веришь в то, что делаешь?
«Не зря она еще в девятнадцатом вступила в партию, а в двадцатом служила в ЧК. Стойко уверена в себе и в своем деле, но я ведь тоже…» – подумал он и хотел было уточнить свою мысль, но ему на помощь пришел его начитанный умница, заместитель Рощупкин.
– Я помню, один из великих сказал: когда кто-то идет не в ногу, не спеши осуждать его, возможно он слышит звук другого марша!
– Что? – удивилась Анна Сергеевна. – Нам надо вкалывать, а ты предлагаешь чужую музыку слушать, – наигранно-грозно чуть не вскрикнула она. – Ну, вы и демагоги, у вас же у обоих рабоче-крестьянское происхождение?! А вы, чужую музыку слушать, какую?
Она вскинула голову и ее коса дернулась на груди… Рассмеялась, показывая, что и она включилась с пониманием в эту игру-розыгрыш и продолжила:
– Слышите марш инквизиторов? Которые сжигали ученых, не позволяя науке двигаться вперед, а раз науке, значит, и обществу в целом!
– Мы о чем-то говорим не очень ясном, по-моему, – улыбнулся Рощупкин. – Я попробую сформулировать то, куда мы попали в своем невольном разговоре. Мы начали искать смысл, ну вы, Петр Сергеевич. Если говорить о смысле нашей конкретной деятельности, строительстве производства полиэтилена, то тут все ясно – не построим, получим кроме всего по партийной линии. И крепко! Это определенно. – Он хихикнул совсем по-мальчишески, и Петр Сергеевич, глядя на него, подумал, что наверняка его заместитель в молодости был большой философ и спорщик. – А вот в плане общего смысла. Поиск общего смысла тянет человека, извините, в болото, ибо в конце концов можно уверовать в бессмысленность всего вообще. Остановитесь, не ищите смысла. Его не найдешь. Его поиск так же нелеп, как и поиски сухой воды.
– Ты, брат, увел разговор в заоблачную высь, воспарил, а я конкретно о технизации, не погибнем ли в ней? – уточнил свою позицию Петр Сергеевич.
– Мужики, я боюсь, глядя на вас, вы так задумались, что вообще ничего с вами не построишь, – расхохоталась директор. – Дурите меня, старую, что ли?!
…«А вот построили, да еще досрочно, и областные газеты уже раструбили об этом», – улыбаясь подумал Петр Сергеевич, пристраивая длинное удилище между двумя ивовыми прутьями, как раз напротив омутка, который он быстро нашел наметанным глазом опытного рыбака.
6
У Мишки Лашманкина дядька известный строитель, а у Ковальского его двоюродный брат Володя Пудовкин – летчик. Пока, правда, неизвестный и молодой.
– Послушай, что я тебе скажу: будущее за образованными людьми, понимаешь? Рабочий и колхозница хороши, но надо, чтобы в стране была интеллектуальная сила. Ее всегда, эту силу, давили, но за ней будущее. Понял, голова?
Александр слушал Владимира, но не вдумывался крепко в его слова.
Было и так вроде все понятно: надо учиться и все тут.
Они сидят вдвоем на мыске Ледянки на Самарке, где случайно встретились – Ковальский ехал домой с сенокосного стана за продуктами – и разговаривают. На круче сверкают в закатных лучах два велосипеда. За их спинами, за Полоузном ключом, ближе к Кунаеву пошумливают приглушенно голоса. Наверное, рыбаки с ночевкой.
– Родители только ради нас живут, ты видишь?
Да, самоотверженность его родителей не давала Александру быть бездеятельным. Он всегда чувствовал себя так, будто что-то где-то не все сделал, что мог. Не так помог. Поэтому ему нечего было возразить, он только согласно кивнул головой, своему случайному наставнику. Не так уж часто они виделись, а тут приехавший на два дня летчик сидит с удочкой, как самый простой мужик в простой фуфайке, говорит тихим голосом и постоянно улыбается.
Александр мысленно порадовался тому, что Владимир сказал то, о чем он в последнее время часто думал и сам. «Значит, и Володя Пудовкин ищет объяснения». Это было важно, но он ни с кем на эту тему еще не говорил. Да, и с кем говорить об этом?
«Откуда у моих родителей, – думал он сейчас, – да и у большинства живущих на селе, кого я знаю, но особенно у тех, кто работает на земле, такое неистребимое стремление сохранить и вывести в люди своих детей? Это что-то на биологическом уровне? И только сельский тяжелый быт так резко высвечивает это? Или война определила цену жизни? То самое главное, что было и есть – жизнь и благополучие детей – продолжателей того, что не смогли, не успели родители?
Или – сам уклад деревенской жизни, всей вообще жизни, требует продвижения вперед к лучшему, светлому, более достойному, а это может свершить только новое поколение? И помогать ему – долг родителей?
Все родственники мои по материнской линии прожили свою жизнь в фуфайках. В неграмотности и косноязычии. В вечной возне с хомутами, навозом, кизяками… Все как должно быть… но ведь есть что-то и еще, что делает жизнь привлекательнее и достойнее…
И кто виноват, что это не так?..
Каким чудом всегда для деда, бабы Груни, мамы, отца становится новая картина, новая книга. Но книги, картины и все, что связано с культурой, знаниями должно быть более доступно, должно быть нормой! И не должно же быть так в жизни, что все благосостояние и надежность жизни определяется тем, есть ли дрова, сено для буренки и картошка в погребе на зиму? Даст ли завтра лесник покосить сено в доступном месте или нет и выделит ли председатель колхоза лошадь привезти сено? Хорошо, если Синегубый, по дружбе, выкроит на полдня своего, закрепленного за ним, задерганного мерина.
А одежда для школьников? Фуфайка спасает всех. Стеганка на вате обновляется только соразмерно выросту. «Куфайка» достойна того, чтобы ей поставить памятник.
Хорошо, если есть у тебя зимой валенки, пусть подшитые, латаные-перелатанные, но – валенки! А весной: взрослым – чесанки с галошами, ребятне – литые резиновые сапоги. Если так обстоят дела – это верх всего. Надежно.
А мама моя? Я не знаю, когда она спит. Днем не спит никогда. А утром каждый день встает в четвертом часу, чтобы подоить и пустить Жданку в стадо под утренний пастуший рожок. Как она выдерживает?»
Задумчиво глядел он на бурлящий речной поток, омывающий каменистый мыс Ледянки, на шумевший осинник на той стороне.
«Сколько видела Самарка всякого на своем веку? Если бы она имела память», – подумалось ему.
Он смотрел на серебристое течение Самарки до Ледянки и после нее – спокойнее и ровнее, и ему подумалось, что река похожа на магнитофонную ленту, вращавшуюся на огромном диске и диск этот – Земля. И возникла у него совсем детская мысль: найти бы способ озвучить, снять звук с этой ленты, какие бы ожили голоса!?
Александр видел на той неделе у Романа Лихоносова, приехавшего из Москвы, магнитофон и теперь часто вспоминал об этом. Завораживающая штука.
– Где учиться? – неожиданно даже для самого себя спросил Александр. – Я не знаю сейчас, чего хочу. Уже одиннадцатый на носу класс, а я не знаю. Ребята в классе как-то определилась, а я все хочу, мне все интересно, понимаешь? А надо втиснуться во что-то одно. Но знаю, летчиком не буду, вон Виктор Ночуйкин будет, военным хочет.
– Почему? – удивился такой определенности Пудовкин.
– Зрение посадил на книжках, очки мне прописали.
– А-а… – неопределенно произнес Владимир. – Это бывает.
– А ты что кончал?
– Училище в Бугуруслане, мы из Утевки двое там учились, еще Виктор Скудаев.
– Моя мать всегда радостно смотрит, когда ты на своем У-2-«кукурузнике» круги нарезаешь над Утевкой, тебя мы сразу узнаем. Ты каждый раз круги даешь?
– Каждый раз, по три, я ни разу не нарушил.
– Но иногда же кругов нет, – возразил Александр.
– Значит, это не я прилетел, нас часто по области гоняют, летаю еще и на Ан-2.
Не знал Александр, что была еще одна причина, кроме непреодолимой привязанности к своему селу, по которой Пудовкин давал круги над Утевкой на «кукурузнике». Виной тому была Валентина Сергеевна Асекретова – учительница химии. Учительница чаще всего в школе, где ей еще быть, а школа – посередине села. Вот и получался такой циркуль, и острие этого циркуля было направлено в сердечко молоденькой химички. А в Володиной горячей груди клокотали бури, которые пока еще ему удавалось удерживать…
Александр испытующе посмотрел на собеседника, тот не особо интересовался своей удочкой, ему было радостно оттого, что он просто сидит у воды. Это было видно по всему. Александр решился со своим вопросом:
– Вот ты говоришь, интеллектуалы нужны, высшее заведение надо кончать, а сам училище только. Почту возишь, бабулек в город, и это все?
Послышался шум, они огляделись. Прямо посередине Самарки плыли три плоскодонки. В каждой по два-три человека. Когда первая поравнялась с мысом, на котором сидели рыбаки, Александр узнал Митягу и его многочисленных детей.
– Володя, здорово, надолго приземлился?
– Да нет, дядь Митя, на два дня всего.
– Не женился еще?
– Нет, дядь Мить.
– Молодец, а то быстро тебе крылья обкарнают, как мне вот – кузнечиком сделают. Ага.
– Будет тебе болтать, обкарнаешь вас, – наигранно возразила его жена, сидевшая на носу, свесив руку за борт в воду.
– Дядь Мить, это у вас столько рыбы? – удивился Александр, когда лодка уже проплывала мимо.
– Да нет, – он показал рукой на белую кучу в середине лодки. – Это очищенные ракушки, мясо для свиней, на отмели набирали весь день да чилигу на метлы жали.
Лодки уплыли.
– Говоришь, почту вожу, – продолжил Владимир разговор с Александром. – А давай договор заключим: я обязуюсь поступить в Ульяновской училище, переучиться на Ту-154, а ты в институт прямиком, лады?
– Ладно, согласен, – невольно поддался его напористости Александр. – Я чувствую сейчас себя около какого-то большого потока, он уходит мимо, как вот Самарка, унося на моих глазах многих, а я в заводи сижу, – задумчиво произнес Александр. – Никто не знает свою судьбу заранее, и я тоже.
– Ну, ты как старичок-философ какой, прямо. Поток, рок, судьба, – рассмеялся Владимир. – Надо смелее действовать. Слушай, ты прав в одном: свой встречный поток надо угадать, понял, голова садовая. А разгон, рывок за тобой – тогда и взлетишь. Проверено.
– Владимир, можно один вопрос?
– Конечно.
– А как с баяном дела, тебя так всегда хвалила Валентина Яковлевна. У тебя же талант был, она говорила.
– Играю – для себя, для ребят в отряде в Смышляевке, всем нравится, – сматывая удочку легко ответил тот.
– И все?
– А что еще?
– Да нет, я так, – задумчиво произнес Александр, явно решая про себя какую-то важную задачу.
«Талант был и вдруг его как бы нет – разве такое бывает?» – этот вопрос кружил в голове у Александра. Но он промолчал.
…Вечером после дойки мать послала отнести бидончик с вечорошником через улицу Зотовым:
– Я им должна за сепаратор, отдай.
Когда он вошел в низкие сени Зотовых, то столкнулся с только что приехавшим Андреем, который учился в городе в речном техникуме. Разбитной. Удалый парень. Торопливо причесываясь на ходу, он выходил во двор.
– Андрей, – нерешительно обратился Александр, – у меня один вопрос есть, можно?
– Валяй, только быстрее, мне в центр надо.
– Да, я… – смешался Ковальский. – Да вот сейчас, отдам молоко.
…Когда он вышел во двор, Андрея не было, он сидел на лавочке у ворот.
«На низком старте уже, – подумал Александр. – Разговор не получится».
Но в ответ на вопросительный взгляд Андрея сел на лавочку у палисадника рядом с будущим речником.
– Я в город хочу уехать, буду поступать в институт. Как там, в городе, жить?
– А, – протянул тот, – ты вот о чем, – свистнул пару раз в свистульку, только что сделанную из стручка акации и быстро спросил: – Твой отец сколько пенсии получает?
– Сейчас двадцать семь рублей, – ответил Ковальский.
– А маво давно нет уже, – как на счетах щелкнув, сказал Андрей и вновь спросил: – А мать в клубе сколько получает?
– Двадцать пять, она еще там кое-что убирает, – пояснил Александр.
– А моя – двадцать, – вновь щелкнул костяшками счетов Андрей. И продолжил: – Вас четыре, пацанвы. И нас – четверо. Вот и вся жизнь – и в селе, и в городе.
– Я вот… – начал было Александр.
– Как все, так и ты будешь в городе вертеться, а куда деться? А?.. Помогать нам некому. – Он покосился на открытое окно, выходящее в палисадник и сказал скороговоркой, будто мурлыча себе под нос: – Я, извиняюсь, идешь к б…, ну, да, к бабе, не для этого дела, – он привстал будто кучер на дрожках с вытянутыми руками, дергаясь взад-вперед, а – поесть как следует. Вот моя жизнь в городе. Примеряй на себя. Нельзя быть рохлым.
Он хлопнул Александра по плечу и, соскочив со своих «дрожек», скрылся за палисадником.
Около своего дома Александр присел на лавочку. Над головой была такая же акация, как у Зотовых. Такой же почти клен, склонившись над изгородью, прислушивался в сумерках к тому, что было вокруг, к тому, что думал и решал Ковальский, пытая Володю Пудовкина, летчика, и этого шалопутного, брызжущего здоровьем и энергией Андрея.
«Почти ровесники, с соседних улиц, у обоих отцы одинаковые – а совсем они разные с Андрюхой. Откуда у Володи его интеллигентность? От кого? Она передается или ее обретают? Или надо просто иметь такой ум? Он в любой одежде, и в фуфайке, красивый», – отметил невольно Ковальский.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































