Текст книги "Избранное. В 2-х томах. Том 2"
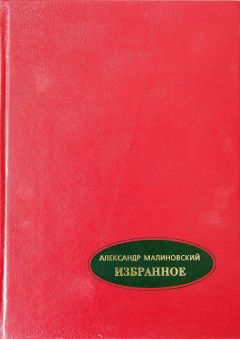
Автор книги: Александр Малиновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
Когда уже в селе шли мимо дома Игольниковых, Мазилин подступил неожиданно в Разлацкому. Пошатываясь, то ли от усталости, то ли от волнения, прошептал, но Александр слышал:
– Ты только учителку не трож, понял? Валентину Сергеевну. Кружит Вовка над ней на своем самолетике и пусть кружит. Он парень замечательный.
– Это тот, который баянист? – удивился Евгений. – Вот не знал.
– Теперь знай, я тебе говорю… тоже мне – Жан Маре.
– Да я…
– Перестань. Лиса и во сне кур считает, – сказал Сашка, не глядя на Разлацкого.
Александр поразился тому, что слышал. «А она как к этому относится? – это первое, что он успел подумать, – что Володя кружит над ней».
Мазилин свернул к своему дому и Ковальский с Разлацким остались одни, Евгений сказал беззлобно:
– Я уж говорил: промеж Мазилина и его Татьяной еще один кот объявился, Сашка не знает. Того, усатого, в колодец не спихнешь.
Ковальский промолчал. Он не знал, что говорить.
16
Шуркин дед моторизировался. Сергей привез ему из Куйбышева мопед, который и стал верным другом Ивана Головачева вместо Карего.
Давно он уже перестал конюшить, не стало во дворе лошадей, сбруя тоже как-то потихоньку стала исчезать со двора. Разве ж небольшой логунок висел на плетне с Пупчихиной стороны, да старый рыдван, как скелет огромной рыбины, возвышался над лебедой. Былые силы покидали Ивана Дмитриевича. Не стало прежнего запала. Ружье он уже давно забросил. Осталась одна отрада – рыбалка.
…После того, как уехал учиться в строительный институт Сергей, Алексей, старший сын Головачевых, тоже покинул родителей – женился и переехал жить на соседнюю улицу к жене. Даже свое ружье и рыбацкие снасти забрал на новое место.
Александр все эти перемены переживал тяжело. Порой заботы деда, когда он был конюхом были тяжелы и для него, внука, приходилось много работать, но без этого жизнь стала беднее. Уклад жизни Головачевых даже по сельским меркам – слишком патриархален. Некоторые механизаторы, шофера позволяли себе не держать коров, а значит, большая часть забот отпадала и для их детей. Они, сверстники Ковальского, зачастую имели больше времени на все, что связано со школой. Александр видел и чувствовал, как меняется жизнь села на глазах. Он и радовался этому и печалился. Александр порой себя стеснялся, своей привязанности к дедовым заботам на земле. Ковальский наполовину, очевидно, был Головачев. Дедов взгляд на мир, его заботы – все вошло в кровь и плоть внука. И внезапная измена деда своему укладу была понятна внуку. Жизнь кругом менялась. Да и сердце у него стало пошаливать, все чаще он хватался за грудь, все чаще смотрел спокойными и грустными глазами поверх головы внука.
Выделывать овчины он стал все реже и реже. Гости с соседних деревень еще заезжали по старой привычке к Головачеву, но часто просто переночевать, шкуры ему уже не возили. Многие за бесценок, ругаясь, сдавали их татарам, засевшим в «заготсырье».
Долгие зимние вечера уже не коротали чтением вслух интересных книжек. Иван Дмитриевич все чаще ходил теперь к сыну Алексею смотреть телевизор. В селе их уже было десятки.
…К своему удивлению Александр заметил, что хотя везде теперь тяжелая техника, сварка, а плетни у деда стояли аккуратнее и ровнее. Веревки из лыка, которое он драл вместе с ним около Самарки, держали изгородь крепче и надежнее, чем совхозная сварка…
Вон Аксютин забор из металлических прутьев, но стоит неровно, все «пляшет», вернее пританцовывает, как и сам хозяин забора, спивающийся на глазах Чемоданов, хороший когда-то тракторист, а теперь «подай-принеси» на ферме у доярок.
Аксюта Васяева давно «перебабилась». Она теперь Чемоданова. Выходила-то она замуж за красивого и ладного парня. Да вот какое странное и страшное дело: спортивный парень, он умер у нее на глазах, слезая с велосипеда, от внезапного кровоизлияния в мозг. Осталась она с маленьким годовалым Сашкой одна, да ненадолго. Сошлась с Чемодановым Генкой, а у него своих двое желторотых. Жену его и младшего сынишку придавило тракторной тележкой на маевке два года назад. Все бы ничего – да попивать начал Чемоданов. Вот и пошло-поехало все у них с Аксютой через пень-колоду.
Шурке вспомнилось, как старый дед Проняй, тогда на помочах, когда делали саман для избы Любаевых, говорил восхищенно об Аксюте: эта любого в косые лапти обует. А она теперь, чаще задумчивая, чем веселая, тащила на себе трех ребятишек, а вечно пьяный муж ее, Чемоданов, совсем еще молодой парень, с такими же тусклыми, кроличьими глазами, как и у его отца, ошивался около чайной.
Он никак не мог смириться, глядя на потускневшую теперешнюю Аксюту в засаленной фуфайке с переменой, которая произошла у него на глазах.
– Тебя не дождалася, Саша, вот и понесло меня, – пошутила она при встрече у колодца, гремя ведрами.
Но в ее шутке уже не было озорства и улыбка показалась натуженной, не по-настоящему веселой, и Александру стало еще тоскливей. Он давно заметил за собой, что тяжело переживает, трудно расстается с тем, что было когда-то с ним, вокруг него. Его память какая-то неуспокоенная. Ему хочется, как ребенку, собрать всех дорогих людей вместе, и чтобы они были рядом, около него, не уходили подольше и были веселы.
Все куда-то уходит. В никуда уходит…
Он иногда не совсем понимал себя. В прошлый выходной приезжал дядька Сергей из города. Дядья взяли его с собой на охоту. Было много смеха, шуток. Дядья, соскучившись, от души больше дурачились в Ильмене, чем охотились: сидели на зелененькой лужайке, рассказывали истории всякие, небылицы. На вечерней зорьке сшибли всего двух чирков и тому были рады.
…Вроде все было как прежде, но что-то уже не так. То же открытое небо над его головой, так же завороженно Александр смотрел в него, задрав голову, но на земле… на земле… было не так…
* * *
…Когда, возвращаясь с охоты, подошли к пятистеннику Климановых, дядья решили перед тем, как разойтись, выкурить по папиросе.
Стояли около палисадника. В темноте громадной нависала крыша избы. Лампочка на столбе, к которому прислонился Александр, давно не горела. Покуривая, дядья продолжали деловито, как ни в чем не бывало, обсуждать всякие новости. Их тулки мирно стояли у завалинки, патронташ с двумя чирками, схваченными удавками за шею, сполз с завалинки и лежал около их ног. Шурке надо бы шагнуть поближе и поднять уток, чтобы не затоптали, но он не мог. Он молча плакал. Его душили слезы.
«Сейчас они договорят и разойдутся каждый к себе: Сергей к деду, Алексей к жене в новый, чужой, кирпичный, крепкий дом, а он, Александр – к себе домой. И все. Все в разные стороны, а не как раньше – все к деду, в одно место… Как одна семья… Одна общая жизнь… – так думал он, стараясь, чтобы дядья не заметили его слез. – Наверняка засмеются».
Выходило так, что артельные чтения про Дерсу Узалу, Шерлока Холмса, рисование маслом картин по вечерам в доме Головачевых, взбалмошно веселая игра в лото долгими зимними вечерами, все то, что неуловимо, но надежно связывало многих людей, заставляло жить одной жизнью, вдруг враз куда-то уходило. Бесследно. И как бы незаметно. Как отвалившаяся вешка от большой красно-желтой тыквы. И никто будто бы этого и не замечал, а тыква начинала подгнивать…
Многое уходило куда-то. И нельзя было остановить. Все вроде бы делалось правильно, как должно быть…
Отлетают же осенние листья, и с этим ничего не поделаешь. «А почему они отлетают, листья? – вдруг подумал Александр. – Почему? Деревья сбрасывают их для чего-то или сами листья покидают ветви – кто из них прав? Где здесь целесообразность? Несправедливо это для кого-то из них или закономерность. – Так он подумал и сам подивился тому, что путается, очевидно, в простых вещах. – Но почему я путаюсь? – подумал Ковальский. – Раз это так все просто…»
А дядья уже прощались. И в этом прощании для Александра было что-то таинственное и безнадежное… Они первый раз расходились при нем так – по разным домам.
Когда они пошли в разные стороны, Ковальский оттолкнулся спиной от приглушенно гудящего столба и тоже было направился домой. Но вдруг что-то заставило остановится, он повернулся к тому месту, где только что стояли Сергей с Алексеем, будто отыскивая взглядом кого-то, кто понимает, что произошло сейчас. Но в темноте никого не было. Лишь старая изба Климановых смотрела подслеповато. Лунный свет отражался в ее окошках, и от этого она казалась сгорбившейся, сиротливой, будто не Шурку, а ее оставили одну, предоставленную себе самой. А ей ведь еще стоять и стоять под непогодой на углу переулка. Долго стоять…
…От собственного бессилья, от неспособности сделать хоть что-то, чтобы жизнь была поприличнее, чтобы окружающие не мыкались от нужды и вечных трудов из-за куска хлеба, ему становилось порой тоскливо. Почему-то получалось так, что жизнь загоняла в тупик самых хороших интересных людей. Таких как Плотникова, Аксюта и того незнакомого Марфина, о котором рассказывал родственник Мишки Лашманкина.
Сашке Мазилину уже давно все почти понятно в жизни. «Жизнь она, известно дело, как слепая бодливая корова, пырнет, того гляди своим рогом без разбору, – говорил он. – Мне многое видать, в отличии от всех, я живу около чайной, насмотрелся, наговорился с кем ни попадя… Мои университеты…»
И хотя Мазилину нельзя вроде было верить, но получалось, что он прав.
И почему так: всего за сто километров в Куйбышеве, в Новокуйбышевске идут стройки, в Новокуйбышевске – всесоюзная комсомольская. Так все красиво вокруг, люди красивые. Женщина – директор, Герой Социалистического Труда, все вершат великие дела, а здесь люди надрываются, чтобы только прокормить себя. И ни в какую…
Не Аксюта, а ее в косые лапти обули. И кто? Сразу не скажешь.
Вроде бы не к кому предъявлять претензии… Жизнь…
«Может там жизнь устроена более справедливо и осмысленно, – думал Александр, – ведь не везде же так, должно быть все разумнее. Надо бы ездить, надо смотреть мир».
* * *
«Может, помрем, потом там поймем, кто вразумит, для чего копошились», – так сказал старый Головачев, словно отвечая на непроизнесенный вслух внуком вопрос, смахивая ладонью пот со лба. Ему уже тяжело стало выполнять любую работу, которая раньше была привычной.
Еще не успели они и половину воза сбросить на землю сухого некленника в руку толщиной, заготовленного с прошлой осени и только что сейчас летом привезенного, а Иван Дмитриевич уже усталый присел на крылечко во дворе.
– Ты, Шурка, когда последний раз бывал на Бариновой горе? – спросил он.
– Давно, в прошлом году.
– Вот и я давно, мой мопед в гору не идет, я пробовал, это не Карий наш… – он неожиданно весело засмеялся.
Раньше они часто и по делу, и просто так поднимались на Баринову гору.
…Стоит только по шаткому деревянному мосту перебраться на правый берег Самарки и взять вправо вдоль реки, как ты попадаешь, на ту дорогу, песчаную, поднимающуюся незаметно в гору, на высоту птичьего полета над Самарской, которая ведет к Баринову дому.
Дорога у самой Утевки грунтовая, темная от чернозема – за околицей и постепенно, по мере приближения к реке, то бурая, то совсем желтая и песчаная – около Самарки и выше ее.
Пройдет совсем немного лет, и почти ко всем селам и поселкам развернувшиеся деловые нефтяники проведут твердые дороги. Стрельнет и от Утевки до Покровки ровная и красивая асфальтовая лента, а вот поселок Красная Самарка останется со своими старыми. Неперспективным оказался поселок, сбочь от столбовых направлений. И потянулся народ, кто на центральную усадьбу в Утевку, кто в Покровку, Мало-Малышевку. Да мало ли куда понесет человека, коль он стал как верблюжья колючка, сорванная лихим ветром времени. И потихоньку остались в поселке только старики да старухи…
Надо не ошибиться и не проехать Баринов дом, ведь самого дома-то давно и нет – только приметы усадьбы: фундамент, ямы от погребов, заросшие лесной травой, да зелень бывшей усадьбы: спутанные заросли акации, сирени, черемухи, и все это на светлой лесной поляне, обрамленной слева по ходу березняком, а справа – огромным косогором, спускающимся вниз к самой Самарке. А уж там, за речкой, кошкой в истоме растянувшейся между осинником и тальником – купола Покровской церкви. Понять прелесть фразы «с высоты птичьего полета» Ковальский смог только стоя на этой радостной возвышенности. Пустельга, коршуны, орланы парили здесь под ногами, внизу, над лентой реки. Здесь у самого расправлялись крылья.
Дорога, ведущая к Баринову дому, Покровская церковь, сам Баринов дом были связаны даже геометрически, это Александр открыл еще в детстве и попытался объяснить своему деду.
Вначале, когда они с дедом открыли это красоту, поднимаясь в гору и наблюдая Самарку и село Покровку с правой руки, Шурка боялся прозевать и проехать дом барина, который оставался несколько незамеченным слева. Но однажды он вдруг обнаружил: не надо крутить головой, а достаточно остановиться на горе строго напротив церкви. Перпендикулярно от церкви к дороге катет прямоугольного треугольника длиной километра три укажет на усадьбу Баринова дома по левую руку. А вот гипотенуза пролегла километров на семь-восемь, начинаясь с Покровской церкви и заканчиваясь на Троицком храме в Утевке.
Иван Дмитриевич только усмехнулся на это его открытие и ничего не сказал. Но Шурка ликовал: он открыл, как ему тогда казалось, некую таинственную закономерность. Внутри треугольника заключалось так много: Самарка, две церкви, три села, мост. А кроме того, еще под кручей у моста было несколько родников, незамерзающих даже зимой. Они с дедом, когда ехали мимо, всегда набирали из них воды.
Не попадал в треугольник старый курган, мимо которого Шурка не мог спокойно проезжать, и вот теперь – оживившийся поселок Ветлянский с его нефтью. Но в этом была, наверное, своя справедливость, так думал Шурка. То, что легло в треугольник, для него стало как бы заповедной землей…
Там, за гипотенузой проходил старинный солевой тракт. Мало теперь, кто помнил, где это – а он знал.
…Дед и внук любили посидеть на горе, особенно вечером в ясную летнюю погоду, когда солнце освещает Покровкую церковь. Молча полюбоваться всем, что было доступно глазу. Панорама – вот слово, которое подходило для названия открывающейся здесь картины.
Было одно местечко на самом верху, Шурка даже вначале сделал отметку, где, сидя под развесистым могучим дубом, можно было видеть внизу крутой изгиб Самарки. Речка резко брала вправо. На том берегу обнажалась песчаная коса и отмель. Там на песке почти всегда плескались утки. Маленький островок, покрытый зеленью, брошенный, словно полушалок, всегда манил уток. Они смешно и суетливо копошились, шли сначала по мелководью, потом по песочку, часть из них непременно забиралась на верх островка, ближе к зелени.
Иногда кто-нибудь выходил из осинника купаться, и тогда утки шумно взлетали, но не улетали далеко, а садились тут же, рядом – чуть-чуть поодаль, пониже течения, где тоже был островок, но гуще – поросший ивняком. Сверху им с дедом это было видно.
Весь крутой поворот реки с обеих берегов покрыт густым лесом. Далее слева и выше по берегу шли перелески. Несколько лет подряд на полянке, недалеко от воды, лежало огромадное высохшее дерево, с высоты оно казалось большой белой костью, торчащей из песка, как это бывает на кургане.
Песчаное дно Самарки просвечивалось через воду мягким теплым светом. Лесное разнотравье здесь, на прогретом воздухе, бушевало своими запахами. Стоял гул медоносных пчел и всякой маленькой беззащитной, но такой самостоятельной летающей забавной твари, охочей до сладкого…
Светло-пурпурные цветки буквицы, собранные в метелочку, повсюду выглядывали из зарослей, обдавая сильным своим духом, и стоило только попробовать на зуб, сладковато-приторно горчили. Сиреневато-розовые колокольчики вереска, обильные в цвету, манили к себе не только пчел. Так и хотелось их тронуть рукой – вдруг зазвенят мелким дробным медовым звоном. Пушисто-шершавая душица цвела здесь с июня и чуть ли не до октября. Ее цветочки в щитовидных метелках фиолетово-розовыми мелкими огоньками всегда здесь встречали деда с внуком. Красновато-бурые плоды тоже хотелось потрогать. Четырехгранные красноватые стебли с темно-зелеными листочками Шурка любил гладить. В зарослях бересклета и чилиги здесь по всему косогору желтыми звездочками соцветий манили к себе рослые ветвистые стебли зверобоя. Его терпкий дух чувствовался, не смешиваясь с бодрящим запахом дубравы. Зверобой здесь рос даже на обочине дороги, давая пряную приправу к щекочущему ноздри запаху раскаленного за день песка и конского навоза на дороге.
«Интересно, – думал Александр, глядя на могучую крону дуба, – кто изобрел такое красиво величественное слово «дубрава»? Все человечество пользуется этим словом, но был же человек, который впервые произнес это гениальное слово. Кто они, где они такие люди? Я прожил уже пятнадцать лет, а на моих глазах никто подобного не сказал. И я ничего не изобрел такого. Люди другие сейчас? Или надо очень много прожить, чтобы что-то придумать такое?» – подобные раздумья преследовали Ковальского.
…«Здесь на этом необъятном и светлом просторе, обласканном легким с медовым запахом ветерком должны рождаться и расти люди для больших и хороших дел. Люди сильные и прямодушные», – эта мысль пришла к Александру внезапно, и он взглянул на деда. Иван Дмитриевич сидел молча, лицо его, выразительное обычно, было усталым и взгляд притухшим. «Почему он так захотел в этот раз приехать сюда? Для меня, для себя? Или для нас обоих?»
Он чувствовал, что спрашивать ни о чем сейчас нельзя. И Александр не спрашивал. Он слушал пространство, то, в котором, казалось, растворился сейчас его дед…
Это было прошлым летом, в августе.
«Будет ли такой август в этом году?»
…Посидев под дубом, Головачев с внуком, обычно пешком спускались по крутой дорожке вниз. Съезжать на подводе они не решались. Да и никто по ней на лошадях не ездил. Вела эта дорога к Самарке. Но им надо было другое. На полпути к реке, там, где стоят огромные неохватные и для троих крупных мужиков две белотелые осины, в темном овражке, заросшем длинноствольной, ровной ольхой, бьет родник. Ведет к нему узкая, малоприметная тропиночка. Вряд ли больше десятка людей знают этот радостный источник. Здесь, сморившись от жары, они пили таинственную воду, сидели в тени. Дед больше молчал. Внук думал. Уже тогда думал над теми вещами, на которые потом, и состарившись, не найдет ответа. И в этом было не бессилие его. В этом была своя правота созданной кем-то такой короткой, как высверк молнии, человеческой жизни.
* * *
Как-то неожиданно быстро женился дядька Сергей. Жена городская, жила с родителями на улице Венцека, недалеко от площади Революции. Эту площадь Александр смутно помнил.
На свадьбу ездили дед Иван с бабой Груней да брат Алексей. Больше никто. В Утевку молодые не приезжали. После свадьбы объявился один Сергей. Пробыл полдня и уехал. Перед отъездом оставил Александру адрес родителей жены, где он теперь намеревался жить. Для верности даже нарисовал на половинке листка из ученической тетрадки схему, как добраться от Смышляевки, если Александр полетит самолетом, до незнакомой улицы Венцека. В Смышляевке – аэропорт. Александр там тоже никогда не был.
– Приезжай, как только надо будет сдавать экзамены в институт. Я про химико-технологический все узнаю: где, что и как. Обязательно поступишь. Кого ж тогда брать, если не таких, как ты. А поживешь первое время у нас, – определил дядька.
17
Разлацкий оказался прав: не укараулил Мазилин свою жену.
…Захар Селедков крадучись пробрался через двор к сеням и быстро шмыгнул в приоткрытую дверь, когда Татьяна поздним вечером несла из колодца с задов ведра с водой. Она, было, заметила чью-то тень во дворе, но подумала, что ей это показалось. Одно ведро она поставила у денника на лавку для скотины, а второе понесла в избу. Держа ведро в руке, она другой гулко стукнула засовом, закрывая входную дверь на ночь. Захар, забравшись в чулан на кухне, затаился, словно зверь. План его был прост. И придумал он его уже давно. «Мышеловка захлопнулась, сама захлопнула, – ликуя и страшась, отметил молча Захар. – Она сама, я ее понял вчера у магазина, когда мы случайно столкнулись, она сама колеблется, я чувствую, меня не проведешь…»
На кухне тем временем щелкнул выключатель, и свет погас. Но тут же возник вновь, неяркий, и он отметил в своем чулане: «Зажгла в большой комнате, сейчас будет укладываться…»
Когда свет погас, он осторожно отдернул занавеску и, ступая бесшумно в одних шерстяных носках (заранее снял свои желтые ботинки в чулане), пошел в большую комнату, где только что тихонечко поскрипывала кровать.
– Саш, ты че, – суматошно выкрикнула Татьяна, забыв, что она закрыла дверь изнутри, и вскинулась с кровати, увидев Захара. В первый только миг, кажется, испугалась, но тут же все поняла. – Подкараулил все-таки, усатый черт.
На ее лице уже не было испуга. Была дерзость. И это он сразу заметил.
– Ага, – напористо ответил он и тоже, как ему хотелось, посмотрел дерзко. Ощерил, как жеребец, крупные редкие зубы и сказал: – У вас детей нет, может, у нас с тобой получится, – и стал не спеша снимать чистенький, не как у Мазилина, пиджак.
– Пройдоха ты… прилип, как банный лист.
– Пусть он в клубе кино про любовь смотрит, а мы тут с тобой, а?
Верно?
– Сашку не тронь, слышишь, – она зверьком уставилась на него острыми карими глазками. – Он весь покалеченный с войны, ему досталось.
– Ладно, не бойся, не трону, – успокоил он ее, не в силах оторвать взгляд от ее дразнящих полных грудей, томящихся под легонькой ситцевой ночной рубашкой в горошек. Она их и не торопилась прикрыть хотя бы чем-нибудь…
– Свет потуши, с улицы впрямь как в кино, – насмешливо сказала Татьяна. Она спокойно сидела на кровати, свесив полные розоватые ноги.
– Ага, – с готовностью повиновался Селедков.
…С той первой ночи частенько стал Захар захаживать к Татьяне.
Тихонечко стукнет в окошко из палисадничка, когда стемнеет, и – был таков! Ловкий черт. А она деловито шла и открывала дверь. И уж непонятно было: боится ли она его или сама ждет не дождется этого осторожного стука в окно? Так перевернулось все в ее бабьей натуре…
…Известно давно: страсть и беда часто ходят рядом друг с другом. А чаще всего в обнимку. И правды в страсти не сыскать.
Долго бы безнаказанно ночничал на такой манер Селедков, да заминка вышла – дождался Сашка Мазилин его около двери в своем дворике, когда тот утречком приморившийся потихонечку выскользнул от своей зазнобы.
…И черенок-то березовый от вил был не ахти какой, но крепче он оказался предплечья Захара. Поторопился он обернуться на тихий свист за спиной. Как по крылу, по приподнятой правой руке приложился Мазилин, и получился прерванный полет. Перелом, вернее, перешиб обеих костей.
…Но если бы такие меры помогали. А то ведь и после того, как Захар выздоровел, жена Мазилина, нетерпеливо вздыхая поздними вечерами, сама ждала тайного стука в окошко чаще, чем блудливая рука Селедкова касалась заветного оконца… Известно же, на всякую беду страху не напасешься.
…Отлежал положенное, скрыв истинную причину увечья, неказистый с виду Захар, а Мазилин запил, «от невозможностев видеть и быть трезвым около неверной супружницы», – так он говорил себе, а с другими он эту тему не обсуждал. И никто не мог понять, на его примере, почему люди так быстро становятся пьяницами.
«Хоть бы белогвардейцы какие или белочехи снасильничали, тогда понятное дело, а тут сама себе любовь неудержимая образовалась, тьфу ты, загибайте мне марковину-хреновину, не верю в любовь такую. И если, как она говорит, уйдет к нему, все равно – не верю», – маялся бедный Мазилин.
Селедков ничего Татьяне не говорил о Мазилине, не грозил. Наоборот, старался помалкивать. Но злобу затаил крепкую… Он не любил прощать.
Хитрый Селедков был даже порой, как он считал мудрым. «А мудрый, чем отличается от остальных? Известно чем, – мурлыкал себе под нос Селедков, поправляя свои большие, будто приклеенные, усы перед зеркалом в учительской. – Он, мудрый, не будет у всех на глазах лезть в драку со своим врагом. Зачем самому загибать салазки? Он сделает так, чтобы спокойно сидеть на завалинке, греться на солнышке, а в это время мимо него пронесут гроб с его врагом, вот как… Не я это придумал».
Он по нескольку раз в день подходил к зеркалу и смотрел на свои усы. Приглаживал их рукой и бормотал себе… Селедков любил, чтоб все было чисто и аккуратно…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































