Текст книги "Избранное. В 2-х томах. Том 2"
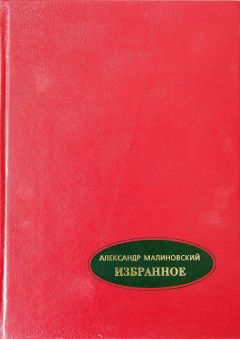
Автор книги: Александр Малиновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
Глава десятая
…В Утевке жизнь кучерявилась на свой манер. Сисямкина тетя Маня сдалась все-таки и разрешила Разлацкому, своему квартиранту, поставить в большой комнате под образами телевизор: «Теперь куда уж деться, у всех кругом бесы поселились по избам, не схоронишься». Так еще одна антенна, как большая кочерга, поднялась на Центральной улице села…
Замелькали во дворах сельчан красные баллоны с газом. Любаевы тоже оборудовали газовую плиту на кухне, сбочь от печки. Печи в селе пока никто не трогал.
– С газом-то любота, – радовались утевцы. – А печи пусть себе стоят. Мало ли чего? Ахнет где-нибудь что-нибудь – и нет газа, что тогда?
– Жизненка, – как говорил Иван Головачев, дед Ковальского, – к лучшему накренилась чуток. Полегчало немного.
В свои короткие приезды домой Ковальский видел эти изменения и радовался. Но были и грустные события. Их Александр переживал как личные. Не у каждого жизнь кучерявая… Чаще всего о грустном он узнавал из писем от матери. Письма были написаны неразборчиво. Но в них был такой свет и отрада, что у него всегда при чтении увлажнялись глаза.
Вот и сегодня вечером в общежитии его ждало ее письмо. С волнением он надорвал конверт и, стоя у окна в своей комнате, достал из него листок ученической тетрадки в клетку.
«ПИСЬМО ИЗ УТЕВКИ
ЗДРАСТИ НАШ ДОРОГОЙ САША.
ХОТЕЛА ЕХАТ КТИБЕ НЕПОЛУЧИЛАСЬ ОЧИМ ТВОЙ ЗАБОЛЕЛ ГРИБОМ ВОТ ИСТОРИЯ».
Дальше она сообщала, что Иван Зуев умер «В КУЙБЫШЕВОМ», что приезжал Сережа «ХУДОЙ КАК ЖЕРДЬ» и «ЕЩЕ КУРИТ КАК ПАРАВОС И МОЛЧИТ. СОВСЕМ НЕ СМЕЕТЦА КАК РАНЬША, ЗАБОЛЕЕШЬ СМОТРЕТЬ НА ТАКОВА ВАШ ГОРОД СИЛЫ СОСЕТ КУДА ЧЕВО ДЕВАТЦА СМОТРИ КАК СЛЕДОВАТ ТАМА».
Таких уже четыре письма лежали у Ковальского в чемодане под кроватью. Это пятое.
Странное совпадение. От Анны тоже было четыре письма. Он хранил их вместе, эти письма: от матери и от Анны. В своем зеленом чемодане.
Каждое письмо Анны начиналось для Александра обжигающей фразой, к которой он не мог привыкнуть. Эта простенькая фраза притягивала своей искренностью. «Миленький мой Сашенька», – так к нему никто и никогда не обращался.
Эти письма похожи были тем, что писали их любящие женщины. Почерк у Анны был мягкий и ласковый. Буквы в словах сплетены в одно кружево. А мать каждую букву в слове писала отдельно. Каждая буква давалась Катерине нелегко. Она написала в одном письме: «НАПИСАТ ПИСЬМО ТИБЕ ДОЛЬША КАК НА СИПАРАТОР СХОДИТЬ МОЛОКО ПРОПУСТИТЬ».
Ковальский отвечал на письма матери обстоятельно и терпеливо.
Приходилось писать печатными буквами, чтобы мать читала сама, так хотелось ему.
Когда пишешь письмо печатными, отдельно друг от друга стоящими буквами, немыслимо ошибаться. Каждое слово значительно и важно. Как проверка самого себя. Александр уходил в красный уголок и в уединении, чтобы никто не мешал, писал ответ. Он про себя называл это: «сходить на сепаратор». Ходил Ковальский «на сепаратор», наверное, еще дольше, чем его мать. Он не мог торопливо писать ответ. Знал, что каждое слово его будет прочитано и обдумано несколько раз и боялся сфальшивить.
Письма матери и его ответы и вправду, как сепаратор, очищали его. Они и приходили-то как раз тогда, когда надо было. Катерина как будто каждый раз чувствовал это.
В одном из писем она вдруг стала просить, чтобы он осторожнее переходил улицы и опасался попасть под «ТРАНВАЙ». Он был поражен: за два дня до письма он соскочил с подножки «ТРАНВАЯ» на ходу и неудачно. Замешкавшийся долговязый парень загородил проход и, упустив момент, Александр спрыгнул, когда вагон уже, после обычного притормаживания на повороте, набирал скорость. Он тогда упал на колено и до крови рассек его.
Ушиб был незначительный.
Но мать его почувствовала!
* * *
В прошлую субботу в читальном зале областной библиотеки Ковальский сделал выписку, которая показалась для него очень важной. Она оправдывала безоговорочно его выбор профессии:
«Производство искусственного и синтетического волокна по сравнению с волокнами естественного происхождения требует меньших затрат.
1 т. натурального шелка стоимостью около 550 тыс. руб. можно заменить синтетическим волокном стоимостью около 50 тыс. руб. за тонну. Костюм из чисто шерстяной ткани «люкс», «метро», «ударник» стоит 1900–2000 руб., а из штапельной костюмной ткани 600–700 руб.
Шапка-ушанка из натурального каракуля стоит 367 руб., а из искусственного каракуля стоит около 60 руб.; шуба, пошитая из овчины, стоит около 1600 руб., а шуба, пошитая из искусственного меха, не уступающего по своему внешнему виду и по прочности натуральному меху, будет стоить примерно 1000 руб.; дамское меховое пальто, пошитое из специально обработанной овчины, стоит около 4000 руб., а дамское пальто из искусственного материала будет стоить примерно 1000 руб. Затрата на сырье, из которого изготовляется искусственный мех, в четыре раза ниже стоимости натурального меха, а срок службы в 4–5 раз дольше.
Цены на натуральные волокна за последние 35–40 лет выросли в 2–3 раза. На искусственный шелк цена понизилась примерно в 3–4 раза».
«Деду Ивану приеду – покажу, ясно будет, какая у меня в будущем профессия. И разноцветных гранул полиэтилена надо привезти. Никто же не видел никогда такого», – так он довольный думал, делая эту запись.
А вскоре в тетради появилось стихотворение:
Как намокла рубашка!
Путь проселком нелегкий.
За спиною Домашка —
Полчаса до Утевки.
Путь проселком нелегкий,
Да не надо мне легких.
Путь один из Утевки,
Остальные в Утевку.
Эти стихи он написал в том же читальном зале областной библиотеки неожиданно для самого себя. Вспомнился поэт из Домашки Гриднев, его строчки: «Мой дом на Каспии стоит», – и захотелось своего. Почему «путь один из Утевки, остальные в Утевку»? Он сам отчетливо не понял. Но это не было позой. Было иное. Предчувствие того, что ничто уже роднее в жизни не будет. Это навсегда.
…В поселке Кряж есть перекресток. И указатель, греющий душу Ковальскому. Там на синей табличке две стрелки, указывающие направления. Одна на – Москву, другая – на Утевку. И все! Каждый раз собираясь домой, он говорил в группе:
– Еду в мою столицу – Утевку!
* * *
Чаще всего попутки через Кряж шли до Ветлянки или Нефтегорска. В таких случаях Ковальский сходил у поворота на Утевку и шел пешком. Он любил этот отрезок пути. Широкая прямая дорога с лесопосадками с обеих сторон. Тишина и огромное небо над головой. Этот путь часто приходилось преодолевать поздним вечером. Либо уже ночью. Это ему очень нравилось.
…Александр шел в сумрачной гулкой тишине, читая на память из «Мцыри» Лермонтова:
Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод… Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой…
Ковальскому еще перед вступительными экзаменами в школе впервые попался том с поэмами Лермонтова 1828–1841 годов. Теперь же, после разговоров с Анной, он был у него под рукой постоянно. Александр большими кусками держал в памяти поэмы «Сашка», «Тамбовская казначейша», «Мцыри», «Демон». Но читал вслух только когда был один. Ему не нужны были слушатели.
Он, как и Лермонтов, готов был воскликнуть: «Я родину люблю». Настолько было растворено в нем все то, что окружало его. Когда Александр шел широкой дорогой к дому, многое вставало перед глазами из того, что было с ним в детстве на этом радостном просторе. Не любить все это он не мог.
«Такие простые слова: «Я родину люблю». Просто и ясно звучат. Их мог сказать спокойно, не оглядываясь на других, великий человек. Свободный ото всего и ото всех, кроме своей любви. Он и Родина. И все! А мы, как в наше время живем? Боимся признаться, что мы, деревенские? Что у нас тоже есть своя родина. И не «малая», как ее иногда называют, а еще и настоящая – огромная Россия…
Мы же не стесняемся признаться в родстве со своей матерью. Кто же мы тогда? Когда я врезал Еськову, по правде сказать, никто серьезно меня не понял. Почему это так? Сельские ребята молчат: стыдятся себя? И горожане почему молчат? Дороги ли им городские корни? Держатся ли они за них? Или любовь к селу и любовь к городу, где родился – это разные несравнимые вещи? Почему большинство писателей и поэтов из деревень? Вот Лермонтов, он же деревенский! Вырос-то в деревне. С крестьянами. Среди полей и равнин. Засверкал вершиной, словно снежные горы Кавказа. Но он же наш, равнинный? Откуда такая высота и величие? Что же дает право на свой голос? Если я завтра в группе скажу: «Я Родину люблю», – наши оболтусы рассмеются. И не над тем, что я присвоил слова великого поэта (они наверняка этого стихотворения не читали). А над другим. А вот, если бы Лермонтов в своем лейб-гвардии гусарском полку приятелям сказал: «Я Родину люблю»? Что бы было? Он не торопился так вести себя. Не ждал от них понимания? Писал стихи с матерными словами, дрался на кулаках и с солдатами, и с офицерами. Двойная жизнь? Скрывал свою такую нежную и огромную любовь? Зачем? Чтоб выжить? Или просто презирал. Не доверялся никому? Что же, жизнь одно, а литература – другое? Каждое само по себе? Или тут сложнее все?»
– Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет богу
И звезда с звездою говорит, —
пропел Ковальский и удивился сам себе, как торжественно прозвучало: ему казалось, будто поэт видит сейчас его шагающего в ночи и думающего о нем. «Все еще до меня давно угадано, узнано, понято, пережито». Становилось жутковато от этого.
…В село Александр входил обычно легкой походкой. И на душе было после такой дороги светло. Это была его дорога.
Даже если транспорт шел до самой Утевки, все равно чаще всего он выходил на перекрестке и шел своей дорогой пешком. Часто под недоумевающим взглядом проезжающих мимо.
Ему нужна была эта дорога. Она выравнивала в нем ту кособокость и устраняла расстроенность, которые вез в себе из города. В его характере было многое от матери. Ему обязательно требовался выход на светлое, радостное, жизнеутверждающее, уравновешенное. Александр любил улыбку, а не угрюмство. Ему и «Тамбовская казначейша» поэтому нравилась необычайно. Александр и ее читал на этой дороге. Он даже пытался сравнивать Аксюту с Авдотьей Николаевной, нарисованной Тропининым. И находил много сходства. Но не стал бы никому об этом говорить.
* * *
Последние дни часто болела голова. Неделю назад, в смену на его «нитке» лопнул резиновый компенсатор, соединяющий между собой два аппарата. При пневмотранспорте порошка трубопроводы вибрируют. Вот эту вибрацию труб между жестко установленными аппаратами и гасят резиновые вставки диаметром около сорока сантиметров, закрепленные металлическими хомутами на трубах. Выход из строя компенсатора всегда сопровождается большим выбросом полиэтиленового порошка. Весь пол помещения после этого становится белым, как в первую раннюю порошу. В воздухе тогда гуляет запах изопропилового спирта и азота.
Ковальскому очень хотелось быстро заменить компенсатор, и он не пошел за противогазом, оставленным на щите управления. То, что азот – веселящий газ, слегка наркотического действия, он знал из инструкции. Но вот убедился теперь впервые. Действительно – веселящий. Орудуя на двухметровой высоте у горловины дышащего газами аппарата, он почувствовал, что губы его начинают непроизвольно растягиваться в беспричинной улыбке. Свести их вместе, в нормальное положение нет никаких сил.
«Вот картинка: сейчас кто-нибудь явится, а я на аппарате сижу с глупейшим лицом. После вся курилка от хохота дрожать будет».
Он не понял, как его сорвало вниз. Очнулся на полу в белоснежном порошке. Вскочил с первой мыслью: кто-нибудь видел? Нет, в помещении он был один. Быстро, как мог, чувствуя, что не в состоянии четко координировать свои движения, пошел к раскрытой двери на лестничную площадку. Там, на свежем воздухе, отдышался. Не спеша, сходил за противогазом. Монтировал компенсатор уже со старшим аппаратчиком.
Они потом докопались до причины выхода компенсаторов: часто она была чисто техническая – при передавливании азотом содержимого в аппаратах-разлагателях почти одновременно открывались и закрывались спаренные шибера. Такое недопустимо. Подводила хваленая немецкая техника.
Ковальский никому о своем падении с аппарата не сказал. Зачем?
…Сейчас, подходя к дому, он не чувствовал никакой боли. Дорога к дому лечила от многого.
Когда вошел во двор, там никого не было. В открытую дверь сеней виден был непривычный замок.
Соскучившийся кобель Цыган бросился под ноги и не давал пройти к сеням. Терся об ноги, заглядывая в глаза. Когда же Александр добрался до сеней и вошел в них, над головой справа на гвозде на большой белой тесемочке увидел ключ. Его ждали дома постоянно.
* * *
– Саша, я давно тебя все хочу спросить, да никак не решусь…
Александр сидит за столом, ест из чашки кислое молоко с хлебом.
Молоко холодное, только что из погреба. Вкусно. Катерина знает, чем угощать сына. Она стоит у печки, делая вид, будто что-то рассматривает на загнетке.
– Что, мам? – совсем неготовый к серьезному разговору спросил сын.
– Ну, вот в клубе сказывают, что ты провожал с танцев какую-то замужнюю женщину…
Александр чувствует, что лицо его начинает гореть. Он понимал: родители все равно узнают, не утаишь. В клубе, где мать и отец работают, обо всех все знают. Но прямой вопрос застал его врасплох.
Катерина взглянула на сына и сказала, будто подумала вслух:
– Мало девок, что ли? Чужая жена – не твоя жена. Это надо знать.
Вошел со двора отец. Притулил около рукомойника свой бадик.
Взглянув поочередно на обоих, обронил:
– Что-то вы притихшие какие? – и загремел соском пустого рукомойника.
Не услышав никакой реакции, зорко посмотрел на сына:
– Случилось что?
Сын ответил не спеша:
– Мать, наверное, считает, что случилось, а я нет. Ну, не очень случилось… – Он не знал, как говорить и что.
– Мать, а мать? – произнес Василий, наблюдая, как Катерина наливает в кружку шиповный отвар из зеленого прежде, а теперь закопченного в печке чайника. – Ты, может, скажешь тогда? Я…
Катерина вздохнула. Подняла на уровень груди свои большие не по росту руки, сжав их в один кулак. Не знала, что с ними делать.
– Да мы про Аню Бочарову… – сказала и замолчала. Спохватившись, понесла кружку воды к рукомойнику.
«Они и имя, и фамилию знают», – отметил про себя Александр. – И, конечно, знают больше того, что я ее просто провожал…»
– Жизнь поломать можешь ей? Ты это понимаешь? – сказал отец безо всякого нажима. – У нее же дочь, муж…
«Встать и уйти, – вдруг мелькнула у Александра мысль. – Ведь я ничего внятного ответить не могу, кроме того, что я не могу без Анны. Она имеет надо мной власть, Анна меня удерживает около себя и крепко. Говорить вслух сейчас это – смешно. Я буду выглядеть куклой. Тут словами не объяснить. Мои не знают Анну. Муж ее – не знает. Я знаю больше всех, кто она! Какая она!»
– А ты молоденький еще, – вставила мать и примолкла, выжидательно глядя на отца: говорить ли дальше что или не надо?
Тот, перехватив ее взгляд, молчал. Молчали все. Потом Василий сказал намеренно буднично:
– Мать, это его мужское дело. Ему подумать надо. – И ушел с большой кружкой чая в переднюю. Вроде бы к динамику, шумевшему на подоконнике голосом Мордасовой, которую Ковальский терпеть не мог.
…Когда Александр вышел во двор, разговор между Катериной и Василием продолжился.
– Дипломат, а дипломат? – войдя в горницу и остановившись около голландки, проговорила Катерина. – Вдруг он загорится жениться на ней?
– Да ладно тебе – жениться… Его силком не женишь, вот увидишь. И у нее муж живой…
– Задурит парню голову – женится. Я видела ее: она видная такая. Красивая. И учительница. – Она присела у окошка и вздохнула. – Вот Тамарка Заречнова, какая пригожая! Я наблюдаю за ней. Мне сказывали в клубе: она гонится за ним. Только больно уж робкая такая. А он, наш Саша-то, слепой. Не видит.
– Да, рассказывай кому: слепой, – не согласился Любаев и ядрено крякнул.
Катерина молчала. Молчал и Василий Федорович. Затянувшаяся пауза тяготила. Первой не выдержала Катерина:
– А ты где так пинжак-то загваздал, весь рукав в глине.
– Откель я знаю.
Голос у мужа был ровный, не тревожный. Она немного успокоилась.
* * *
Ковальский вышел из сельницы, где спал, и не спеша пошел в огород. Было часа два ночи. До начала выгона коров еще далеко. Село окутал сон.
Он подошел к колодцу, достал воды, громыхнув цепью. Раздувая гнилушки, попавшие в бадью, редкими глотками напился.
Ночь была светлая.
В Утевочке-реке в конце огорода виднелся высокий тополь, словно покрашенный белилами. Щемяще поскрипывал журавец.
У соседей Зининых мукнул теленок. Во дворе Лаптаевых шумно вздохнула корова.
Не выходил из головы дневной разговор с родителями.
«Я не в силах оставить Анну. Нас связывает что-то такое, что сильнее моей воли. Она самоотверженная и преданная натура. Я не могу ее предать. – Мысли его переходили от одного к другому. – Но она попала не в те условия. Они ее уродуют. Ей, может быть, случилось жить не в то, не в свое время… А наша связь?! Она и намека не имеет на плохое… Кто мы друг для друга? Мы ни разу на эту тему не говорили! Любовники? Этого мало. А кто еще? Друзья? Нелепо. Этого тоже мало для нас. Конечно, я виноват. Я создал такой тупик. Анна не при чем. Ищу оправдания своим поступкам. Но их нет. А мне так хочется оправдать себя. Быть хорошим. Поверить, что даю Анне только радость. Но это ведь, может, и не так. Я многого не знаю. Она одна со своими проблемами. Мы же видимся раз в полгода».
Он вдруг впервые подумал о том, какие муки она терпит, оставаясь женой своего мужа и ужаснулся, представив это в подробностях. Мелькнула обнадеживающая мысль: «А может, все-таки все не так! Вдруг для нее я – главная радость в жизни? Может, она правду говорит! Тогда как? Люди различны. Один и тот же поступок может быть злом для одних и добром для других. Так бывает. Так как же поступить, чтобы было правильно? Люди поступки других оценивают не объективно. Это известно. И мать с отцом мои далеки от истины. Они не поймут меня. Но я не в обиде. Слава богу, они не знают того, что мы как муж и жена. И я не вижу никого для себя ближе, чем Анна».
Александр думал, что один не спит. Катерине тоже не спалось. Она сидела на кухне и задумчиво, в который раз, перекладывала испеченные с вечера тонкие лепешки для лапши. Со стороны можно было подумать, что она занята неотложным делом. Но в такую рань-то, какая нужда?
…Ковальскому вспомнилась притча, которую Анна ему рассказывала, когда он приехал к ней в Пензу второй уже раз.
Он смог тогда взять на двое суток номер в гостинице, и она со всеми мыслимыми и немыслимыми предосторожностями всего два раза смогла ненадолго прибежать к нему. Какие это были для него дни! Сколько Александр передумал и перечувствовал!
Она сидела в одной ночной рубашке рядом, а Ковальский в полудреме вяло слушал, не думая, что сказанное ею так крепко ему когда-нибудь пригодится.
– Старик и внук-подросток шли своей дорогой. У них был небольшой ослик, на котором они поочередно ехали, – говорила она. – Когда ехал старик, а мальчик плелся следом, прохожие насмехались: «Дряхлый и ненужный старик, жалея себя, губит мальчишку». Слыша такое, старик слез с осла и заставил вместо себя сесть внука. Толпа зашептала: «Здоровый ленивый мальчуган не жалеет дряхлого старика». Мальчишка упросил старика сесть на осла вместе с ним. Они ехали теперь оба. Возмущение прохожих становится еще сильнее: «Слабое животное задавили два больших лентяя». Что поделаешь: старик и внук сходят и идут рядом с ослом. Насмешки еще острей: «Двое ослов, жалея третьего, не берегут себя».
Она тогда не стала комментировать эту притчу. Рассказала и все. Знала, что ему многое надо будет понять. Он вспоминал ее рассказ часто. Александр полагал тогда, что Анна говорила и думала о себе. Оказалось, что и о нем тоже. Выходило и впрямь: нельзя было рассчитывать, что окружающие могут объективно воспринимать твои поступки. Объективного восприятия, объективной оценки вообще не может быть.
Каждый человек оценивает твое поведение с позиции своих интересов, исходя из своего миропонимания. А оно у каждого свое. Каждый проживает свою жизнь не понятый другим. И к этому надо быть готовым. И это надо уметь прощать другим, ибо субъективность замешена в человеке, это его сущность…
…И не важно, родители это или совершенно чужие люди. Каждый человек – загадка?!
Все, наперечет, короткие встречи с Анной давали так много Александру, что остальные знакомства казались ему удручающе бедными. Ему было скучно с другими. Он не находил того, что было у него с Анной. Это было как наваждение.
…Утром, пока мать собирала на стол, Александр наспех, боясь забыть, записал карандашом на листочке отрывного календаря строчки, которые сложились у него ночью в огороде, когда он сидел у колодца. Эти строки не давали ему теперь покоя.
И мне бы жизнь осточертела,
Была никчемной, как и вам,
Когда б меня Любовь и Дело
Не поднимали по утрам.
Они мой двигатель могучий:
Мои Дела, моя Любовь.
Любое зло, любые тучи
Я с ними одолею вновь.
Стихотворение это начало у него прорезаться еще в прошлую вечернюю смену на работе. Первые строчки преследовали всю смену. И потом, когда он вернулся в общежитие, и после, когда добирался до дома. Потом они куда-то делись. И только этой ночью вновь пришли откуда-то и привели с собой остальные, удивившие его.
«Моя Любовь – это Анна? Или это все, что я люблю в жизни? И сама жизнь?..»
– Саша, отец заждался тебя на задах у рыдвана, а ты не ел еще, живее… Я в рукомойник налила – иди умывайся быстрее.
Он свернул крохотный листок вдвое. Передумав, развернул и написал название стихотворения: «Мой двигатель».
«Какое-то машинное название, – засомневался он. И сам себе возразил: – Зато точное».
По приезде в город, Александр переписал это стихотворение в свою большую тетрадь рядом с его записями о способах получения натурального и синтетического каучуков. Он сделал это наспех, торопясь жить.
Совсем не ожидая, что к записям о каучуке потом вернется всего лишь единственный раз. А это свое стихотворение будет помнить всегда.
«Научное сообщение о свойствах каучука, способах его получения и применения было сделано де ля Кондамином в 1736 году, участвовавшим в экспедиции Парижской академии наук для измерения дуги меридиана, пересекающего Южную Америку. Примерно тогда же, в 1746 году, были высказаны предположения о возможности применения млечного сока каучуковых деревьев для изготовления в Европе водонепроницаемых тканей и других изделий из каучука… Среди каучуконосов основное практическое значение имеет бразильская гевея, из млечного сока которой получают каучук…»
Эти выписки он сделал из небольшой книжечки В. Е. Гуль и Н. П.
Федоренко в розовой обложке под названием «Полимеры». Ковальский первоначально был зачислен на отделение по специальности «Высокомолекулярные соединения» – ВМС, но, подумав, перед началом первого курса добился, чтобы его перевели на ТООС – «Технология основного органического синтеза». Ему казалось, что эта специальность более широкого профиля. Но совмещать он попал, однако, на производство полиэтилена, то есть на производство ВМС.
Его интересовали не только процессы и технологии, но и люди! Гуль, Федоренко, Макинтош, де ля Кондамин, а потом – Лебедев, Бызов. Кто они? Какими они были и как пришли к тому, что стали во главе такого грандиозного дела: создание каучуков и пластмасс.
Он видел разных людей в жизни. Одни умели рубить пятистенники, рыть колодцы. Другие – ремонтировать комбайны, автомашины, шорничать, плотничать. Великие труженики. Но они делали обычное дело. А были еще люди, стоящие во главе таких значительных дел, которые глобально влияли на жизнь.
Не правители, не политики интересны были ему.
Его привлекали к себе люди, умеющие делать конкретное Дело. И обычное, и значительное!
…Он теперь работал и получал лично на своей «нитке» до одной тонны полиэтилена в час.
А в соседнем цехе выпускали синтетический спирт, который служил сырьем для получения каучука. Выходило, что и он сумел прикоснуться к значительному Делу в жизни.
Они мой двигатель могучий:
Мои Дела, моя Любовь.
«Любовь ко всему вокруг и к Делу своему тоже, – пытался расшифровать свое стихотворение Ковальский. – Вера в свое Дело, как в религию – вот мое». Он мысленно разговаривал с Анной и с собой.
Его будто кто закодировал этим стихотворением в лунную светлую ночь у колодца, так похожую на ту, в которую они с Анной были на Самарке. О похожести этих двух лунных ночей, о том, что они непонятно как, но сильно воздействует на него, он думал потом часто. В те ночи что-то с ним было такое, чего Александр не уловил, не мог уловить, что, может, не дано человеку понять. Дано только случайно догадываться, что находишься во власти того, что не зависит от людей. Но воздействует на них сильно. И тогда говорят вокруг: он просто такой. Родился таким. «Кто знает, эти силы, могут, наверное, воздействовать на человека еще и до его рождения», – думал Александр.
Ковальский часто видел и наблюдал себя со стороны, но и эта его способность не давала ему понять себя. Понять так, чтобы быть спокойным…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































