Текст книги "Избранное. В 2-х томах. Том 2"
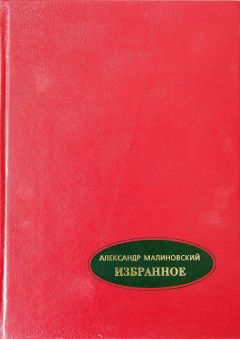
Автор книги: Александр Малиновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 41 страниц)
Глава пятая
Просматривая месяца через два после начала учебы расписание занятий, висевшее в коридоре второго этажа, Ковальский увидел знакомую фамилию. Это было так неожиданно, что он вначале не мог поверить. Изумленно прочел несколько раз и фамилию и номер аудитории, где Рогожинская А. С. читала будущим механикам начертательную геометрию.
…Рогожинская А. С. оказалась полноватой седой женщиной, улыбающейся и приветливой. Не верилось, что она читает механикам такую сухую дисциплину как «начерталку».
Александр подошел к ней сразу после лекции.
– Анастасия Сергеевна, извините, мне по личному вопросу можно к вам? – волнуясь, произнес Александр.
Она вскинула голову и он увидел… Верочкины глаза: большие, голубые. Только на другом лице, взрослом. Но очень похожем. Эти глаза смотрели даже приветливей и открытей, чем у Верочки. «Неужели это ее мать?»
Александр сейчас должен был задать вопрос, ответ на который для него так много значил. Она смотрела на него знакомым, запавшим в душу с детства взглядом.
– По какому личному? Пересдача зачета? Я вас что-то не помню?
– Да нет, – проговорил с расстановкой Ковальский, – я по другому делу.
– Ну, говорите же, я слушаю. – Она сказала эти слова безо всякого нажима: хотите, мол, говорите, хотите нет. Но раз уж…
– Вы знали Верочку Рогожинскую? – решился Александр.
Тень пробежала по ее лицу. Это он заметил.
– Она моя племянница, дочка моего брата.
– Да? – выдохнул Александр.
Он уже понял, что эта женщина напрямую связана с Верочкой. Но все так неожиданно. И ошеломляюще просто. Еще одна-две фразы и все! Встреча с Верочкой вполне реальна! С Верочкой, о которой так много думал! Которую так ждал! Более того, это он мог сказать себе вполне определенно: предстояла встреча, для которой Александр берег себя.
– Мне надо бы знать где она, – произнес он.
– А вы кто?
– Ковальский, – ответил Александр и пояснил: – Она с родителями жила когда-то в Утевке, потом уехала. А мы с ней… – он запнулся. – Мы… я учился в одном классе… с ней.
– Я знаю, Верочка часто вспоминала о вас. Вашу фамилию я помню.
И то, как моя племянница говорила про вас, помню. – Она печально улыбнулась.
– Да!.. – невольно вырвалось у Александра.
– Давайте перейдем в пустой класс, здесь шумно, – предложила Анастасия Сергеевна.
– Да, – с готовностью согласился Ковальский.
…Из класса он вышел пошатываясь.
В каком-то вязком тумане светилось в его сознании лицо Верочкиной тетки. И пока он спускался по лестнице, слышался издалека откуда-то ее голос, говоривший одно и то же несколько раз. До боли в голове: утонула… утонула… Все услышанное только что, давило, теснилось в голове: «…Она влюбилась в него, в Олежку, а он был байдарочник, увлек этим и ее. Вера десять классов кончила, не одиннадцать, как вы вот. После первого курса пединститута и выскочила замуж. Он на электротехническом учился у нас… Она ведь и плавать не умела. Такая домашняя вся… Его отец генерал был. Заместитель командующего ПриВО. Перевели в Ленинград. И они с ним – туда».
«…Она влюбилась в него… она влюбилась в него…» – отдавал ему этими словами в затылок каждый его шаг по лестнице. У него кружилась голова.
Когда спустился на первый этаж и шел мимо вахтера, старенькая Клара Петровна внимательно посмотрела на него и молча покачала головой. Ковальский ее не видел. Он никого не видел.
«…Привезли Верочку в цинковом гробу… Я как чувствовала: отговаривала не ходить в этот странный поход, но меня не слушали: река Белая – тихая, спокойная река, – все мне говорили. Вот и тихая. Вода она и есть вода… И речка-то для нас всех оказалась черной».
Как вышел на улицу, Ковальский не помнил. Лицо было все в слезах. Александр не знал, что делать, куда идти. Он видел перед собой под ногами грязный асфальт. Кто-то шел мимо: туда-сюда. Люди серыми картонными силуэтами передвигались вокруг. «Куда они все идут?» Ноги сами привели его на пустырь за заводским общежитием, где было нечто похожее на стадион.
Он присел на скамейку. Все футбольное поле было перед ним. А он видел сейчас только серое ноябрьское небо. И Верочка в нем ясно виделась ему улыбающейся и безголосой. Звук ее голоса не доходил до него. Или его не было – ее голоса. А был только беззвучно открывающийся странный большой рот…
Ковальский тяжело переносил потери. И знал это. Порой обычное расставание, «пока-пока, до свидания» у автобуса его выводило из равновесия. Он сторонился провожаний.
Потери его рвали изнутри на части.
В нем странным образом соединялись стремление держать дистанцию в отношениях с окружающими и эта черта – прикипать накрепко к тем, кто был около него.
…У него появилась резкая боль в висках и он почувствовал, что правый глаз не так видит, как обычно. Александр подумал, что виной тому слезы и промокнул платком, держа его в нескладных пальцах. Нет, глаз лучше видеть не стал…
Ковальский никому не сказал о своей трагедии. И кому что скажешь? Не было у него такого человека.
…Прошло всего несколько дней, как он узнал о смерти Верочки.
За эти дни он резко изменился. Повзрослел и окончательно простился с детством, в котором так много было Верочки.
Чуть позже Александр узнал у Анастасии Сергеевны, где похоронена Верочка. Оказалось недалеко от поселка Кряж, мимо которого он ездил. Александр решил съездить на кладбище. Он взял отгул. На улице у старушки купил букет астр и пошел было к автобусу. Но передумал. Отошел в сторону. Сел на скамейку. Почувствовал, что не может ехать на кладбище. Не будет сил смотреть на могилу. В нем все протестовало против смерти Верочки. Все его существо сопротивлялось тому, что Верочки нет. Слишком долго он ждал встречи с ней. Это ожидание было в нем постоянно. Оно таилось, жило в нем, и Александр всегда это сознавал. Он не принимал такой встречи, какой она получилась теперь.
«Лучше бы она вышла замуж и уехала куда-то насовсем или что-то другое, но только не это. И почему она так рано выскочила замуж… Она же была не бойкой и не торопливой?..»
Букет астр он отдал вахтерше в общежитии. Она поставила его в двухлитровую стеклянную банку с водой у себя на столе, около постоянно звонившего телефона.
Потом он пожалел, что так поступил. Каждый раз, проходя мимо вахты и увидев цветы, он невольно вздрагивал. Но астры как-то быстро завяли. И их не стало… Как и Верочки…
Но и от этого легче не сделалось. «Живая жизнь обречена на смерть, так просто все? – думал Ковальский, еще не веря в то, что отчетливо понял и принял – вот хотя бы цветы эти… – Но как тогда жить: сознание неизбежной смерти не дает полноценно жить. Как люди соединили в себе несоединимое, несовместимое в своем сознании? Как живут, зная это? Или угроза смерти торопит жить? Нет, кажется, что нет… Но что же движет всем, что живет, коль смерть впереди неминуемая?..»
Жизнь и смерть не совмещались в сознании Ковальского в единое, в один поток. Это соединение было для него непостижимо. Как будто он и не знал, не ведал этого ранее? Сейчас не видел и не знал, что смерть всегда рядом. Рядом с жизнью.
Но это была смерть Верочки. И была – его жизнь.
* * *
Александр еще не начал приходить в себя, а тут новые события.
Может к лучшему? Они уводили от горьких мыслей, возвращали к реальности.
В деканате о случившемся между Ковальским и Эдиком Еськовым все-таки узнали. Кто-то постарался.
Ковальского вызвал к себе декан Калашников Иван Максимович. Уже одно то, что его выдергивали для объяснений из другого города, ничего хорошего не предвещало.
Ковальский рассказал декану по его просьбе, как было, стараясь быть немногословным.
Декан слушал и похмыкивал. Его колючий и цепкий взгляд глубоко посаженных под густыми седыми бровями глаз не позволял расслабляться. Ковальский ежился под этим взглядом. Вылетать из института из-за одной, даже не драки, а так себе «стычки» – нашел в разговоре спасительное для себя название случившегося Ковальский – было глупо.
– Не институт же благородных девиц? – сформулировал он отношение вслух к своему поступку и замолчал, размышляя про себя: «Кажется, не заносчиво, но и не раболепно. По другому нельзя».
Декан посапывал и тоже молчал. Потом как-то странно несколько раз, как механическая игрушка, посмотрел то на Александра, то в окно на голые деревья, ворон, сбившихся в стаю, как студенты. Заговорил тихо, с явной издевкой, что не шло ему. Это бросалось в глаза сразу.
– Ну, серьезный ты парень! Главное – идейный и конкретный. Стиранием граней между городом и деревней можно назвать твои боевые действия, вполне в духе времени. Р-раз – и кулачищем в морду. Вполне интеллигентно. Не первый раз дерешься. При поступлении уже приходил с синяками.
– А что оставалось делать? Меня приперли к стенке, – скорее удивился, чем спросил Ковальский. И совсем было пал духом, увидев, как дернулась левая щека у декана.
– Припрешь тебя, – декан запнулся на миг, подыскивая нужное слово – не нашел и махнул рукой: – такого! – Потом, кажется, нашел нужное ему слово: – Хулиган ты, хулиган! А я тебе давал испытательный срок, гадкий. – Он развел руками: – Как поступать с тобой?
– Но ведь это не относится к учебе, – упавшим голосом произнес Александр, боясь, что любое возражение может обрушить хрупкое равновесие, которое, кажется, еще было.
Декан глядел в окно и качал головой.
– Ты сейчас, Ковальский, как зубчатое колесо в огромной коробке передач. Но у твоего колеса зубцы другие. Они пока не совмещаются без скрежета. И замедляется движение, твое – в первую очередь.
– Как же мне быть? – произнес Александр.
– Вот и я говорю: что с тобой делать? Что-то надо. Думай и сам. Но бить в лоб – не самое лучшее.
«Они что, с Владой сговорились?» – уныло подумал Ковальский.
– В общем-то, – декан непонятно улыбнулся, – ты – совмещенник. Вот и совмещай свое и общее. Тебе чуток потруднее, чем некоторым. Но куда деваться? Приперло к стенке, как ты говоришь.
Ковальский молчал.
В затянувшейся паузе глухо зазвучал его голос. Он говорил будто сам с собой:
– Я иногда чувствую себя рыбой в аквариуме: смотрю на жизнь из него, словно на мерцающий экран телевизора и досадно становится: вокруг жизнь рвется, кажется, во все стороны, а я застреваю со своими допотопными шестеренками в этой тесной коробке передач. А вокруг все несется куда-то.
– У тебя не допотопные шестеренки. У тебя они свои, собственные, – не спеша произнес декан. Зоркий взгляд его ободрил Ковальского. – У каждого свои.
– Как же мне со своими, такими, жить? – не удержался Ковальский.
– Грызи гранит науки. Кулаки побереги. Впереди сессия. Завалишь ее – шестеренки твои полетят вдребезги из института. Понял?
Ответа не последовало.
– Что еще? – сам себя спросил декан и ответил: – Как только закончится работа на заводе и переедешь в Куйбышев, приходи на кафедру ко мне. Будешь работать в моей лаборатории. Тебе наукой надо заниматься. Грузить тебя надо делом. Мозги чище будут! Понял?
– Понял, – вяло ответил Александр.
– Ну, а раз понял – это уже полдела.
…Из деканата Ковальский вышел криво усмехаясь: «Пронесло, – думал холодно, как не о себе. – Мы шестеренками должны быть все. Одинаковыми. Тогда – порядок».
А через неделю после разговора с деканом к ним в рабочее общежитие в Новокуйбышевске явился плотный лысеющий крепыш – их «классная дама» – преподаватель Перепитуев Андрей Андреевич. Перепитуев ходил по комнатам, разговаривал с ребятами, с заведующей общежитием, с вахтером. Многозначительно хмыкал и ежился. Было похоже, будто ему дали какое-то поручение, а оно ему не очень приятно.
«Неужели его Калашников прислал? Не может быть», – размышлял Ковальский.
Оживился гость, когда увидел двухпудовую гирю в комнате, где жили Гуртаев, Ковальский и Инок. Умело и спокойно он вытолкнул на вытянутую руку двухпудовку над головой пять раз кряду и довольный уселся на стул, цепко поглядывая на всех сразу.
– Саш, – усмехнулся Гуртаев, – покажи, что можем. – И вельможно повел рукой.
Ковальский уже привык, что на старосту иногда находило. Любил он кураж. То серьезный очень, а то – словно другой человек.
– Да… – вяло возразил Ковальский. Ему не понравилось предложение старосты. Сидит: то ли разведчик, то ли доносчик? Показывай ему.
– Попробуйте, – согласился вежливо крепыш, с интересом глядя на невысокого подтянутого Александра.
Ковальский выбросил гирю десять раз для ровного счета и решил, что хватит. Спокойно и аккуратно поставил снаряд под кровать. Гость восхищенно смотрел на Александра.
– Какой же у тебя вес?
– Шестьдесят девять кэге, – ответил Александр.
– И давно занимаешься?
– Я не занимаюсь. Гиря эта по наследству к нам перешла от прежних жильцов.
– Да-а, – сказал удовлетворенно Перепетуев. – Вернетесь на дневное отделение, поведу вас к Синельникову – тренеру по тяжелой атлетике. Он заслуженный мастер спорта. У тебя преотличные данные. Держись за институт.
Когда «классная дама» удалилась, Гуртаев произнес;
– Шэ-пэ!
– Не понял? – произнес Ковальский.
– «Швой парень», что надо! – пояснил староста.
Глава шестая
…В городе нефтехимиков кипела молодая жизнь. Возрастающие потребности огромной страны в синтетическом каучуке, наличие сырьевой базы, развитой инфраструктуры, водной и железнодорожной магистралей позволяли в 1962 году, как раз в год приезда Ковальского в Новокуйбышевск, начать строительство здесь еще и нефтехимического комбината – одного из крупнейших в Европе.
А до этого в марте 1961 года заработали вовсю цехи получения фенола, ацетона и альфа-метилстирола на заводе синтетического спирта, который чуть позже станет одним из крупнейших в стране.
Трудно было и вообразить теперь, что там, где раскинулись корпуса огромных современных заводов, была когда-то голая степь, а красивый кинотеатр имени XX партсъезда стоит на месте бывшего колхозного полевого стана. Четко сработал принятый 22 февраля 1952 года Президиумом Верховного Совета РСФСР Указ, гласивший: «Преобразовать рабочий поселок Ново-Куйбышевский в город областного подчинения, присвоив ему наименование – город Новокуйбышевск».
Тогда сразу же была созвана городская партийная конференция. Первым секретарем городского комитета партии был избран Сергей Константинович Корнейчик. Председателем исполкома городского Совета – Дмитрий Кувшинов, выходец из Утевки. Ковальский тогда еще не слышал о своем известном земляке.
Знал Ковальский, что на заводе, где он работает, уже нет директора Анны Сергеевны Федотовой, так поразившей и восхитившей его, когда они всем классом приезжали сюда смотреть большую химию. Поразившей и, может быть, решительно повлиявшей на окончательный выбор им профессии.
В октябре того же 1961 года, когда утевские ребята приезжали на завод, Анна Сергеевна прощалась с заводчанами. Уезжала с горечью в Москву. На прощание передала в заводскую библиотеку все свои книги, накопленные за двенадцать лет (столько она прожила в Новокуйбышевске). Двухкомнатную половину коттеджа, в котором жила, оставила семье молодого парня, полностью потерявшего зрение при срыве крыши у щелочной емкости…
…Прошло всего десять лет, как вышел Указ о преобразовании поселка в город, а Новокуйбышвск уже заявлял о себе во всю мощь. Молодежные стройки притягивали к себе. Молодежь, съезжавшаяся со всех концов страны строить предприятия нефтехимии, несла свою особую энергию.
В 1961 году из ста пятидесяти всесоюзных ударных комсомольских строек в стране ЦК ВЛКСМ объявил в Куйбышевской области три: Куйбышевский завод синтетического каучука, куда уехала параллельная группа нефтехимиков, 2-ую очередь Куйбышевского завода синтетического спирта, где теперь предстояло осваивать рабочие профессии Ковальскому, и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
Город был переполнен молодежью.
Кто бывал на подобных комсомольских стройках, жил в городах, ими рожденных, знает, что это такое.
Новокуйбышевск, как большой котел или чан, бурлил от огромных дел. Кипел. Жил во всю комсомольско-молодежной жизнью. Была уже построена и пущена 1-ая очередь завода синтетического спирта. Стройные кварталы новых домов росли зримо и торжествующе. Много еще строилось, достраивалось. И вновь начинало строиться.
Улица Миронова порой становилась такой многолюдной, что было трудно пройти, не задев кого-то локтем. Обилие парней и девчат, наличие «наверху» улицы молодежных общежитий, а «внизу» – клуба и танцплощадки в парке, делало ее путепроводом – большим, длинным коридором, который называли «Бродвеем» или «Бродом». Мелькали особой моды рубашки: перекаршенные в черный либо ярко-красный цвет китайские сорочки, высокие девичьи прически, чаще всего под названием «Бабетта». Модными были туфельки на «манке», у ребят – на высоком каблуке. Перекрашенные рубашки ничто, если не приподнят воротничок, а на голове отсутствует прическа «канадка». Осенью ребята щеголяли в светлых фуражках, которые не так легко было приобрести. Зимой – в цигейковых пирожках, боярках. Вошли в моду шалевые воротники.
Чуть ли не эмблемой, конечно, неофициальной, города сделался забавный человек со странной фамилией Доминов. Он появлялся везде. Был вездесущ. Смуглое лицо с бородкой, большая лысеющая голова с внушительным лбом венчали его худое узкоплечее тело, облаченное в перекрашенную, чаще в красный цвет, рубашку, одетую на голое тело. Брюки – не иначе как в «дудочку», в обтяжку. Одеть их можно было, наверное, только на намыленные ноги. На ногах – внушительные, вернее даже, огромные, на толстенной подошве ботинки.
Голоса Ларисы Мондрус, Майи Кристалинской, Ирины Бржевской и только что объявившегося Муслима Магомаева будоражили молоды сердца.
В декабре в Новокуйбышевск приехал Махмуд Эсамбаев, названный в зарубежной прессе «Колумбом в мире танца». Он уже был известен по картинам «В мире танца» и «Я буду танцевать». Всем хотелось посмотреть на живого артиста.
Группа Ковальского, те, кто был свободен от работы, кто смог подмениться на работе в смене, человек десять, прорвались во Дворец культуры.
Все было прекрасно. Одно тяготило Александра. В отцовском, великоватом ему полупальто «москвич», тяжелом, с огромным воротником и большими карманами – он чувствовал себя чудовищем. На фоне франтоватых, разных цветов пальто с цигейковыми и каракулевыми воротниками, шалевыми и обычными, его одежка годна была разве для того, чтобы стоять где-нибудь в лютый мороз в валенках около сторожевой будки или ездить за соломой в поле.
Он был бесконечно благодарен отцу, который в последний приезд Александра в Утевку отдал ему на первую его городскую зиму этот, как он говорил, «пинжак». По понятиям отца, полупальто было чуть ли не сокровищем. И Александр не мог ничего сказать кроме искреннего «спасибо, пап». Отец не видел, во что одевалась хорошо зарабатывавшая на химических заводах новокуйбышевская молодежь.
Все бы ничего, да рядом была Влада, одетая нарядно и модно. Ковальский чувствовал себя пугалом.
– Ты чего такой кислый был всю дорогу, пока шли из ДК? – спросил Гуртаев уже в общежитии.
– А ты видел меня сегодня в моем пальто? – вопросом ответил Ковальский.
– И шапку твою видел затрапезную, ну и что?
– Да ничего, – ответил Ковальский. – Если бы Эсамбаева одеть в мое пальто хоть на полчаса, он бы застрелился. В Куйбышев приезжает Евгений Матвеев, Влада предлагает съездить, а куда я такой?
– Послушай, сходи в ателье, тебе его обрежут, будет получше.
Маркис – зря скис!
– Не могу, – после короткого раздумья ответил Александр.
– Почему?
– Это пальто моего отца. Оно ему очень дорого. Хотя он его почти не надевал. Оно у него выходное.
Белесые брови старосты группы слегка поднялись. Он энергично почесал всей пятерней свою рыжую бороду.
– Вот так? Тогда у меня есть другое решение.
– Какое еще решение? Староста не ответил.
А через два дня Гуртаев потихоньку ото всех затащил его в магазин одежды. Там чуть не силой заставил Ковальского примерять одежду. Они приобрели драповое темно-коричневое пальто с шалевым воротником и такого же цвета головной убор: модный «пирожок», смахивающий на зимнюю солдатскую пилотку. Вся эта красота стоила сто пятнадцать рублей.
– Мы же все начинаем получать нормальные зарплаты аппаратчиков, – пояснил староста. – Я одолжил у работяг в цехе. Отдашь, когда сможешь.
Он довольный стоял у зеркала и улыбался. Улыбались, глядя на них, и молоденькие симпатичные продавщицы. Они слышали разговор покупателей и смотрели теперь на Гуртаева, как на фокусника.
Полупальто «москвич» и шапку девочки аккуратно завернули и перевязали бечевкой. Гуртаев все это забрал, а Ковальского заставил облачиться в новое.
Когда вышли из магазина, довольный староста группы провозгласил, совсем не обращая внимания на прохожих:
– Ну вот видишь, ты красив теперь, как Бог!
В уличной толпе враз на это откликнулись.
– Товарищи уважаемые, вы с какого Совнархоза будете? – оглядывая Ковальского, пробасил высокий элегантный прохожий. Он остановился, глядя на узконосые туфли Ковальского, синие брюки, красный шарф и только что купленные обновки.
«Чего ему еще надо, шел бы себе», – конфузливо подумал Ковальский.
Но старосту так просто не возьмешь.
– Естественно, со Средволгхимснаббурмашстройкомплектрогаикопыта, а что? – И ядрено довольный рассмеялся.
– А?! – удивился элегантный и поднял вверх руку в красивой коричневой перчатке: – Я рад за вас ребята!
– От винта! – держал свой фасон рыжебородый староста.
Окружающие дружелюбно и понимающе улыбались.
Гуртаев мог быть не только строгим старостой…
…После сдачи на допуск к самостоятельной работе Ковальский стал получать по сто рублей в месяц. Это были для него приличные деньги. Уже через три месяца он вернул свой долг.
Так реформа в высшей, вменявшая студентам первого курса обязательную работу на предприятии, дала возможность Ковальскому, да и всем ребятам-совмещенникам, безбедно начать свою студенческую жизнь.
Те, кто учился на дневном отделении первого курса получали в это время стипендию в три раза меньше, чем они зарабатывали.
«Хвала реформаторам во веки веков!»
…Бережно упаковав «москвич», Ковальский в один из выходных отвез его в Утевку. Этому отцовскому полупальто не было и для него цены.
…Экзамены за первый семестр Александр сдал без троек. Получалось, что он выполнил условие, которое ему поставил декан Калашников.
Один Иннокентий Рамазанов получил «неуд» по начертательной геометрии. Но на другой же день в зачетке у него появилась оценка «хорошо». Он, как фокусник, с удовольствием показывал зачетку, являя для обеих групп пример несгибаемого оптимизма и непотопляемости. Иннокентий к тому же оказался и отчаянным шутником. Об этом они узнали вскоре.
Вечер. Улица Миронова. По направлению к общежитию идут трое:
Гуртаев, Ковальский и Рамазанов. На противоположной стороне улицы из переулка, метрах в пятидесяти, выходят два молоденьких милиционера. Увидев их, Иннокентий выхватывает из кармана пальто пистолет и картинно прицелившись делает два выстрела.
– Братва, тикаем кто куда! – зверски выпучив глаза, бросает он своим спутникам.
Подъехавший к остановке маршрутный автобус, остановился и закрыл собой милиционеров.
…В общежитии Иннокентий появился последним.
– Балда, заскочил в какой-то подвал, все брюки испачкал, – как будто о чем-то обычном поведал он.
– Где пистолет взял? – сурово по-командирски спросил староста.
– Где-где, в спортивном магазине, – ответил Инок и ехидно засмеялся. – Обычный стартовый спортивный пистолет.
– Дурак, – веско сказал Анатолий и на его щеках заиграли желваки, а лицо его пошло пятнами. – Я те…
– Интересно было проверить ментов, – пояснил Рамазанов, будто не видя состояния старосты. И добавил, нахально глядя исподлобья: – И вас проверил. Шустрые вы мужики, однако. В разведку с вами ходить можно.
– Обратно дурак, – сказал староста группы. – А если б догнали?
– А где доказательство того, что я в них стрелял, а? – Инок смотрел своими круглыми глазами навыкате, не моргая.
– Но они же видели, милиционеры эти.
– А может, я в воздух?! Где пуля-то? Пуля-дура, где? Ее нет! Вот где доказательства, что я не стрелял. А мало ли чего кому покажется. Вам вот показалось, вы и дернули с улицы. – Он сделал дурашливое лицо.
– Ну, вы, мужики, даете, – не выдержал молчавший до сих пор Михаил Оборин. – Не думал, что студенты такие шалопутные. Как вас не загребли? – Отложив газету, приподнялся на кровати. – На танцах в индустриальном техникуме, я был свидетель. Один такой все ходил и постреливал у себя в кармане пиджака из спортивного пистолета, стартового. Примчались менты. Забрали. Он долго потом выпутывался. Не знаю, чем кончилось.
– Анатолий, – обратился к старосте Ковальский, – давай ему первое и последнее строгое предупреждение вынесем, чтоб подобного не вытворял. Бить будем, если подобное натворит.
– Я «за» мужики, очень гуманное предложение поступило, – гоготнул Инок и поднял руку.
– Ты вот что, – Гуртаева трудно было сбить с толку, – вали из комнаты. Три дня чтоб глаза мои тебя не видели, понял?
Иннокентий понял. Видел: старосту не остановить. Закипело.
– Хорошо, – чересчур даже покорно согласился он. – Пойду к девчонкам в общежитие. Причина есть опять же: староста велел.
Когда он ушел, Анатолий сказал нервно:
– Страна ждет героев, а ей рожают чудаков. – И собрав грязное белье, отправился вниз, в прачечную.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































