Текст книги "Избранное. В 2-х томах. Том 2"
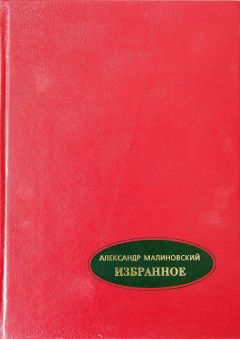
Автор книги: Александр Малиновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 41 страниц)
Глава четвертая
Хрущевские реформы дотянулись и до высшего образования. В деканате было объявлено, что с 1-го сентября первокурсники на три недели едут убирать картошку. А после картошки нефтехимики будут направлены на учебу в Тольятти и Новокуйбышевск в филиалы института на вечерние отделения. Предстояло работать на нефтехимических заводах в цехах, а вечерами учиться. И так – полтора года. И только после этого они должны вернуться в Куйбышев на дневное обучение. Но не на второй курс, а на первый.
Такая подготовка специалистов называлась совмещенной. А студентов стали звать соответственно – совмещенниками. Ковальский оказался среди первых совмещенников.
Реформы, получалось, съедали у тех, кто закончил одиннадцать классов в шестьдесят втором году, целых полтора года.
Лишний год Ковальский до этого проучился в средней школе с производственным обучением. Результатом этого было полученное им удостоверение тракториста-машиниста широкого профиля третьего разряда. И три небольших шрамика над верхней губой, оставшиеся после аварии в степи при работе на тракторе. Но то – мелочи жизни…
Вторая часть реформы: совмещение обучения с работой на нефтехимическом заводе была значительней. И должна была дать многое. Но закончится ли с этим совмещением работы и учебы для Ковальского его личное «совмещение»? И закончится ли оно для него в институте? Сколько усилий потребуется ему, чтобы «совместить» в себе его деревенское с городским, неопытность со зрелостью, русское с польским, веру с безверием? Долго ли пронесет в себе тягу к технике, безоговорочную уверенность во всесилии технического прогресса, как панацеи от всего?
Всему свой черед.
Немало предстояло Ковальскому преодолеть. И не в один год. И не в пять лет. И не без потерь. Хватит ли жизни на остальное? И по плечу ли?
…Картошка всех сдружила. В далеком татарском селе первокурсники проходили суровую школу чиновничьего равнодушия и безалаберности. Спали на соломе. На необозримых картофельных полях не было ни одного нужника. Их заменяли небольшие овражки в конце почти стометровых рядов картошки.
Ковальскому эти неудобства были знакомы. Вспоминалась посадка яблоневого сада под Нефтегорском. Но там было все более-менее по-людски. Были все свои: учителя, работники питомника.
На уборке картофеля – совсем иное. Даже почва и то здесь была другая: чернозем, который при моросящем дожде становился вязким, обувка мокрой и тяжелой… А местное начальство было недостигаемо при любой погоде. Казалось, все, что касается уборки картофеля – дело только приезжих и никого другого…
…А под Нефтегорском была темно-коричневая песчаная почва. Податливая и привычная. Да и посадка велась в бодрые, солнечные дни, рождавшие в душе радость и волнение не на один день…
…Жили совмещенники, вернувшись с картошки, в рабочих общежитиях на красивой и праздничной от обилия молодежи улице имени Юрия Гагарина. Гуртаев, Ковальский и Иннокентий Рамазанов поселились в одной комнате. Инок – так в группе звали Рамазанова – редко бывал в общежитии. Он оказался женатым и уезжал в Куйбышев к своей жене Ольге, которую никто из группы пока не видел. Гуртаев и Ковальский быстро сдружились, несмотря на разницу в возрасте. Староста группы Гуртаев уже успел и на производстве поработать, и в армии отслужить. Это не мешало им быть на равных.
Была одна особенность у комнаты, в которой поселились совмещенники: четвертым жильцом был веселый душа-парень Михаил Оборин – рабочий, уже бывалый оператор. Он был родом из села Мало-Малышевки. Той самой, в которую Шурка с дедом всегда заезжали, когда бывали на сенокосе в тех краях. Оборин знал и лесника Репкова. Рассказывал о нем смешные истории. Общение с земляком, самое даже обычное, согревало душу Александру.
Оборин успел закончить техническое училище, поработать в городе Грозном на химическом заводе. А теперь его пригласили, как опытного специалиста в цех получения полиэтилена. Он участвовал в пуске сушильного отделения.
Сразу после знакомства у Оборина возникло неодолимое желание побороть Ковальского. Они схватились несколько раз подряд, но Оборин терпел поражения. И каждый раз деловито, без обиды, пытался понять, почему проиграл. Эта его дотошность притягивала окружающих. Он громогласно объявил в комнате, что берет социалистическое обязательство через полгода побороть Ковальского.
Ковальский пообещал, что будет за него переживать, но не более. А Гуртаев взял исполнение обещанного на контроль.
Куйбышевский завод синтетического спирта был в Поволжье первенцем – первым в создании новой, никому до того неведомой здесь отрасли отечественной промышленности – нефтехимической. Такие процессы, как органический синтез, полимеризация, гидратация, впервые стали осваиваться на заводе, куда прибыла группа Ковальского на стажировку.
Предприятие стало школой подготовки необычных профессий, производственной лабораторией по выпуску кадров не только для Поволжья, но и всей страны. И здесь совмещенникам предстояло освоить профессию аппаратчика нефтехимического производства.
Ковальский один из всех почему-то попал в цех производства полиэтилена. В тот самый, где он был около года назад на экскурсии с группой утевских школьников.
Цех только что пустили, еще были в нем немцы, проводившие шефмонтаж. Что-то не ладилось. Много было непривычных слов: гранулят, нитка полимеризации, центрифуги, аппараты Наута – и всякого другого.
Он будто оказался посреди муравейника или улья с пчелами. У каждого здесь – своя роль, свои обязанности. Он же в первые дни был никому не нужен.
Его определили в смену «Б», которая, как он услышал в курилке, была самая крепкая. Александр сидел в операторной и читал инструкции. «Нитка обработки», так называлось его рабочее место, пока еще не была пущена. Таких «ниток» в цехе всего шесть. По одной «нитке» на каждый реактор. Вначале из газа этилена получали раствор полиэтилена и на «нитке» в центрифугах отжимали из раствора полиэтилена жидкую фазу, получая порошок. Обработка – процесс полуавтоматический. Вокруг световые указатели, блокировки, сигнализация. Рабочий щит – как живой. На нем все время что-то происходит. «Загрузка», «фильтрация», «подвод ножа», «выгрузка» – эти надписи чередовались: то гасли, то зажигались. Техника – самая передовая. Технология немецкая, оборудование немецкое. Когда Ковальский спросил: «Почему так, почему все немецкое?» – ему снисходительно пояснили: «Так у нас, русских, нет своего – ни того, ни другого».
…Он быстро изучил инструкции и готов был сдавать экзамен, недоумевая, почему заместитель начальника цеха тянет с назначением дня приема. Наконец, и этот рубеж Александр преодолел. Через два месяца с момента появления в цехе ему присвоили третий разряд аппаратчика узла обработки полиэтилена.
Помогало вживаться во все подробности цеховой жизни и то, что в его смене работал Михаил Оборин, охотно дававший необходимые пояснения.
…Открытия преследовали Ковальского на каждом шагу. И не только в технологии. Он совсем случайно в курилке узнал, что у аппаратчика их смены, весельчака Виктора Брусничкина, капитана цеховой сборной по волейболу, отца, попавшего во время войны в плен, сослали в лагеря и он там умер.
– А что же он такой веселый? – непроизвольно обронил Ковальский, узнав об этом.
– Чудак ты человек, – ответил ему расторопный Косолапов, которого все звали Медведем и у которого стажировался Ковальский. – Вот если бы у тебя такое, ты что, сидел бы всегда как на похоронах? Ведь жизнь-то идет!
– Да, идет, – глуховато согласился Ковальский. А про себя подумал: «Мой отец, поляк, может, давно бы уже вернулся в Союз, а его – в Сибирь…»
Многое теснилось в голове: рассказы об отце, встречи в Утевке с Кочетком, который работал с отцом в мастерской, советы бывшего директора школы Кузьмы Емельяновича Данилова – попробовать найти следы Мокридиных.
«Что же мне делать?» Поразмыслив, он решил заняться вначале поиском своей одноклассницы Верочки Рогожинской, уехавшей так неожиданно вместе с родителями из Утевки в город. «А потом по ходу дела посмотрим».
…Приехав после уборки картошки в город, он почувствовал заметную перемену. Там Александр выделялся. Это он чувствовал и сам; был и сноровистее, и выносливее многих. Сказывался деревенский навык делать изнурительную работу. Он ведь и среди деревенских-то выделялся умелостью работать – дедова и отцова выучка.
…Те, кого было не видно, не заметно на трудной работе в поле, кто не торопился или не успевал там – почему-то стали бойчее и увереннее. Убедительнее. И к Ковальскому стали относиться заметно прохладнее. Словно, не сговариваясь, не прощали его превосходства на грязной, вязкой земле, с растоптанной ботвой, мокрой осклизлой картошкой. Не прощали его умение быстро и расторопно уладить самое непростое дело. Будто молча говорили ему: «Твое же место там, на картошке, почему ты здесь?» Словно брали реванш за свое унижение на колхозной земле. «Отчего это так? – думал он. – Ведь я же начитан, кое-что умею, знаю. И потом у меня ни к кому нет претензий. У каждого есть право быть самим собой». Но, оказывается, это право ему никто не гарантировал. Это он почувствовал скоро.
* * *
Первая группа вывалилась после вечерних лекций на улицу. Большая часть направилась в общежитие. Человек десять со старостой пошли на площадь к фонтану напротив ресторана «Дружба».
Шли, болтали. Кто о чем. Ковальский молчал. Но когда Еськов – самарский разбитной парень, заявил, что поймал в воскресенье на рыбалке голавля в метр длинной, Ковальский со знанием дела высказал сомнение.
– Голавли такие очень редко бывают. Это не голавль, очевидно, был… – сказал и сказал, совсем не желая обидеть говорившего. Разговор-то пустяковый совсем.
– Да ладно! Ты там, в своей Клоповке, в щели запечной сидел, ничего не видел. А туда же… Хвалишь свою деревню, как кулик болото. Мы уже наслушались. И видели на картошке, какая она, деревня ваша.
Ковальский не ожидал такого откровенного наезда.
Он в упор взглянул на говорившего. Маленькие карие глазки на упитанном, загорелом лице бегали жуликовато. «Да он же наглец, еще тот наглец», – подумал он и поправил с расстановкой:
– В Утевке, в селе Утевке…
– В Утевке, Клоповке – все одно. «Лапти да лапти, да лапти мои», – вдруг по-скоморошечьи пропел Эдик, выбежав вперед всех и картинно подбоченясь. Потом задергал плечами и добавил: – «Валенки ды валенки, ды не подшиты стареньки, ды!» Все собрал в кучу.
Ковальский понял: это проба. Но такая явная, безоглядная, самоуверенная… Это же тот Эдик из детства его, притеснитель и хам. Как две капли… Даже не верилось, что так можно при девчатах. Примитивно. Слюнявить было нельзя. Он резко метнулся вперед.
В следующий момент, этого никто не ожидал, его крепкий кулак ловко приложился под глаз смуглого Эдика. Рука сработала как поршень. Еськов оказался под молоденькой липой, смешно задрав выше головы левую ногу в коричнево-темном ботинке.
– Ты что? – Староста Гуртаев схватил Ковальского за кисть и попытался заломить руку. Но не тут-то было – Александр вывернулся. Он был готов ко всему.
Вскочивший Еськов, с налитой злобой глазами, как резвый, готовый на все бульдог, втянув шею, бросился в атаку. Гуртаеву удалось схватить его поперек туловища обеими руками за пояс. Он весь, расставив ухватом ноги, напрягся, еле удерживая Еськова.
– Вы что, чумовые? – взвизгнула Влада Чарушина и загородила Ковальского. Остальные, отступив, сбились в кучку.
– Да я ж его, салагу, я его… – Еськов готов, кажется, был заматериться, но не решился.
Пока сдерживался, потерял запал. Староста успел перехватить его еще крепче.
– Давай-давай, сначала сопли убери красные, служивый, потом драться будешь, – с расстановкой проговорил Ковальский, отстраняя рукой Владу.
Он видел, как обидно было Еськову, как он, отслуживший в армии, не может поставить на место неслужившего его. «Мы таких уже видели», – подумал, но не сказал Ковальский. Он вспомнил борьбу молодого городского парня из Нефтегорска, квартировавшего у соседки Любаевых – Мани Сисямкиной, Разлацкого и дядьки Сереги на задах, в Ваньковом переулке. Тогда Разлацкий, а с ним и город, победили. Но не теперь… Помнил он и про ракетки на улице Венцека.
Влада все-таки оттеснила подальше Ковальского, Гуртаев отвел в сторону Еськова. И так, двумя группочками, они ушли с площади.
– Ты что, так всегда поступаешь? – спросила Влада. И не дождавшись ответа, обронила как будто себе под ноги. – Ну, прям, дикарь какой-то!
– Нет, не всегда. Когда надо, – спокойно отвечал Александр, осторожно трогая губами кулак. – Долго будет свои «лапти» помнить.
Он понял, что один и перед этой горожаночкой Владой. И надо держать оборону до конца. Дело чести, как перед Эдиком.
– Скажи, когда ты последний раз дрался? – не унималась Влада.
Ковальский молчал. Проговорил нехотя:
– Этим летом мне досталось.
– Представляю. Сам поди напросился.
Александр молчал.
– Ты в городе не веди себя так, тебя могут поломать крепко. Я – запанская. Есть такой в Самаре хулиганский район. Видела кое-что.
– И я видел, – ответил Александр.
– Вообще, брось эти привычки деревенские. Иначе уроки тебе будут обеспечены. Этот Эдик из шпаны, видно, – не унималась Влада.
– Кое-какие уроки мне уже дали, – сказал незлобно Александр, имея на уме борьбу Разлацкого с Сергеем в пыльном переулке. – Но я деревню в обиду не дам.
– Что ты говоришь? – удивленно воскликнула Влада.
– Народ сельский не дам оскорблять!
– Прям, какой-то Робин Гуд. Ты наивный такой, ей-богу… Тебе либо кости переломают, либо турнут такого из института. – Она замолчала, потом добавила: – Подумай, ты же от своей слабости дерешься.
– Как? – не понял Ковальский.
– Ну, кулаками верх хочешь взять, а есть ведь голова? Можно сказать хлеще, чем ударить. Это у тебя есть? А ты враз как бы признаешь себя побежденным – и за это мстишь кулаками. Словами победить слабо?
Ковальского это покоробило.
– Таких словами победить можно? Он же прохвост? Видно. – Помолчал и добавил: – Сравнила тоже. Робин Гуд был головорез. Он отрубал головы противников и сажал на кол. Жил в конце тринадцатого века, партизанил против Эдуарда второго в Шервурдском лесу. Масштабы! Король, наверное, тип был еще тот. Все Эдуарды, которых я знал – бандиты. Этот Эдуард второй, наверное, был не исключение.
Влада даже остановилась при последних словах.
– Боже, гремучая смесь какая-то. Дикость. И в тоже время – основательность особая. Ты, бог знает, кем можешь стать. У тебя неудержимый, оказывается, характер. Где ты рос?
– Как, ты разве не слышала где, вон тот, с разбитой физией, уже объявил: я – из Клоповки.
– Перестань. Нельзя же сразу и меня в лицо кулаком. Или у вас все такие? На картошке были: грязь, неразбериха, всего вдоволь, но драк же не случалось!
– А вот, если бы тебя обозвали какой-нибудь калчужкой?
– А что это такое?
– Не знаю, мама моя так называет тех, кто чересчур несуразный.
Она оглядела его с ног до головы бесцеремонно, даже насмешливо.
– От тебя шип идет.
– Что за шип такой?
Она пояснила:
– Это когда шкворень горячий в воду опускают. Он шипит. Вот и ты здесь, в городе, стал таким. А на картошке был уравновешенный. Ловкий и отзывчивый. В тебя же там чуть не все наши девчонки влюбились. В грязи, в суматохе ты выигрываешь, а где все вроде бы нормально – тебя корежит. Я не первая заметила. Асфальт под ногами ровный, а тебе на нем непривычно. Спотыкаешься.
Он шел рядом молча. Она говорила то, о чем он сам часто размышлял. В душе Александр во многом был согласен с этой миниатюрной, открытой и бойкой горожаночкой. Понимал, что предстояло в институте не только «грызть гранит науки», но и осваивать новый материк – городскую жизнь, быт ее. Слишком лихо десантировался он в новую, другую жизнь. Даже вот она, Влада, поучает его. Чувствует свое превосходство.
– Мы пришли.
Он и не заметил, как дошли до женского общежития.
– Пока! Не унывай. Ты у нас в группе родинка на самом видном месте. Заметная. – Она ни чуть не смутилась, сказав это и махнув рукой, пошла к подъезду.
«Какая родинка и где?» – смешался Ковальский.
Он шел по тротуару, на теплом асфальте которого лежали желтые листья и невесело подводил итог начала своей городской жизни. Поразмыслив, подумал, что, может, она и права, эта запанская девчонка. Ведь Разлацкий, нефтегорский буровик, оказавшись один среди утевских, не дрался, а его принимали за своего. Не трогали. Он не дрался – он боролся. У него похожая ситуация. Только тот – горожанин – был в деревне. А он – сельский – попал в город.
«Ладно, попробую драться только тогда, когда с кулаками на меня сами полезут, – дал он себе слово. – Попробуем другое оружие…
А новый материк, городскую жизнь, надо осваивать. Куда деваться?
Да и не только городскую. Просто жизнь – необъятный материк, в нем неделима жизнь – деревенская и городская… Неделима!»
На другой день, когда он пришел на лекции, оказалось, что его за драку осуждают не все.
– Здорово ты ему врезал, не ожидал, крепкий ты парень, я это оценил, – признался староста Гуртаев.
– Я и тебе хотел врезать, когда ты на меня попер, – сознался Ковальский.
Староста как-то чудно икнул и разразился смехом. Тихо он смеяться не умел. В аудиторию они вошли оба весело улыбаясь.
* * *
…Ковальский, к своему удивлению, оказывается, не знал элементарного: в первый раз в столовой он не сразу сообразил, что «гарнир» – это всего-навсего каша, картошка, рис, только с чем-нибудь еще основательным, вроде котлеты, колбасы…
У них в селе, дома, такого слова не было. А в книгах не попадалось.
…Две белые простыни на койке в комнате: одна на матраце, а другая – к байковому одеялу вместо какого-то пододеяльника, которого он никогда не видел, приводили его в тихое восхищение. Ему нравилось по утрам застилать кровать, оставляя сверху прямоугольнички байкового одеяла, обрамленные аккуратно свернутой вдвое простынею. У них в доме простыней не было. «В пионерском лагере, наверное, были, – рассуждал Александр. Но он никогда в лагере не отдыхал. – Кто же, если уедешь в лагерь, дома дела делать будет? Даже чудно?»
Он впитывал все новое, как губка. Порой было так обидно не знать простых вещей. Хотя и понимал, что это естественно в его положении, но часто чувствовал себя униженным. Как объяснить это горожаночке Владе и другим? Да и надо ли объяснять свои проблемы? Влада совершенно не принимает той половины его натуры, без которой он не Ковальский. Куда ему девать эту половину, если она есть. Эти половины как сиамские близнецы.
«Развивать и крепить знания, интеллект. Прав увы, брат Петро, сказавший у самолета при посадке, что я – десант очень зеленого пока цвета. Начиная с моего чемодана… Я больше чувствую, чем знаю. А так нельзя в городе».
То, что Влада Чарушина явно к нему неравнодушна, Александр узнал, еще когда они были на уборке картошки. Она сама призналась, что обратила на него внимание, когда писали сочинение на вступительном экзамене.
– А когда мы оказались в одной группе, – говорила она, – то поняла, что пропала.
Ее прямота была для него необычна. Он не знал, что с этим делать. Она слишком торопилась заиметь на него какие-то права, на глазах у всех. Его это настораживало. А она только смеялась и продолжала вести себя с ним так, что он порой ее сторонился. Слишком она была инициативна и не скрывала ни перед кем своих намерений. Права оказалась бойкая землячка Аксюта: Ковальский был приметный парень.
И он был влюбчив.
…Когда он наконец-то добрался до своего общежития, то не пошел к подъезду, а свернул в скверик напротив. Где была школа и пестрели за изгородью ребятишки. Ему еще надо было кое-что додумать.
Он вспомнил наставления Владимира Пудовкина, которые тот давал ему, на Ледянке, убеждая в необходимости учиться дальше, и усмехнулся:
– Вот он – я, частичка будущей интеллектуальной силы России, а многое вижу впервые. В свои-то восемнадцать лет… Ничего себе разгон?!
Как все-таки быстрее узнать городскую жизнь?
Он уже успел записаться в областную библиотеку.
В библиотеке настоящую жизнь не узнаешь. Это Александр понимал. Но там натыкался на такие вещи, которые раздвигали слежавшуюся пластами обычную жизнь.
Накануне, в прошлую субботу, в его руках оказалась книга, которая ошеломила его. Широта охвата того, чем сейчас была заполнена его жизнь, явилась неожиданной. Александр отложил книгу. Вышел в город и купил большую общую тетрадь в клетку, решив, что будет заносить в тетрадь все то, что касается его будущей профессии.
– Ты сразу министром, что ли, хочешь стать, сдай сначала на четвертый разряд. Торопишься малость, – шутили соседи по комнате.
Это его не смущало. Наоборот. Он нашел источник, который питал его, двигал вперед.
В тот первый день, когда он купил общую тетрадь в клетку, в ней появилась первая запись: «Настоящей книгой авторы пытаются восполнить тот пробел по вопросам химии и технологии получения полимеров, который имеется в ряде пособий для учителя». Так писали авторы книги: доктор химических наук, профессор В. Е. Гуль и доктор экономических наук, профессор Н. П. Федоренко.
Первая глава этой бесценной сейчас для Ковальского книги открывалась словами Никиты Сергеевича Хрущева: «Наш народ гордится успехами в развитии отечественной химической промышленности, которая по существу была заново создана за годы Советской власти. По производству химической продукции Советский Союз занимает первое место в Европе и второе – в мире, а в 1965 году по выпуску важнейших химических продуктов СССР вплотную подойдет к уровню производства их в США».
Шла осень 1962 года. Цех по производству полиэтилена был пущен 14 сентября 1962 года. Все только начиналось. И начиналось на глазах Ковальского.
Александр встал со скамеечки и направился в общежитие.
…В следующий раз он записал в своей тетради: «За семилетие должно быть построено в стране заново или закончено строительство более 140 крупнейших химических предприятий и свыше 130 предприятий должно быть реконструировано… Около половины всех ассигнований на развитие химической промышленности будет направлено на строительство предприятий по производству пластичных масс, искусственных и синтетических волокон, синтетического каучука и спирта».
Был упомянут синтетический спирт и Ковальский понимал, что речь идет и о заводе, где он работает. Ведь таких заводов-то в СССР было всего три: в Новокуйбышевске, Уфе и Грозном. Он это уже знал от начальника цеха Валентина Сафроновича Самарина.
«Потом покажу свои записи школьной «химичке» Валентине Сергеевне. Ей на уроках тоже понадобиться», – думал он, делая эти записи.
* * *
Будучи один, Ковальский проявлял удивительную работоспособность.
Стоило ему попасть на глаза Влады, он тушевался. И она порой к этому подталкивала сама.
– Ты слишком закомплексован, ты весь в себе… очень сосредоточен, иногда желваки ходят ходуном – выдают тебя. У тебя проблемы?.. Ты – то веселый и открытый, то угрюмый, страх какой. Как с перебитым крылом ходишь. У тебя неудачная любовь была?
При этих ее словах он усмехнулся. Уже в который раз подумал:
«Стану разве рассказывать, что я с одного материка шагнул на другой. И там, на сельском материке, столько осталось дорогого и неизбывного, что порой бывает невмоготу от одной мысли о неповторимости этого. А может, мне надо было поступать на нефтяной факультет? Тогда работал бы на земле, а не на этом гладком асфальте, где и люди другие и я непонятно какой… На земле надо трудиться, вот где мое. Интеллигентом, но на земле…»
Мысль о том, что надо поменять факультет и уйти в нефтяники, чтобы вернуться на землю, еще несколько дней занимала его. Но потом сошла на нет. Как-то забылась. Много было событий разных. Они захватывали новизной, а Ковальский все же был азартным. И любил конкретное дело! И результат своего дела любил видеть. Это заметили уже и в цехе, где он работал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































