Текст книги "Избранное. В 2-х томах. Том 2"
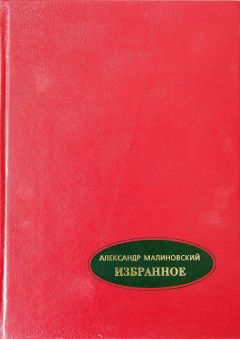
Автор книги: Александр Малиновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 41 страниц)
20
Захватившая Александра и его одноклассников неуемная страсть – игра в настольный теннис не отпускала их и после выпускных экзаменов. Наоборот, теперь, не имея возможности играть днем, они пользовались благосклонностью школьного учителя физкультуры – играли вечерами. Но им не хватало и вечеров. И окна школьного спортзала светились иногда за полночь. Физрук покачивал головой:
– Разбаловал я вас, не провалили бы экзамены в институт.
Сегодня они играли особенно жарко, с ними остался худрук Амосов, а он игрок опытный и азартный, потому и разошлись только в два часа ночи.
Александр спешит домой – идет знакомым темным переулком. Там, впереди, справа от дома Любаевых, ночная Венера источала свой томный свет, мешая его с запахом сирени в палисаднике Климановых, а слева, за огородами, около стадиона на крыше Ивановых высилась длинная труба, сверкая новой белой жестью. Недалеко от колодца Зининых – новенький сруб для бани тускло мерцает своими ребрами из ошкуренных ветлы и осины. Этот сруб стоял сейчас как раз на том месте, где когда-то Ковальский упал и лежал с непослушными ногами, пытаясь доползти до своей сельницы.
…Дойдя до двух бревен, лежавших поперек друг друга, очевидно, пацаны катались на них днем, Ковальский остановился.
Кругом царство тишины и лунного света. Далеко за Красной Самаркой, на той стороне реки, на горе, свет автомобильных фар мелькнул не так ясно, как в осенние ночи. Хотя и нечеткие, но направленные лучи света побежали к Утевке. Как большой жук со светящимися зрачками, грузовик пошевелился и затих.
И снова тишина. И в этой мглистой тишине Ковальский услышал сначала какую-то возню в баньке, затем как будто бы, так ему показалось, там пробежал ежик… И все стихло. Но на мгновенье.
Раздался приглушенный женский смех и снова возня… Тишину, разлитую под луной, около баньки легко и нежно начал раздвигать волнами грудной, невыразимо томный женский голос:
– …а… а… а… а…
Этот голос похоже подчинялся непонятно откуда исходящему ритму.
Прошло несколько мгновений и нежный грудной голос покорил уже не только пространство баньки и около баньки. Звук от него, кругами расходясь, покинул баньку, где ему стало тесно, и поплыл дальше к седым ветлам над речкой Утевочкой.
Сколько так продолжалось, Ковальский не помнил. В первый момент, когда послышались эти звуки, он вначале подумал, что кого-то душат. Александр вскочил с бревна, толкнув его пяткой ботинка и хотел броситься в дверной проем, но вдруг понял, что там происходит. Не решаясь себя обнаружить, замер.
– …еще, еще… мне так хорошо!
– Не могу больше…
Голоса были знакомые.
«Это же Аксюта Васяева и Лашманкин, они же там… – Он испугался своей догадки. – Это же Аксюта так…»
Он метнулся в сторону, боясь, что его увидят. В голове стучала мысль: «Ну, Мишка ладно, он на все способен, а Аксюта?»
Александр долго не мог уснуть у себя в сельнице. Пахло свежим сеном; они с отцом косили в лесу вдоль Самарки в тальнике, где всегда много земляники. Он прямо из навильников, когда копнили, выбирал целые кисти ягод.
Ему вспомнился тот летний давний вечер, когда Аксюта и Ганя голые купались на старице, а он случайно оказался рядом. Помнил восторг, который вызвало у него белое, крупное, «булотуршное» тело, излучавшее здоровье и свет. Как она тогда сказала Гане: «А мне бы хоть хроменького, но молоденького бы муженька…» Эти слова он помнил почему-то так отчетливо, как будто они были сказаны вчера. Он и сейчас помнил тот теплый парной воздух над темной озерной водой с лилиями и белую большую птицу – Аксюту, словно только что опустившуюся с неба на озеро.
«Вот и перебабилась вовсю теперь», – непонятно для самого себя, то ли осуждая, то ли горюя, подумал Ковальский.
…Спал он без сновидений.
А дня через два, встретившись с Лашманкиным у клуба, спросил, потупясь:
– Это ты был ночью в баньке?
– Какой такой баньке, не знаю? – всегда ко всему готовый отозвался Мишка.
– Ну, за Зининой избой…
– А, да это ж и не банька, – тянул Лашманкин.
– С Аксютой был? – Ковальский и сам не понимал, почему он вдруг затеял разговор, его что-то будто подталкивало.
– Надо же, застукал, Коваль! – белозубо удивился дружок.
– Надо мне было, вы там на всю округу шорох навели… Как ты мог? С Аксютой?
Мишка, сделав губы дудкой, присвистнул протяжно и удивился:
– Ты че, Коваль? Она ж сама. Жаловалась, что год уже ходит девочкой. Муженек ее в пыль стерся давно. Теперь спился вот. Не может и все тут… А ей страдать? – спросил он и сделал из ладони левой руки козырек над нахальными глазами. – Ей нудно с ним.
– Она так тебе и говорила?
– Конечно, а чего? Дело простое же…
– И давно вы так с ней… вот, – он не хотел говорит грубо, а по другому не мог, и замолчал.
– Коваль, ну, че ты, как следователь. Хочешь я тебе такую же найду на Ветлянке, в нашем гараже одна есть…
– Давно? – упавшим голосом переспросил Александр.
Лашманкин ответил:
– Да еще с маевки на Самарке, там первый раз чмокнулись… ландыши были, – помолчал и, озорно сверкнув глазами, добавил: – Практику прохожу.
– Чего?
– Практику, понял? Думает, что она у меня первая. В люди меня выводит, – он довольно хохотнул, обнажив ровный ряд мелких зубов.
– Это она тебе так говорит? – резко спросил Александр.
– Нет. Я так думаю.
– Практикант хренов, ты же семью развалишь ей.
– Не-е, наоборот. Укрепляю. Муж Колька не может… крепить, так я помогаю.
– Но ты же с Зинкой встречаешься?
– Одно другому не мешает. Аксюта знает. Она, Зинка, не троганная. И Аксюта не велит, я ей, Аксюте, зарок дал: Зинку не трогать до армии. Зинка мне стихи читает, а я слушаю. Этого, Асадова, – скука.
– Ты артист, Мишка, – проговорил Ковальский, не зная, как вести себя с Лашманкиным. В голове у него была каша. И зарябило в глазах.
А Лашманкин поучал:
– Да ей, бабе, за тридцать лет. С любым мужиком это дело – как поцеловаться, никаких проблем. Я их знаю. – Он помолчал и, глядя на Александра, не мигая, кто его поймет всерьез или так крепко лукав, сказал: – Она призналась, что ты ей давно нравишься, но она тебя боится. Больно, сказала, ты серьезный.
Эти Мишкины слова особенно сильно резанули Ковальского. Он зло посмотрел на Мишку, ему впервые показалось, что его дружок сильно похож лицом на какого-то зверька.
…У Мишки Кирсанова, по уличному – Лашманкина, в последний год стало много друзей-приятелей. Он кончил вечерний десятый класс и работал на Ветлянке автослесарем. Осенью его должны были забрать в армию. Поступать в институт он не намеревался.
Александр шагал вдоль серых штакетин, огораживающих клубный скверик. Он думал об Аксюте. Из-за угла внезапно появилась его мать, Катерина, возвращавшаяся из магазина. Он резко нырнул под нависший над забором приземистый карагач. Ему не хотелось, чтобы его видели таким. Он чувствовал, что лицо у него ненормальное.
«Красивая Ганя, Аксюта! Красивые, а счастья нет? Аксютин муж дядька Коля – добрый, но беспросветная пьянь». И Ганю видел вчера с приезжим пьяненьким мужиком, видел, как гордая, красивая Ганя стеснялась своего шумного спутника. «Это – жизнь, – вспомнил он Мишкины слова. – Жизнь, – повторил Ковальский. – Но почему она так не справедлива? Даже к тем, кто ни в чем не виноват?»
Он видел вокруг и раньше много грубого, но случай с Аксютой его выбил из колеи. Потом, чуть позже, подумалось: «Но Аксюта, она тогда, ночью, так смеялась! Тихо и счастливо. И этот ее шепоток, на который Мишка глуховато отвечал что-то. И грудной такой голос ее?..»
21
Подходило время сдавать документы. Александр не знал, где находится институт, но у него был адрес дядьки Сергея. Он был уверен, что через него все и отыщет.
Через два дня, во вторник, должен был прилететь Пудовкин на своем Ан-2, решено было лететь в Куйбышев с ним.
…Провожать Александра пошла мать и брат Петро. Сестры были в поле. С отцом, бабой Груней и дедом Иваном он простился у ворот дома. До площадки, где садился самолет, было километров два. Оказалось, что самолет берет на борт всего двенадцать человек, а у кассы набралось желающих двадцать. Мать Ковальского заволновалась было, но Александр оказался как раз двенадцатым, и она успокоилась. А то уж хотела бежать к самолету просить помощи у родственника.
– У тебя чемодан солидный какой! – удивился Пудовкин, когда началась погрузка пассажиров.
Ковальский промолчал, улыбаясь, а Катерина пояснила:
– А зачем маленький-то, туда и костюм можно сложить и рубашки.
Удобнее так. А там, где ни того, под кровать его.
Видно было, чемодан для нее предмет особой гордости. Дался он непросто. В него была вложена часть Зорьки. Катерина выглядела печальной. Александр это видел и не знал, что делать. Но брат Петро случайно или нарочно – он умел так говорить – «подсуропил»:
– И самолет Ан-2 зеленый и чемодан зеленый – получается какой-то зеленый десант, прямо!
Александру показалось, что сейчас вокруг засмеются, но все заняты были собой. Шла посадка. Катерина улыбнулась и погрозила Петру пальцем.
Потом она поцеловала Александра поспешно один раз в щеку, Петро ткнул в бок энергично кулаком, и Ковальский шагнул к самолету.
…Когда самолет взлетел, всем раздали серенькие бумажные пакетики. Александр удивленно спросил:
– Что это?
Старушка напротив пояснила со знанием дела:
– Гигиенические пакеты.
Ковальский не понял, но взял пакет и положил его в карман. Понял он, для чего эти серенькие штуки, только когда в полете добрую половину пассажиров начала мучить рвота.
…Владимир и на этот раз не изменил себе. Он делал свои три круга над Утевкой. Самолет с первого круга сразу взял в сторону села Покровки, не долетев до леска у Самарки, он повернул влево и пошел вдоль реки. Александр припал к иллюминатору.
Будущим биографам Ковальского, если бы он стал знаменитым артистом, было бы удобно и красиво писать: учиться в Куйбышев Александр Станиславович из Утевки прилетел на самолете… Красиво звучит, если не уточнять, конечно, на каком самолете… И эти гигиенические пакеты…
…Видно было в окошко и озеро Лещевое, и Осиновое. И даже продолговатое узкое Подстепное, в котором утонул неделю назад Мазилин. Слушок был, что не сам он утонул, помогли. «Ведь пил здорово и всегда около воды – мог и сам», – резонно говорили одни, вещи-то все целы. А другие, которые были не согласны с этим, помалкивали…
…«Скоро и Разлацкого в Утевке не будет, все-таки он решил жениться на Нинке Свечниковой и уехать на Север», – вспомнил Ковальский.
…Синегубый Степан стал почти совсем слепым. И, когда в последний раз приходил к отцу Александра – плакал.
Но эти изменения остро Ковальского уже не трогали. Он сам удивился этому.
Новые предстоящие встречи и события надвигались на него стремительно, и он больше думал о них, хотя и не мог знать, что за события и что за люди будут его окружать вскоре. И будет ли это на гражданке, если он все-таки поступит в институт, или в армии? Кто знает?
…Увидел он сверху и дом Олечки Козыревой. Но не встрепенулось сердце – спокойно смотрел он на новенькую ограду палисадника, у которого они недавно сидели. На кусты акации и сирени под окнами, на зеленую лужайку у дома с кучей бревен посередине. На бревнах возились ребятишки, а рядышком на площадке парни резались в волейбол через сетку.
…Вот когда ему на глаза попался дом Аксюты, он невольно вздрогнул. Аксюта стояла посередине двора, заросшего травой-муравой с младшим своим, родным сынишкой Шуркой и смотрела в небо – на самолет. Ему даже показалось, что они встретились взглядами. Она сорвала косынку и помахала ею, высоко подняв левую руку, оголенную по плечо. Даже сверху, из самолета, видно было, какая она вся ладная и крепкая. А маленький Шурка ее что-то кричал, наверно, громко и весело, махая обеими руками, но Александр не мог слышать его голоса.
Ковальский спохватился. Эти же круги свои Владимир «нарезал» вокруг школы, ради химички Валентины Сергеевны. Она в серединке всего! Где она, школа?
Он тут же ее отыскал. Взгляд его поймал большое деревянное П-образное здание под шифером в густой зелени кленов. Край левого крыла школы золотился под утренним солнцем – сруб был недавно собран из новых сосновых толстых бревен, а крыши пока не было… Эти сосны они, десятиклассники, привезли в прошлом году из Борска. Везли и знали: они строят свою школу.
Успел он напоследок выловить взглядом и дом своего деда. Двор Головачевых был пустынным.
В огороде мелькнула старая ранетка, которую еще прошлой осенью дед Иван хотел спилить…
…Но все под самолетом становилось меньше и меньше. Все уходило вниз и оставалось позади. Александр будто смотрел в бинокль, только с другой его стороны – уменьшающей.
Круги кончились.
Самолет набирал высоту…
2000–2001 г.
Совмещение
Глава первая
Трудяга – самолетик АН-2, управляемый двоюродным братом Ковальского Владимиром Пудовкиным, удивительно быстро долетел до аэропорта в Смышляевке.
Сам не зная почему, Александр не торопился к автобусу. Дождался, когда появится в сереньком здании молодой, но такой основательный его родственник-летчик.
– Ты еще не уехал? – удивился подошедший Владимир.
– Да вот… – мялся Ковальский.
– Негде пристроиться жить?
– Есть вроде бы, у дядьки Сережи.
– Сам найдешь, как добраться?
– Конечно, – отвечал Александр.
Владимир Пудовкин со своим «кукурузником», на котором летал часто в Утевку, сейчас был последним, кто соединял Ковальского с его прежней жизнью. Александр вдруг почувствовал себя ступившим на незнакомый материк, который надо непременно освоить. Пролетев всего-то сто километров от села до города, он словно преодолел огромную, важную межу, разделявшую непостижимо многое!..
…Пудовкин куда-то торопился. Владимир не хотел обидеть Александра, но он уже был в своем привычном потоке, который властно нес его, счастливчика. И он, улыбчивый, доверяясь этому потоку, доверял и верил самому себе. Это было видно по всему. Его ладная фигура, розоватые щеки, какая-то домашняя уверенность в поведении: на летном поле, здесь, в этом помещении, где с ним приветливо здоровались такие же, как он, крепкие парни – все говорило об основательности, серьезности того, к чему сумел прикипеть его удачливый двоюродный брат. За ним было большое, огромное дело – аэрофлот, которого хватит ему на всю жизнь, только не ленись – работай.
– Ну, тогда давай, ни пуха тебе. Я еще тут к начальству должен явиться.
Пудовкин протянул, белозубо улыбаясь, крепкую, как рычаг, руку и так сжал ладонь Александру, что тот изменился в лице. Поняв это по-своему, улыбчиво сказал:
– Ничего-ничего, привыкнешь. Теперь ты сам тебе голова, не забывай о нашем уговоре: ты должен стать инженером, я – пересесть на реактивные со своего «кукурузника».
– Еще поступить надо, – сказал Александр, думая совсем о другом.
– Это как минимум, – то же, очевидно, думая о своем, ответил Пудовкин. – Иду, иду, – быстро отреагировал он на вопросительный взгляд проходившего мимо рослого, красивого парня. – Ну, Коваль, расстаемся на время? Давай! – Он энергично взмахнул рукой и ушел.
«Пудовкин – фамилия, кажется, не совсем подходящая для летчика – тяжеловатая. Зато сам Володька легкий, веселый и надежный. А Покрышкин, Кожедуб – тоже фамилии какие-то странные для летчиков… Ладно, надо держать слово: коли он выучится все-таки летать на реактивных, то я обязательно должен окончить институт. Договор дороже денег».
Ковальский не спеша пошел к автобусной остановке.
«Я иду и всем до лампочки, какой ценой достался мне мой зеленый чемодан. Мое приданное, как пошутила мама. Ценой Зорьки – рыжей годовалой телки, которую родители одним махом в первый привод продали на базаре… Я первый в нашем роду еду поступать в институт. Первый! Выходит, я как бы представитель всех, кто был и есть в нашем роду. Я как посланец тех сельчан-родственников, которые не успели выучиться, погибли на войнах, стали убогими от нужды и изнурительной работы. Не могли даже окончить десять классов. И не по своей воле. Так жизнь складывалась. Предыдущие поколения не могли себе позволить, чтобы дети учились… А мне выпала карта? Мне повезло, что у меня такие родители. Самоотверженные. И ведь, если я не поступлю, никто слова в упрек не скажет. Давно все привыкли, что многое не доступно сельским. И не только сельским. Не протиснешься. Кем-то и как-то так определено или так в головах засело: где уж нам, без нас в очередь выстроились не такие, как мы».
– Того это… – задумчиво перед отъездом говорил у калитки Любаевых Синегубый, – не высоковато ли замыслил, вон лучше бы как Ванька Гладилин – поступал на летного радиста в училище, сразу тебе и одежка форменная, и харч – тепло и не голодно.
Мать с отцом молчали. Александр знал: если он согласится, они не будут возражать. Им важнее всего, чтобы была надежность. Но он молчал, не принимая правоту Снегубого. И родители молчали. Они доверяли ему. Они ждали справедливости. Ведь есть же она где-то, есть! А раз есть, то почему бы ей не показать себя на Шуркиной судьбе.
«Мир должен быть справедливым, – думал Ковальский. – А если так – тогда дело только в тебе самом».
Он верил в себя.
На чем держалась эта вера? Уж не на наивности ли? Но что тогда наивность, коль так она толкала к решительным действиям? И не его одного, целое поколение вырывалось из деревни, неосознанно подчиняясь внутренним толчкам, преодолевающим, будто сконструированный кем-то и надежно работающий, разъедающий душу механизм собственной неполноценности.
«Сами себе роль папуасов отводим, ерунда какая». Он едко, что на него было не похоже, усмехнулся.
И все-таки не наивность, а надежда рождала в нем энергию. Энергия, выработанная надеждой, питала не только Ковальского. Русский человек, как никакой другой, способен брать энергию из надежды. Надежда позволяет русскому человеку думать: завтра жизнь будет лучше. Вот пройдет пять лет, тогда… Пусть десять… Ведь есть же справедливость на свете, а значит и жизнь есть более достойная, удачная, счастливая… Надо жить, работать и надеяться…
…Он пропустил свою трамвайную остановку. Нужный дом оказался за спиной. Ковальский, не торопясь, ступил на тротуар, осмотрелся. Перекресток улиц оказался весь изрезанным трамвайными линиями. Было непривычно для глаз. Александр постоял, потоптался и, увидев совсем недалеко от себя площадь, невольно рассмеялся. Лицо его, до того сосредоточенное, просветлело и стало веселым.
«И тут надул, – подумал он о своем дружке детства Мишке Лашманкине. – Вот шельма». Вспомнился хвастливый рассказ Мишки после того, как два года назад тот ездил в Куйбышев и якобы на полном ходу обогнал на своих двоих трамвай. Бегал Мишка и впрямь быстро. Быстрее всех, кого знал Ковальский. Но чтоб обогнать трамвай на полном ходу?
– А че слабо-то? – уверенно возражал тогда Мишка. – Он, трамвай, знает себе, мчит к Волге под уклон, прям мимо памятника Ленину в кепке, ну, а мне под гору – в самый раз. Только пятки сверкают. Я его еще на берегу малость потом подождал, трамвай-то. Он запыхался, за мной стараясь поспеть, искры из-под него аж в разные стороны – а все равно слабо меня обогнать. Я ей фигу на ходу показал – девка за рулем была.
После таких подробностей: Ленин, кепка, Волга, фига, девка за рулем… оставалось Мишке только верить.
А тут оказалось, что и бежать-то мимо памятника Мишка не мог.
Рельсы круто поворачивали влево и уклона никакого к Волге с рельсами не было.
Ему захотелось посмотреть и памятник, и площадь Революции, которую дядька Сергей ему нарисовал на клочке бумаги. Площадь была изображена на рисунке похожей на большую грампластинку.
…Он присел на скамеечку под липой. Наступил уже полдень. Необычно пахло нагретым асфальтом. На площади было людно.
Сидя под липой внутри скверика перед памятником лобастому и рукастому вождю революции, он разглядывал площадь. Она была действительно похожа на огромную грампластинку. Меньший круг пластинки – аккуратненький скверик с памятником в центре, недалеко от которого сидел Ковальский, а больший – тот, который озвучен потоком пестрых существ: людей и машин. Они слетали с черного диска, пропадая в четырех отрезках улиц, подходящих к «пластинке». Эта масса людей и машин, попавшая на диск, рождала непривычную для Шуркиного уха городскую мелодию.
Он вообразил памятник, стоявший в самой середине концентрических окружностей, а вернее, кругов, чем-то вроде оси патефона. Внутренний круг этой пластинки, в отличие от серого внешнего, был коричневато-красного цвета. Вращалась эта причудливая штука вокруг оси – небольшой фигурки вождя, крепко стоявшего на массивном, раза в два по высоте превышающем его рост, пьедестале.
«Если площадь – пластинка, – подумалось Ковальскому, – то я та самая игла на ней, которая снимает эти звуки».
Вспомнился немецкий патефон из детства, привезенный его отцом Василием. И блестящие патефонные иголки.
Патефон Шурка несколько раз разбирал из любопытства. В конце концов он сломался и занемог. Потом замолчал совсем. Иголки куда-то затерялись.
Ковальский сидел на удобной синенькой скамеечке со спинкой, совсем забыв про свой чемодан. Про то, что ему надо было еще отыскать дом, в котором проживал дядька Сергей.
…Осмелевшие голуби, сизари, больно какие-то уж гладкие и красивые, проворно бегали в тени лип. Временами голубки, делая замысловатые круги, выскакивали на асфальт к зеленому чемодану. Но быстро опять ныряли в темную тень, где тут же попадали под внимание двух самцов-сизарей, которые, приблизившись к ним, враз приобретали горделиво-галантную осанку. Шейки их с переливающимся дымчато-сизым оттенком становились солиднее, сами самцы – осанистей и подвижней. А самки, в этот момент став заметно элегантней и изящней, семенили в разные стороны. Эта любовная их игра забавляла Ковальского.
…Он посмотрел вверх перед собой, на памятник. «Ленин, если бы он был чуть похудее и повыше, и не держал руку в кармане, здорово был бы похож на моего деда Ивана. Голова в фуражке очень похожа».
…Непроизвольно оглянувшись на шум голубиных крыльев, Ковальский увидел двух подозрительных типов. По всему было видно, что их интересовал – и очень – зеленый чемодан.
Александр демонстративно пододвинул чемодан к ногам и в упор взглянул на парней. Те, как призраки, оба в темном, в тени широких лип, отшатнулись и пошли по кругу пластинки в разные стороны. Он видел, как один из них, совсем еще подросток, остановился и, оглянувшись, смотрел на Ковальского, нагловато улыбаясь.
«Они что, пасут меня? С моим чемоданом? Уж больно средь бела дня, дерзко как-то».
Александр еще чуть посидел для порядка, не желая выказывать своего беспокойства, затем встал, чувствуя, что находится под прицелом цепких и безжалостных глаз.
Он пошел не назад, как ему надо было, а туда, где открывался большой просвет неба. Такое небо могло быть только над Волгой.
Пересек кольцо площади около углового дома с барельефом совсем еще молодого Ленина. На стене было объявлено, что в 1892-93 годах в этом здании работал помощник присяжного поверенного самарского окружного суда В. И. Ульянов-Ленин. «Рука не в кармане», – отметил Ковальский. Еще чуть пройдя в глубь улицы, Александр поставил чемодан на тротуар. Он его не утомил, просто ему захотелось постоять и посмотреть еще раз на площадь со стороны.
Когда взялся за ручку чемодана, намереваясь направиться к Волге вниз по крутому спуску, неожиданно услышал:
– Издалека прибыл, землячок?
Он обернулся. И сразу все понял. Около него с обеих сторон на тротуаре стояли те двое, что мелькнули на «пластинке» под липами. Еще двое, ухмыляясь, стояли на проезжей части, чуть отступив от края тротуара.
Позволить себе лишиться своего чемодана Ковальский не мог. «Да и дурь какая: средь бела дня? Они что полоумные? Я же одному да сворочу голову, раз на то… а потом, – соображал он быстро, – карманники и вот эти – они же, кажется, так грубо не действуют? Что-то не то… Пужают скорее… черти… Свои дворовые законы тут».
Вопрос задал тот, что был всех постарше. Он стоял обочь тротуара.
Ковальский ответил неопределенно:
– Не очень издалека.
– А надобно что здесь?
– Да так, дом ищу один, – сказал Александр.
– Не этот вот? Приспичило, а? – сказал тот же парень, указывая на табличку у двери в дом.
«Мне ровесник, наверное. Этот у них старшой. Остальные мелкота», – мелькала мысль.
«Мелкота» прыснула от смеха:
– «Награды» привез? Тут те подлечат! Ага, – это сказал худой и узкоплечий с большими отвислыми ушами, стоявший слева.
Александр ничего не понял. Только почувствовал, что, если будут бить, этот, узкоплечий, начнет первый. Жженый очень.
Он быстро взглянул на табличку и уразумел причину их смеха. Дом был необычный. В нем размещался кожно-венерологический диспансер.
– Дураки, – зачем-то, сам не поняв, расслабившись, сказал Ковальский. И свободно рассмеялся.
И тут услышал то, что мгновенно мобилизовало его.
– На баш! – тихо, но внятно произнес «старшой», глядя на узкоплечего.
Это была команда. Ковальский знал такой прием: «на баш» – когда тебя тупо, тараном бьют головой в живот. Но у него был и свой навык. Надо было успеть резко отступить от нападающего, когда тот торпедой ринется вперед. И, сцепив обе руки в общий кулак, как обухом сверху ударить по шее. Проверено: нападающий не устоит на ногах – уроки Разлацкого, нефтегорского квартиранта соседки Мани Сисямкиной.
Александр повернулся от стены дома на пол-оборота, чтобы было куда отступить и замер, держа наготове полусогнутые в локтях руки с разжатыми пальцами.
Он увидел усмешку «старшого» и ждал.
…Сзади что-то гулко стукнуло. Ковальский, готовый ко всему, резко обернулся.
Открыв массивную дверь, на улицу из вышеозначенного пикантного заведения вышел розовощекий, с белыми усиками плотный, улыбающийся старшина милиции.
Продолжая улыбаться, огляделся не спеша и вяло удивился. Обращаясь к «старшому», как ни в чем не бывало, буднично спросил:
– Маркелыч, ты совсем того, что ли?
– А ты че, Санек, пострадал? – «старшой», оказавшийся Маркелычем, кивнул на вывеску.
– Я те дам: «пострадал». Убирай своих, а этого с чемоданом отпусти.
– Да идет он пляшет, кому он нужен? Пускай гуляет… до следующего раза… – отвечал Маркелыч. – Верно, ребя? – Он взглянул на своих. Те по-клоунски улыбались.
– Вот-вот, – охотно согласился было старшина, но спохватился. И, почти сделавшись настоящим начальником, сказал: – Я те дам «до следующего раза»… прекрати, как ты говоришь, свой фокстрот…
…Ковальский к Волге не пошел, расхотелось.
«Почти как у нас», – думал он, вспомнив сельского милиционера Ваню Антошкина. Тот, когда случалась драка около клуба, всегда приводил «наиважнейший» довод для умиротворения сторон, обычно говоря просительно:
– Ребята, ну, ладно вам, чего вы? Прекратите этто дело. А то и вам, и мне достанется.
Странно, но иногда парни прекращали «этто дело», утирая красные сопли.
…Через полчаса Александр добрался до нужного ему дома. Дядька Сергей был еще на работе.
Он решил идти в институт подавать документы завтра утром, а пока, поставив чемодан в коридоре, пошел искать известное своей необычной архитектурой здание драматического театра.
«Раз на Волгу не посмотрел, то хотя бы драмтеатр увижу», – решил он.
Ему не терпелось узнавать новую жизнь. Да и не хотелось оставаться одному с неработающей дядькиной тещей. Она смотрела на новоявленного родственника колючими глазами. Будто он уже в этом доме жил и крепко когда-то набедокурил. И вот опять… явился…
…Такой получился для Ковальского в его первый городской день «фокстрот».
Неласково, выходило, встретил Ковальского город.
А он другого и не ожидал.
* * *
На следующий день Ковальский сдал в приемную комиссию документы на химико-технолгический факультет.
Уже выходя из спортзала, в котором находилась комиссия, узнал, что конкурс на этот факультет самый большой – восемь человек на место среди школьников. Для тех, кто уже отслужил в армии – два человека на место.
Он вернулся к столу, где главной была видная статная женщина, окруженная деловито копошащимися вокруг нее помощницами. Александр хотел забрать документы и передать их на нефтяной факультет, на котором общий конкурс был полтора человека на место. Но постоял, потоптался и передумал.
Уточнил, когда сдавать первый экзамен и вышел.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































