Текст книги "Избранное. В 2-х томах. Том 2"
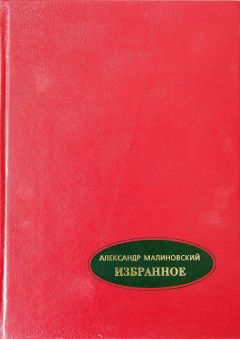
Автор книги: Александр Малиновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 41 страниц)
– Почему? – нервно засмеялся Иннокентий. – Неужели из-за Влады?
Простить не можешь? У нас и было-то с ней совсем случайно. Потом разбежались сразу. Теперь – просто дружба.
«Наш пострел везде поспел», – кольнуло в самое сердце Ковальскому.
– Я уже тему для дипломного проектирования на заводе получил, – глухо ответил Ковальский, думая про Владу. «Она и мимо него не прошла? Или врет?»
– Да брось ты эту тему!
– Нет, мне без денег надоело. Я пойду на завод поработаю. Три года – это много.
– Зря ты это, – вновь нервно усмехнувшись, возразил Иннокентий.
– Ты сам ее тогда оставил. Ну? А Влада она…
– Нет, я не готов, – стоял на своем Ковальский.
Они доели беляши и разошлись.
* * *
Давно уже опустела шумная лаборатория неорганической химии в левом крыле института на втором этаже. За столом двое – химик Калашников и профессор Засекин. Калашников выглядит уставшим. Идет зачетная неделя. Сегодняшний день был крепко загружен. А Засекин, как всегда, напорист:
– И все-таки я уверен: предкам человека не повезло. Оторвавшись от родных ветвей, они не смогли залезть обратно.
– Да не верю я в Дарвина, человек произошел не от обезьяны, – отозвался Калашников.
– А от кого?
– Не знаю, – охотно признался химик и, мотнув рукой, чуть было не смахнул колбу с чаем. Подхватил ее, налил себе в стакан и замолчал намеренно равнодушно, глядя в свой стакан. – Послушали бы нас наши студенты, они бы посчитали нас ненормальными. А еще преподаватели.
– Может быть, – вполне миролюбиво согласился Засекин. Но только для того, чтобы не уйти в сторону от своей важной такой для него мысли. – Почему когда-то произошло, а потом ни одна обезьяна не превратилась в человека, а? Ну… простой же вопрос? Я читал Мечникова: человек мог родиться, как необыкновенное дитя человекообразных обезьян, в какой-то свой период, когда с ним шли какие-то изменения, они народили своих детей с новыми признаками – наших предков.
– Что? Люди – обезьяньи выродки, что ли? – изумился ученый химик. – Ты это хочешь сказать?
– Звучит грубо, но по сути верно. Наши предки, первые люди, были «обезьяньи уроды». Это специалисты понимали.
– И что же дальше?
– А дальше выглядит все прискорбно. Предкам нашим пришлось призадуматься. Они научились варить и жарить. Они утратили свои мощные челюсти и не могут теперь обходиться без огня. Они многое перестали уметь делать. Очень многое. Какой же это прогресс в развитии. Человек представляет собой остановку развития человекообразной обезьяны. А если представить его развитие, нормальное развитие до логического конца, то оно приведет нас к совершенным разительным формам – к обезьянам.
– Ты все-таки о чем, Николай? Я же вижу: у тебя главная мысль никак не прорежется.
– Да прорезалась, не волнуйся. Вот она: все то, что мы наизобретали – паровозы, самолеты, всякие механизмы, химия, нефтехимия, вот эти твои колбы, реторты – это все зигзаг развития. Это все вовсе и не развитие. Все, что наизобрел, напридумал человек, – только от того, что он без этого не может. Он утратил возможности, которые были у предков – обезьян. Они обходились – он не может. И моральный урон, понесенный в ходе эволюции, чрезвычайно велик. Ради того, чтобы как-то скомпенсировать его, люди придумали миф о своих необычайных умственных способностях. Глупости все это.
– Николай Николаевич, ты всерьез все это говоришь? Человек – деградированная обезьяна? По-твоему, так? Ужас!
– Я утверждаю, что человек всего лишь путник, заблудившийся на путях эволюции.
– Знаешь, почему у нас нет настоящей научной истории и экономики? – спросил, кисло усмехнувшись Калашников. И сам ответил: – Потому что умнейшие экономисты и историки вроде тебя занимаются чем угодно, но не историей.
– Да брось ты, Иван Максимович! Истории нет, потому что она перекраивается на потребу, ты знаешь это. Человечество, если не остановится, погубит себя! Я об этом думал. Об этом многие умы думали. Но жизнь человеческая коротка. Голос одного, нескольких человек, слаб – человечество не слышит. А люди, понявшие суть, уходят. Приходят другие – и их не слышат. Но это – не до бесконечности. – Он нервно всплеснул руками. – Вот послушай Федора Тютчева.
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!
Он это написал в еще 1830 году. Он понял. А обезьяны… Тютчеву открылось. Понимаешь, он гений. Он увидел то, что недоступно миллиардам. Мир погубит сам себя, вернее, люди доведут все до того, что Сам Создатель вынужден будет начать все сначала, ибо мы вышли из Его повиновения. Он переоценил Свои возможности – мы не такими получились. Мы ушли в цивилизацию. В войны, в грех – мы не оправдали Его надежды. Создатель удручен. Опыт Его не удался. И Он когда-нибудь, а это может быть скоро, начнет ставить новый опыт. С чистого листа. Ведь, если восстановить погибшего человека, очень многое, самое главное решится на Земле.
– Николай Николаевич, ты только что говорил, что мы все от обезьян произошли. Да еще от каких-то больных, – перебил его Иван Максимович. – Теперь наоборот, я что-то не пойму.
– Да это так – метафора, я хотел сказать, что не туда мы идем. К погибели. Вот и все, – спокойно пояснил Засекин.
– Ну, ты… Морочишь голову?
Калашников давно сел к торцу лабораторного стола и с серым лицом, не глядя на Засекина, слушал его. Голос до него доходил будто откуда-то издалека. И принадлежал он не Засекину, этому лысоватому, с серой бородкой, прокуренному насквозь человеку, а какому-то другому, давно знакомому, но далекому отсюда и более основательному. И все, что тот говорил, можно было бы принять за некую истину. Но отодвинутую далеко. Все могло быть, но через тысячелетия или еще позже. «Куда торопится Засекин?» – думал он. Повернув лицо к собеседнику, декан произнес:
– Николай, у меня после разговоров с тобой в последнее время все чаще болит голова. Ты полубольной и меня заразишь. Ты так все переворачиваешь. Мне такое и такими дозами не под силу. Я карлик перед тобой. Извини. Но я думающий карлик. И я думаю, что хватит об этом. Это лишает сил делать обычные рутинные дела.
– Еще Достоевский считал поиск правды главной нашей национальной чертой, – не сдавался Засекин. – Если не будем искать истину и правду, мы уже не русские.
– Хорошо, я готов поверить, что искусство, улучшение человеческих качеств способно преобразовать мир. Хорошо. Пусть так. Но у меня сомнение: без технического прогресса и красота, и искусство не способны этого сделать. Не способны. Хоть убей – не поверю.
– Верь – не верь, а дело обстоит таким образом. Мне дано понять.
– С тобой, как с юродивым, невозможно спорить. Ты вроде во всем прав. Но жизнь состоит не из одних юродивых. И не они ее вершат.
Последние слова собеседника не обидели. Даже наоборот, он смотрел сейчас на своего пожилого коллегу-профессора, как на первокурсника. Потом сказал тихо и потому еще более, казалось, убедительно:
– Человек, я понял, совсем маленький винтик в той огромной машине, которую ты называешь прогрессом. И крутится он, винтик этот, вокруг другой персоны – истинного Творца эволюции…
Слышал бы Ковальский их разговор.
* * *
Ковальский и раньше впитывал все, как губка, но сейчас его особенно привлекали к себе люди – их жизни и судьбы. Ему тесно становилось в рамках технических знаний. У него появилась на первый взгляд, может быть, странное желание: посадить вместе за один стол, на одну лужайку, лучше, в одну лодку, и пустить ее по течению – Проняя, деда своего Ивана Головачева, декана Калашникова, профессора Засекина, а вот теперь и Самарина. И послушать, что и как, и о чем они будут разговаривать!
Он уже догадывался, что скоро начнет писать. О жизни! Эта догадка обжигала. Мог быть такой замах! Но надо же крепко знать жизнь! Или ее так до конца и не узнаешь? Необъятна! Тогда надо сильно и глубоко чувствовать. И надо суметь об этом сказать. Не памятью брать, не знанием жизни, а тем, как это пропущено через тебя. Почувствовать несовершенство, несправедливость мира. Быть как бы в оппозиции к несовершенству, несправедливости мира. Но это уводит от стремления познать жизнь? «Знать, чтобы забыть, а когда надо – вспомнить» – это для ученого. А не для пишущего: знать и постоянно носить в себе, чтобы когда-нибудь высказать максимально приближенно к тому, что чувствовал. Так или нет?
…В общежитии он в своем «кармашке» обнаружил письмо от матери.
Надорвал конверт. Как обычно, мать писала обо всем понемножку. Видно было, что скучала. Но домой не просила приехать. Жалела. Не хотела, чтобы маялся в дороге: на улице была осенняя слякоть. Писала бесхитростно о домашних делах, о том, что, как только ударят морозы, зарежут поросенка.
И сразу без перехода: «У ДЕДА НА ВТОРОЙ ГЛАЗ ГЛУКОМА ПИРИШЛА. НЕ ЗНАЙ ПРЯМА ЧЕГО И ДЕЛАТ. ТАКИ ДЕЛА».
В конце письма была приписка, которая, может быть, и была причиной письма: «ЭТОЙ АСЕНЬЮ ТАК МНОГО ЧТОЙТА СВАДЕБ СЛУЧИЛОСЬ. ТАМАРА ЗАРЕЧНАЯ ТОЖЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ. В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ СВАДЬБА БЫЛА БОЛЬШАЯ. ОТЕЦ ЕЕ УЖ БОЛЬНА ТОРОПИЛ ЗАМУЖ ВЫХОДИТЬ ВИДАТЬ ЧУЯЛ ЧТО ПОМРЕТ СКОРО. ЗА УЧИТЕЛЯ ТОЖА ВЫШЛА. ТИБЕ НЕ ДОЖДАЛАСЬ. ВСЕ ДУМАЛА БУДТЕ ВСТРЕЧАТЦА СПРАШИВАЛА МИНЯ В КЛУБЕ КУДА ТЫ ПРОПАЛ. ПОТОМ ПЕРЕСТАЛА СПРАШИВАТЬ. ПОНЯЛА ЧОЙТА ПРО ТЕБЯ».
Это сообщение матери его не обеспокоило. Лицо Александра, когда он читал письмо, чуть тронула улыбка.
Порадовался сообщению о Лашманкине. Она писала: «ПЕРВАЯ СВАДЬБА У МИШИ СЛАМАЛАСЬ. ЖЕНИЛСЯ ТЕПЕРЬ ОН НЕ НА КОЗЫРНОВОЙ А НА ХОРОШАЙ.
НЕ ТОЙ С КАТОРАЙ ГУЛЯЛ ДО АРМИИ ОНА НЕ ДОЖДАЛАСЬ ЕГО. УЕХАЛИ КАК ЖЕНИЛСЯ ДАЛЕКО КУДАЙТА ГДЕ ДЕНЬГИ БОЛЬШИЕ ЗАРАБОТАТЬ МОЖНА».
…Чтобы теперь Александр ни делал, он не переставал думать об Анне.
«Оказывается, с Анной у меня все эти годы была не любовная связь, не любовный роман – это была часть моей судьбы. Моя судьба. Оттого ли, что я сам рос без родного отца и остро чувствую это, но появление сына, который теперь без матери, да и без меня отца пока – это так теперь все изменило. Я на многое стал смотреть по-другому. Жизнь не там где-то, в будущем, а здесь, сейчас. В нас. Меж нас всех, с нами. Жизнь идет. Она неистребима. Она чревата будущим и надо с ней быть в серьезных отношениях. Зародилась, закладывается новая судьба. Судьба моего сына! И уже с такими завихрениями… А я иду где-то рядом, параллельно пока, и не в силах изменить то, что уже случилось. Только теперь и в будущем я могу что-то сделать… Но это «что-то» так теперь прихотливо зависит от того, что уже есть… сделано… Как поступать?»
Чуть позже его догнала мысль, которая никогда не приходила, пока не было сына: «Как странно получается: родился человек, – думал он, – растет, развивается, а где-то рядом или, наоборот, далеко, а может, и тут, и там растут другие люди: одни – его будущие друзья, другие – враги, третьи – просто так – знакомые. Некоторых могло и не быть. Потом все это переплетается непонятно по каким законам и всплывает из этой мешанины один, два, три человека или события, которые определят очень многое. Как моя встреча с Анной или рождение сына. Все могло быть и не быть вовсе! Как это все и кем это все регулируется? По каким законам должен где-то появиться человек, который принесет либо горе, либо счастье другому? Как он оттеснит всех и станет главным?»
Глава двадцать вторая
Дипломное проектирование у Ковальского вскоре стало двигаться успешно. После нескольких встреч и обсуждений в кабинете у Самарина и на кафедре окончательно сложилась технологическая схема, и Ковальский начал ее чертить на «миллиметровке». Вместе с чертежами основного оборудования получалось семь ватманских листов.
Он полагал, что на миллиметровой бумаге легче будет чертить. Так и оказалось. Потом он намеревался перенести чертежи на ватман. Делалось это просто: «миллиметровку» с изображением надо было расстелить на большое толстое стекло, на него положить лист ватмана и подо все это поместить мощную электрическую лампу. По просвечиваемым линиям чертеж переносился легко и быстро. Техника на уровне студенческой фантастики! Такое сооружение называлось дралоскоп. Вполне даже научно.
Когда закончил всю технологическую схему на «миллиметровке», захотелось прервать чертежный марафон и махнуть домой в село.
Так Ковальский и сделал.
* * *
– Откель ей жизни-то лучше быть, коли народ становится все хуже и хуже, – говорит не спеша Синегубый, продолжая только что начатый разговор.
Он сидит около предбанника в тенечке. Синегубый приехал на своем меринке, как обычно запряженным в зеленый фургон. Привез мешок дробленки. Мешок в баньке, а старики около нее. Рядышком водичка колодезная.
Проняй примостился недалеко от Синегубого. Курит. Рядом стоит сумка из кирзы с пустыми бутылками. Он шел в «магазину», да вот завернул к Любаевым в огород.
– Это к лучшему, что хуже.
– Как так? – переспросил Синегубый.
Проняй, как бы нехотя, отвечал:
– Закон есть такой. Он есть, а делают вид, что его нету, энтова закона… А закон энтот на все случаи. Им любую гайку крутануть можно, как ключом.
– Это какой же такой закон?
Ковальский рядом. Он перебирает хворост. Затеял Василий Любаев поменять крепкие еще плетни с правой стороны огорода от Лаптаева переулка на изгородь из кольев и хвороста, связанных проволокой и установленных торчком. Такая намеренно редкая изгородь, с зазорами между кольями и хворостинами, не должна была сдерживать весенний поток воды. Плотно сработанные плетни каждую весну взъерепенившаяся Утевочка валила и раскрывала огород одним махом. Вода неудержимо все сметала. Любаев давно приготовил все необходимое. Теперь дело за работниками. Василий Федорович не стал дожидаться, когда Александр вернется от Бочаровых, куда пошел повидать своего неожиданного сына. Начал один.
Работников отвлекают. И вернувшийся Шурка, и Любаев то и дело прислушиваются, о чем калякают около баньки.
А там рассуждают о самом главном – об устройстве мира. Никак не меньше! Ласковое солнышко греет старые кости старикам. Летают легонькие паутинки. На стадионе пошумливают ребятишки – наверное, урок физкультуры идет – все как всегда. Александру это не просто хорошо знакомо, привычно, но отрадно и радостно. Если бы не эти вот постоянные планы отца, был бы Ковальский сейчас на стадионе. Вечное отцовское переделывание уже сделанного, безудержное желание сделать по-другому, лучше и крепче, – не отпускает.
Александр помнит, как они вдвоем с отцом плели эти плетни, как отец учил его заделывать края, уплотнять вязку. Он так же когда-то научил Александра плести кошелки. Но теперь, наверное, кошелок уже нигде нет. Да и плетни становятся редкостью. Надолго не пригодилось Ковальскому такое ремесло. Он догадывается, что отец еще и из принципа хочет избавиться от плетней. Одно дело – дедовский плетень. А другое – стройная, высокая изгородь, какой ни у кого нет.
Любаев направился к мужикам передохнуть, но сначала двинулся к колодцу.
– Ну, как там у Бочаровых? – спросил он на ходу у Александра вполголоса. Хотел сказать «как дела у твоего сына», не решился. «У моего внука» мог бы сказать – еще более необычно. Сказал, как сказалось.
– Да так, ничего, – уклончиво ответил Александр.
– А что смурной такой?
– Муж Анны чуть не погиб.
– Как так? Вот еще новость, все в одну кучу.
– По пьянке на мотоцикле под грузовик попал. Одну ногу отняли.
Врачи хотят и вторую, он не дает.
– А с дочкой как же?
– Говорят, его родители уже забрали ее к себе.
– Беда, уж верно, одна не ходит, – покачал головой отец.
И, так покачивая головой, Любаев пошел к колодцу. Там нечаянно задел ногой за сумку с пустыми бутылками деда Проняя.
– Не разбей, смотри, мою пушнину, – предупредил тот.
– Какую пушнину? – не понял Василий.
– Ту, что насобирал с утра. Там финансов на три буханки с лишним хлеба.
– Добытчик, – усмехнулся Любаев.
Проняй поежился при этих его словах. Он всегда говорил, что сдает только свои. При ученом сыне в городе, как он понимал, собирать и сдавать чужие бутылки было несолидно как-то…
– Хочешь, я тебе про твои бутылки анекдот расскажу, внук вчера все донимал младший, – сказал подошедший Минька Горбачев. – А то ты все про мировые теории.
– Скажи, – согласился Проняй. – Послушаем твой анекдот, коль своих мыслей на пустой желудок не имеешь.
Минька пропустил колючку мимо себя. Как бы не понял ее. Взглянул на Ковальского, будто только что увидел, и, важничая, спросил:
– Ну, как ты там в городе-то обвык? Мать думает о сыне, а он – о дальней дороге. Помни это. Катерина говорила, ты там в совмещенниках ходишь каких-то.
– Пытаюсь, – ответил Александр.
– Давай, не ленися. – И, выдержав паузу, будто вспоминая ненароком обещанное, начал: – Дело было в самолете, – сказал он так внушительно и деловито, будто и вправду, дело это было. – Ну, ходит один мужик по самолету Ту-134 и собирает бутылки пустые. Лететь далеко, наверное, поиздержался человечишко. Насобирал, навроде тебя, Проняй, цельный рюкзак.
– В самолете-то целый рюкзак? – засомневался со знанием дела Проняй. – Я вот две улицы обошел, – забывшись, признался он, – общий двор посетил…
– Не мешай, – урезонил его спокойно Синегубый. – Это ж анекдот.
Конец важнее правды в серединке.
– Дак и в анекдоте должна правда быть, – вроде тоже резонно возразил Проняй.
Василий глянул пристально на Александра и усмехнулся.
Ковальский поймал этот его взгляд и вздрогнул: «Он их слушает, а думает обо мне, о моих делах. Как совместить это все: нас с Анной, ее смерть, беду ее мужа, бесшабашного Евгения, и Сашу со Светой? Где моя вина, а где чья? И как об этом всем говорить? И надо ли? И как все совмещается – трагедии, смерти. И вот эта неспешная, монотонная жизнь, которую я здесь наблюдаю? Как на другой планете! С другими оборотами. Странно».
– Ну, насобирал он цельный мешок, открыл дверцу из самолета и вышел – сдавать, значит, направился пушнину, – тянул свое Минька. – А в проходе еще один мужик с таким же рюкзаком сидит. Как расхохочется. Заливается себе, смеется. «Чего ты смеешься? – спрашивает его эта, деваха-то, которая пить подает всем. – Ты пошто не пошел с ним?» – интересуется. А он перестал смеяться и говорит: «Я дурак, что ли? Иттить сдавать, сегодня ж понедельник – магáзина на выходном дне – не работает!»
– Самолет из дурдома летел? – деловито поинтересовался Синегубый.
– Не, зачем? Ты не…
– Тогда в дурдом, – поправился с серьезным лицом Синегубый.
Все засмеялись. У Миньки лицо сделалось недовольным. Он не совсем понял, над чем смеются. Вроде б как Синегубый перешиб его анекдот? Или, наоборот, крепко подправил? Непонятно. Он так подумал и засмеялся со всеми. На всякий случай.
– Так какой же такой ты открыл закон универсальный, которым можно любую гайку подтянуть в жизни? – спросил Любаев, когда смех потихоньку затих.
– Закон не я открыл, – начал Проняй. – Законы живут промеж нас. Я не говорю о тех, которые в верхах умные головы придумывают. Эти законы самодельные, они бывают с осечками. А есть такие, которые в землю закопай, а он вылезет, в воду притопи, а он выплывет. Сами родятся такие законы!
– Это откуда ж у тебя такая уверенность в этом деле? – удивился осторожно Горбачев.
– А я несколько раз с Граблиным, который из Покровки, разговаривал. У него ума палата, а говорить он – Москва.
– И что же он говорит?
Горбачев уже «нагрелся», это видел Проняй и не торопился. Он знал свое дело. Не одну историю за свой век рассказал. Зачем за бесценок торопиться отдавать товар. Ему красную цену могут дать, коль умеешь.
– Все дело в двигательной силе, – глубокомысленно изрек Проняй и потянулся к бадье, стоявшей на скамеечке. Ему и пить-то не очень хотелось, но надо было сделать передых. Он это чувствовал.
– Ты, ежели так будешь рассусоливать, – улыбаясь, сказал Синегубый, – кооперацию закроют, как в том самолете, сдавать некому будет.
– Она, чать, не сгниет, пушнина-то моя. Вечная материя стекло-то. – Он отошел от скамейки, сел на прежнее свое место. – Надо спервачка понять, из чего состоит эта самая двигательная сила, – начал он.
– Движущая, – подсказал Александр, севший на порожке предбанника.
– Во, Сашк, молодец. А то я чувствую, какой-то сучок в слове мешает рубанком водить – разгону нет, а теперь все на месте. Ты и закон знаешь о движущей силе? – вдруг обеспокоено спросил он.
– Нет, – поторопился ответить Ковальский, делая попытку не попасть в дедову ловчую яму.
На соху колодца, откуда ни возьмись спланировав, уселась ворона.
Она, наверное, когда летела за банькой, не видела мужиков. Теперь смотрела на них в упор с верхотуры, наклонив голову. Не знала, как поступить: остаться или улететь?
– Я не могу говорить далее, – удрученно сказал Проняй. – Ворона эта простая, али агент какой разведки, может, кто знает? Ведь слушает, потом понесет, куда надо и не надо. Минь, прогони ее!
Минька послушно замахал руками. Ворона не спеша, с достоинством снялась с сохи: «Чудаки какие, связываться с вами – себе дороже», – говорил ее независимый вид.
– Дед, не тяни, говори, а то дело стоит, – подтолкнул Любаев.
И Синегубый было уже встал, собираясь уходить.
– Я, чать, не корова дойная, не торопись, – урезонил слушателей Проняй и нарочито суховато сказал: – Все дело в кодексе.
– В уголовном? – уточнил Горбачев.
Синегубый присел на травку.
– Я про кодекс строителя коммунизма говорю!
– Чего? – Синегубый удивленно посмотрел на Проняя.
А тот спокойно пояснил:
– Изворотливость, предприимчивость исчезают. Купцы раньше какие махинации делали! Ум надо иметь! И дела шли в гору. А теперь нас всех власть причесывает одинаково – и никому ничего не надо. НЭП Ленин возродил от безысходности. Он голова был! Мозговитый! Чтоб жилу возродить деловую – возродил частную собственность. Сейчас-то ведь никому ничего не надо. Личной корысти нет – дела нет.
– Проняй, ты контра, что ли? – вяло как-то, для порядка будто, удивился Минька и посмотрел на всех поочередно: кто еще что скажет? Но все молчали.
А Проняй пояснил спокойно:
– По кодексу мы должны быть все, как ангелы. Вот и конец нам будет. Все будем правильные и чистенькие – с голоду помрем. Порок человеческий – движущая сила, – наконец сказал он самое главное. – А порок этот повязан правосудием должен быть. Ограничен только, а не изничтожен.
– Мудрено очень и неподъемно для ума, – определил Синегубый.
– Да где уж там! А ведь не очень все тяжело понимать, – усмехнулся Проняй. – Я тоже сначала с Витамином Граблиным спорил, а теперь все в кишках застряло. Хотя мозги уже не так, как раньше, шевелятся и мысли не сразу высекаются, но кои-чего уяснил. Если все плуты, проходимцы, взяточники пропадут, жизнь станет вялой, не нужны будут суды, не нужны исправительные колонии. Контролеры, проверяющие – не нужны. Все же будут честные. Сколько народу останется без работы: судьи, адвокаты, чиновники разные – усохнут. Честность всеобчая подрубит торговлю. Неинтересно продавать без корысти!? Обчество начнет гнить. Граблин уже сказал мне сроки. Все будут честные и… голодные. Без портков.
– Как же нет корысти? – встрепенулся понурившийся было Горбачев Миня, обрадовавшийся своей догадке. – Есть корысть, всеобщая!
– Какая? – прицелился в него насмешливым глазом Проняй. – Не понял.
– Ну, как же, ведь коммунизм строим. Счастье для всех! Вот тебе и корысть, да какая! Общечеловечья для всех! Понял, чем парень девку донял?
Ковальский старался не пропустить ни одного слова. Этот разговор имел для него особый смысл: он помнил рассуждения профессора Засекина. Их диалог с Калашниковым он помнил чуть ли не дословно.
«Ведь они говорят об одном и том же: что должно двигать в будущем обществом? Идея Засекина красивая: только улучшение человеческих качеств выведет человечество к благоденствию. У Проняя с каким-то покровским Граблиным совсем иное в их самодельной теории. Все грубее, но живучее: лишь личный интерес толкает человека к свершениям. Скажи-ка это в институте на кафедре?».
А тем временем Проняй продолжал, отмахнувшись, как от мухи, от Мини одной фразой:
– Да ну тя! Коммунизм для всех? Раздухарился. Пупок лопнет, не построишь для всех. Придут оттуда, где его нет, и всех голыми руками придушат – все же ленивые будут, но праведники.
– Проняй, ты промежду нас – Гулливер, – сказал, мелко мигая мутноватыми глазами, Миня.
Он было приосанился, готовясь еще что-то произнести важное, но вместо этого громко икнул.
– Клыкаю чтой-то с утра, – смешавшись, сказал Миня.
Синегубый пришел на помощь:
– Сходи к Пупчихе, она даст полстакана лекарства.
– У ней давалка отказала, – уныло протянул Горбачев.
– Чтой-та так вдруг?
– Не вдруг, – тянул Миня. – я ей уже за две бутылки должен. Мараторию объявила. Теперь я в ее водах не пловец, а бегун.
– Какой такой бегун? – спросил Синегубый.
– Должок за мной, я и бегаю, – отозвался Миня скучноватым голосом.
И так же скучно замолчал.
– Дед, ты правда контра, – запоздало вроде бы определился Синегубый. – За капитализм, что ли? За толстосумов разных… этих…
– Опять двадцать пять. Я про Фому, а он-те – про Ерему. Балагурь почем зря. Эт-т я только недавно кое-что к старости понимать стал. А по молодости я комсомолец был заядлый.
Любаев, взяв охапку хвороста, пошел к городьбе, никак не отреагировав на последние слова Проняя.
«Надо обязательно с Засекиным обсудить проняевскую движущую силу. Что он скажет? Наверное, он тоже думал о личном интересе?» – Ковальский встал и пошел к кучке хвороста. Он никак не думал, не мог предположить, что неугомонный в мыслях Засекин совсем недавно в разговоре с Калашниковым вспомнил о нем, Ковальском. И не только о Ковальском, обо всем сразу, что его окружало здесь.
– Хотим мы с вами, старина, или нет, – говорил Засекин прохаживаясь на кухне у Калашникова, – но идет сейчас особенно интенсивно, в связи с индустриализацией и вот теперь химизацией народного хозяйства, становление интеллигенции и интеллектуальной элиты в первом поколении. Выходцев из села, из крестьянской среды. Можешь не сомневаться, это действительно целое поколение. Ведь смотри, – он подошел ближе к окну, с любопытством, вытянув по-птичьи шею, посмотрел за окно на огромное пространство Волги, – вот смотри: к началу отечественной войны и после ее окончания подавляющая часть интеллектуальной элиты нашей страны, специалисты высшей квалификации – ученые, в том числе доктора наук и академики, инженеры, врачи, педагоги, руководители крупных предприятий, государственные деятели – все были выходцы из крестьянской семьи. Интеллигенты из крестьян.
– Ну, это все известно, я не возражаю, – проговорил Иван Максимович, разливая чай.
– Да ты слушай, химик, я нашел силу, которая значительно может повлиять на то, чтобы мы все не вымерли от результатов своих же достижений. Чтобы мир не вымер. Сейчас основная задача человечества – совершенствование своего качества. Я тебе уже об этом не раз говорил. Трансформация нашей цивилизации и разумное использование ее огромного потенциала возможны лишь за счет соответствующего развития человеческих качеств и их способностей. И я это теперь под некоторым другим углом зрения вижу. Выходцы из крестьян – интеллигенты в первом поколении духовно связаны со своим деревенским прошлым, с детством и юностью, которые у них прошли в крестьянских семьях. Таков вот твой студент Ковальский. Поверь, на таких, как он, выпала особая миссия. Они не могут, как остальные, безоглядно вредить земле. У них связь с землей, природой, еще слишком остра и крепка. Пуповиной связаны. Есть надежда на них. На таких людей. Ты заметил, в твоем Ковальском есть врожденная благородная сдержанность? Откуда она у него? Даже интересно. В крови?
Калашников не ответил. Он неопределенно пожал плечами. И улыбнулся себе, вспомнив про драку Ковальского на первом курсе. Потом сказал, будто разговаривая с собой:
– Что смогут сделать такие, как Ковальский, сейчас или через десять лет? – профессор химии поставил на плиту чайник. Продолжил разговор не спеша: – Неужели можно сделать что-то такое, чтобы все оглянулись на себя, на результаты дел своих и замерли от ужаса? Этого никогда не будет, по-моему.
Брови его поползли вверх и он, откинув голову назад, посмотрел на подошедшего чуть не вплотную Засекина.
– Надо человечеству вбивать в голову, пока оно не поймет, что существуют пределы всего, что мы расточаем, – невозобнавляемые природные ресурсы. Ведь гидросфера и атмосфера ограничены. Ты понимаешь: ограничены! Такие, как Ковальский, быстрее это поймут. – Слово «ограничены» Засекин выкрикнул нервно и хрипло. И махнул рукой так, что чуть было не задел приятеля по плечу. – Ведь есть внутренние пределы физических и психических способностей человека. Этого забывать нельзя. Человек станет заложником технического прогресса. Культурный прогресс волочиться будет сзади. И это будет уже и не прогресс. Я начал об этом писать статью.
– Удивишь всех только. А напечатать не дадут.
Его собеседник как будто и не слышал последних слов своего товарища:
– Настала или наступает острая необходимость поиска путей улучшения организации мирового сообщества. Надо совершенствовать управление его делами.
– Ты понимаешь, какими ты Николай Николаевич, глыбами ворочаешь и какая маленькая меж ними песчинка – один человек. Вот ты назвал Ковальского. Мне его беднягу стало даже жалко, как и любого из нас.
Они долго еще разговаривали.
Засекин сел к столу, положив свои маленькие нервные руки на скатерть и стал говорить намного спокойнее. Но вновь встал, ладонью левой руки потирая гладкую поверхность подоконника, вновь заволновался. Да так, что не заметил, как от трения рука нагрелась. Он поднял ее и стал удивленно рассматривать, как будто видел впервые.
Так разговаривали эти два человека. То видя только друг друга, то – весь мир сразу.
…Калашников и Засекин сами явились вскоре как бы доказательством (но кому?) того, что цивилизация поедает своих родителей. Мир, правда, этого не заметил.
Через год ученый-химик умрет от последствий облучения, которое он получил работая в Ленинграде. Банально.
А профессор Засекин, чуть позже, полгода спустя после смерти друга, попал под машину. Профессор всю жизнь остерегался машин. Никогда не садился за руль. Обходил машины всегда непременно сзади. Не помогло.
…А «будущий интеллигент в первом поколении», по определению Засекина, Ковальский пока, сидя в огороде у баньки все больше молчал. Но видел все зорко и запоминал надолго, если не навсегда.
Пришедшая за водой Маня Сисямкина выплеснула остатки воды из бадьи, громыхнув цепью, уронила ее в колодец.
– Я который раз уже смотрю со своего огорода: сидят – балакают. И без бутылки! Вот чудеса.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































