Текст книги "Избранное. В 2-х томах. Том 2"
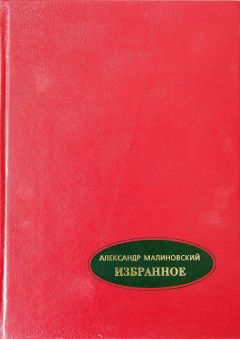
Автор книги: Александр Малиновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц)
7
Последние дни августа приносили всегда Александру легкую досаду.
Лето пролетало быстро в заботах, отец, если даже успевали дров заготовить и сена – сколько надо, все равно обязательно находил неотложные дела, и они съедали оставшиеся дни летних каникул. Желание порыбачить вдоволь, для души, всегда оставалось неутоленным. А тут еще начиналась обычная уборка картошки! Не до рыбалки. Александр пробовал приспособиться к жесткому отцовскому режиму. Коли некогда рыбачить днем, так он решил ставить на ночь подпуск, и рано утром снимал улов. Чаще всего он ставил два подпуска. Снасть нехитрая: на бечеве метров в тридцать длинной через каждые два метра он привязывал поводки длинной сантиметров пятьдесят с хорошим крючком, чтобы выдержал солидную добычу. Один конец бечевы привязывал к колу, воткнутому прямо у берега в воду, растягивал по берегу против течения свою снасть и насаживал прямо на мокром песке наживу: мелкую рыбешку, лягушат или личинок майского жука.
Особую сноровку надо было иметь при забросе снасти в воду. Лучше него этого никто не мог сделать. Надо было натянуть вдоль берега, приподняв левой рукой за груз, привязанный на противоположном конце бечевы всю снасть так, чтобы почти не было слабины и все поводки с насадкой повисли, не путаясь в воздухе и, полуобернувшись лицом к реке, бросить. Но так, чтобы бросок был на расстояние чуть меньше длинны бечевы, тогда снасть не оборвется и поводки не закрутятся на натянутой в воздухе бечеве. А когда снасть ляжет на дно, они не станут путаться. Если же бросок будет значительно меньше длинны снасти, поводки, когда путаясь еще в воздухе и на дне – помешают друг другу.
Важно, чтобы груз падал в воду от рыбака по прямой линии, близкой к перпендикуляру, это давало больший охват водного пространства.
Александр вначале учился бросать бечеву с грузом без поводков, потом с поводками. Несколько раз менял длину подпуска! Но слишком длинная бечева давала большее количество неудачных забросов, и он определил себе свою длину снасти в тридцать метров.
Можно было бросать и правой рукой, но тогда необходимо от кола с привязью тянуть снасть вниз по течению и кидать сильнее, ибо пока груз шел на дно, бечева ослабевала больше.
Поставить снасть лучше в сумерках, чтобы никто не видел, иначе обязательно украдут, а проверить нужно ранним утром.
…Александр поставил два подпуска. Оба, как ему казалось, очень удачно и, поднявшись на песчаную кручу по холодноватому для босых ног песку, присел около своего велосипеда. Снасти были уже в воде, колья притоплены, и он был спокоен – никто до утра их не обнаружит, некому будет.
Он сидел на крутом берегу и смотрел на Самарку. Это место, как раз посередке между Полоузным ключом и Ледянкой, он любил особенно. Здесь Самарка, как подкова, изгибалась в сторону Утевки, и с того места, где он сидел, с середины изгиба, были видны обе ее части: и верхняя, и нижняя вода.
«Это же не подкова, это натянутая тетива, – подумал Шурка. – Вот-вот она стрельнет в сторону села своим осинником, вплоть подступившим на песчаной отмели к воде. Он любил прислушиваться к реке, особенно вечером. Казалось, так много видала, так много слышала она на своих берегах, плесах и заводях.
– Сидишь, рыбачок, – раздалось за спиной, и Александр, невольно вздрогнув, обернулся.
– Дядя Коля?
– Так точно, по уличному Кочеток. Что сидишь-то, поехали домой.
Никто твои подпуски не снимет, ты что, в ночь караулить хочешь остаться?
– Да нет, – протянул Александр, – вы видели, как я ставил их?
– Конечно, шумел на всю Ледянку, я чуть выше сидел на язя, за тем кусточком, где коряжина в воде.
– И как? – спросил Ковальский.
– Да плоховато, одного вот взял.
Александр подошел, заглянул в сумку, висевшую на руле велосипеда.
– С килограмм будет?
– Да, наверно. А мы пацанами подпуски всегда заплывали и бросали. Груз точно, как надо, ложился.
– Да нет, заплывать хуже, – мотнул головой Ковальский.
– Почему хуже, нормально, только в воду лезть, но вечером вода теплая.
– Мы с братом Петром один раз так ставили, и он заплывая, попался на крючок, хорошо, что за трусы, не за тело, иначе бы худо было…
– И как же, отцепил?
– Нет, пришлось трусы снять и оставить до утра. У него трусы были красные такие из ситца, мать берет старые плакаты в клубе, транспаранты, смывает лозунги и шьет трусы из них. Самое чудное, на утро поехали проверять, на крайнем, около трусов, крючке килограмма на три соменок попался.
– Да ну? – удивился Николай. – Схвастал поди…
– Нет.
– Ну, это он на лозунг какой-нибудь попался. Ага!
– Так трусы были уже без лозунгов, – засмеялся Александр. – Значит, на цвет. Поехали, ладно, а то уже поздно.
И они поехали. Кочеток впереди, Ковальский за ним. Когда на подъеме слезли с велосипедов и пошли рядышком, Кочеток сказал:
– А мы делали это все равно проще. После последнего поводка до грузила было еще метра три просто веревки без крючков для безопасности и плыви спокойно.
– Да? – удивился Александр. – Просто. А мы как-то не додумались.
– Учись, пока я жив, – засмеялся Кочеток, а потом – уже серьезно: – Шурк, я что к тебе подошел-то, знаешь?
Ковальский приостановился, и приотставший Кочеток ткнулся колесом велосипеда в ногу Александра.
– Прости, – уважительным тоном произнес Кочеток. – Я вот что: разговорились мы с Кузьмой Даниловым, знаешь его, о тебе, ну, о твоем родном отце и у него какая-то мыслишка есть, как его поискать. Он сказал, что хорошо, если бы ты пришел к нему домой. Ты сходи, он краевед, историк. Дотошный такой, авось, а? – сказал Кочеток, обрадовавшись чему-то при последних словах. – Сходишь? А то мне обидно, не могу ничем тебе помочь. Живой я, вот он – а дела нет по твоей части.
– А когда можно?
– Да хоть завтра. Он всегда дома. Десять лет поди уже на пенсии.
Они давно вышли на ровную песчаную укатанную дорогу и, когда сели на велосипеды, то покатили почти не слышно, только шло еле слышное шипенье из-под колес, да во встречной тишине раздавался редкий глухой кашель впереди едущего Николая. Это напоминало Ковальскому то время, когда он рыбачил или охотился вместе со своими дядьями. Ему не доставало теперь на рыбалке или охоте кампании. Он привык с детства к артельному труду. К артельным рыбалкам, охоте. Промышлять одному было интересно, в этом была своя прелесть. Но долго в одиночку, как тот же Сашка Мазилин, в последнее время Ковальский не мог.
А Мазилин Сашка целыми днями пропадал на рыбалке. Его лодка с высокой широкой кормой постоянно теперь маячила чуть пониже Ледянки, он даже шалашик себе в осиннике соорудил от солнца. Большой. Если бы не ночные дежурства, он бы и ночевал, наверное, в этом шалаше.
…К Кузьме Емельяновичу Данилову Александр решил обязательно сходить до начала учебного года.
…Он тронул слегка крепенькую калиточку, и она лишенная какого-либо запора, охотно подалась и впустила Александра в уютный узенький дворик.
Не успел Александр сообразить: постучаться ли в дом или пройти в огород, где через редкий досчатый забор просматривались две женщины, собирающие картошку из кучки в ведра, как из крохотной мазанки вышел сам Данилов. Он был в жестком фартуке поверх фланелевой рубашки и с большим ножом в левой руке.
«Похож на моего деда, когда тот собирается резать барана, а вовсе не на бывшего директора школы, – подумалось Александру. – Только дед крупнее фигурой и тоньше лицом. И брови не мохнатые такие…»
– Давай, заходи, я вот в погребе клетушку под картофель поправлял – сейчас поговорим.
Он пошире отворил дверь, та, со скрипом поддалась, и Александр вошел в мазанку Кузьмы Емельяновича. Сразу бросились в глаза два больших сундука, стоявших друг за другом вдоль стены. Никаких ларей, ящиков с зерном, дробленкой. Помещение было похоже на кабинет. В свободном углу справа радовала глаз горка полосатых арбузов. На стенах – полки, на полках – книги и папки с тесемочками.
– Это все мои архивные дела, в доме не помещаются, моя сноха сюда меня спровадила. Садись вот на скамеечку.
Ковальский сел, продолжая оглядываться.
– Я ведь обнадежил и тебя, и себя. С Кочетком-то поговорив. Не нашел адрес я, вот беда в чем!
– Какой? Отца? – выдохнул Ковальский.
– Да нет, что ты! До адреса отца, увы, далековато еще.
– А кого же? – не терпелось Александру узнать.
– Расскажу, потерпи, тут дело неспешное.
– Кузьма Емельянович, а вы сами моего отца не видели, тогда в сорок третьем году? – поспешил спросить Ковальский.
– Да нет, – как показалось, слишком торопливо ответил Данилов. – Меня тогда не было в Утевке.
– А потом? Ведь какой-то слух должен был быть, он не один же был? – добавил Александр.
– Нет, польская тема меня как-то тогда не трогала, вот так и получилось, что все сбочь меня. – Он замолчал, потом без всякого перехода спросил: – У меня был адрес Петра Котова, не знаешь такого? – Сам ответил: – Конечно, не знаешь. Я еще, пошевыряюсь в сундуках, а ты посиди, посмотри вот хотя бы это.
Он протянул пачку листков. Ковальский принял пачку и стал рассматривать первый листок сверху.
На нем было от руки написано четким крупным почерком стихотворение.
– А ты прочти вслух, – заглядывая через плечо, сказал Данилов. – Стихи вслух надобно читать.
Ковальский, подчиняясь, негромко прочел:
Домашка
Забывшая давно свои истоки,
Начало потерявшая свое,
Она к Самаре подползла широкой,
Самара к Волге вынесла ее.
А Волга, непокорная по нраву,
Крутой волною к Каспию летит…
И потому сказать имею право:
Мой тихий дом на Каспии стоит!
– Как стихотворение?
– Хорошее, красиво хотел автор сказать. Я бы так не стал.
– Как? – Старик Данилов замер, выпрямившись во весь рост, это ему вполне можно было сделать в его приземистой мазанке.
– Ну, он подравнивается, что ли, в одну линию со всеми. Все под Каспий далекий и не совсем наш: утевский и домашкинский. У нас на Волге и Самарке свое, на Каспии – свое. И наши истоки забыты, и начала. Хорошо ли это?
Старик зорко посмотрел из-под пугающих, диковатых бровей и крякнул, а потом засмеялся:
– Ну, брат, не ожидал. Ты пишешь стихи?
– Иногда, когда они сами рождаются.
– Да, брат, ты меня обрадовал, может, у нас в Утевке свой поэт будет. В Домашке вот есть же.
Ковальский вновь взглянул на листок, под стихотворением стояло:
Петр Гриднев.
– Что? Он из Домашки?
– Да, а ты не слышал такого имени? Я в библиотеке переписал из «Волжского комсомольца». – Он продолжал перебирать листки в крайнем от Александра сундуке, присев на низенький чурбачок. – Сейчас, по-моему, работает ответственным секретарем газеты в Новокуйбышевске. А забирали его из нашей утевской школы – в Домашке десятилетки не было.
– Из школы – сразу на фронт?
– Ага, из школы, только не на фронт, а из десятого класса прямиком в исправительно-трудовую колонию. Где у меня папка его? – сам себя спросил старик. – Ага, вот!
Он взял с полки над самой головой Ковальского голубую папку, перевязанную шпагатом. Раскрыл ее, перевернул несколько листков.
– Вот: ученик десятого класса Утевской школы Гриднев Петр Яковлевич был арестован 19 марта, а 28–29 июля 1941 года осужден военным трибуналом по статье пятьдесят восемь пункты десятый и одиннадцатый на пять лет лишения свободы с лишением избирательных прав на два года. Отбывал он свой срок, бедолага, в Колтубанской исправительно-трудовой колонии № 2 Бузулукского района Оренбургской области.
– У вас как в каком учреждении, все точно и аккуратно, – удивился Ковальский. – А за что его посадили?
– А ни за что, – спокойно ответил старик Данилов.
– Как? Из школы, в начале войны, когда надо на фронт, а его в лагеря? Ни за что?
– Потом реабилитировали, вот сейчас… Ага… Года три назад…
«реабилитирован в декабре 1957 года», – прочитал он на обороте желтого листочка, согнутого пополам вдоль. – У него вышла книжка стихов «В путь» в 1958 году. У меня ее нет. По печати знаю.
Данилов захлопнул крышку сундука и сел сверху.
– Все, не знаю, где ту книжечку больше искать, в том уже все перерыл, и в этом ее – нет. Куда ж она делась? Сколько раз говорил, что надо все переписывать в отдельные папки, нет тебе. Память уже не та. Я был в прошлом году в Самаре и случайно встретил Михаила Макридина, он мне свой адресок-то и дал, я возьми да и запиши его на книжке о садоводстве, которую купил в ту поездку на Ленинградской. На задней обложке, с тыльной стороны записал. Помню только, что улица Фрунзе.
В мазанке враз стало темно. Ковальский обернулся, в дверном проеме стояла крепка на вид старуха в белом платке, с раскрасневшимися отвислыми щеками.
– Отец, мы ссыпать картошку готовы, ты-то как сам?
Кузьма Емельянович ядрено крякнул:
– Мать, давай перерыв сделаем на обед, пока ты готовишь, мы договорим с Александром, нам важно это, когда он еще придет. А картошка пусть еще посушиться, день больно хороший ноне.
– Тебе видней, дай-ка мне вон ту арбузиху, которая поодаль, я помою и порежу вам.
– С удовольствием!
Ладный их разговор, неспешные движения нравились Ковальскому.
Домовитость была в стариках и основательность – качества, которые он всегда ценил.
Когда Данилова ушла, Александр спросил:
– А зачем вам адрес Макридина?
– Видишь ли, в чем дело, может, нас выручит и Гриднев, если его разыскать, но Михаил – важней.
Кузьма Емельянович вновь сел на свой сундук, в задумчивости провел ладонью по коричневой крышке, пристально глянул и продолжил:
– Мне восьмой десяток, мало ли чего, сам в своем архиве не найду, что надо, а вдруг меня не будет, все перепутают и развеется все. Давай я тебе расскажу то, что может тебе помочь в поисках твоего отца. У тебя жизнь большая, не сразу, а вдруг и разыщешь. Сейчас только пороюсь в бумагах еще. Да вот они. Человек не долговечен, а бумаги, они могут пережить всех нас по нескольку раз. Тут вот мои записки. Ага, вот. Иван Макридин и Петр Котов учились в свое время вместе в Абдулинском педучилище. А Иван Макридин и Петр Гриднев друзья с детства, земляки. Они жили в селе Домашка. А вот Петр Котов и Петр Гриднев никогда знакомы не были вообще. Ни очно, ни заочно. До одного времени. До суда, который состоялся 28 июля сорок первого года. Дело называлось громко: «О троцкистско-бухаринской группировке под руководством Ивана Макридина и Петра Клыкова».
Ковальский смотрел на старого учителя, уже совсем старика, на убогую обстановку в мазанке и удивлялся несообразности того, что видел и о чем говорилось. Стены мазанки раздвинулись: начало войны, аресты школьников, «троцкистско-бухаринские группировки» – у нас тут, в Утевке, Домашке? А школьники Краснодона из «Молодой гвардии»? Какое несоответствие. Какая дикая пропасть! Разве могло быть так: там – школьники-герои, а здесь – группа предателей, в самом начале войны, далеко от фронта, от всего, что могло сломить дух советского человека. Такое разве могло быть?
– Кузьма Емельянович, неужели такое было, что могли быть предатели?
– Да нет, ну, что ты. Если кратко: все они пострадали за излишнюю любознательность. А остальное манипуляции органов, дело шитое белыми нитками. Первые аресты были в Оренбургской области, кажется, 4 декабря 1940 года. Арестовали Павла Пушкарского, уроженца села Домашка, учащегося третьего курса Абдулинского педучилища, и школьного учителя Петра Клыкова. В Эстонии, в армии, арестовали 29 января 1941 г. двадцатилетнего Ивана Макридина, в марте – Петра Котова – на Украине, Василия Куликова арестовали в Риге – все они когда-то были товарищами по педучилищу, а Василий Куликов и Иван Макридин – земляки.
– А Петр Котов откуда?
– Да с села Покровки Абдулинского района Оренбургской области.
Из крестьян. Родился – вот есть, сейчас… Ну да – в 1919 году 25 сентября.
– Сколько же их было? – спросил Ковальский и в который уже раз встал и, не находя места, чтобы пройтись, сел, привязанный прочной привязью к старику, сидящему на сундуке.
– Пять человек из Оренбуржья и пять – из Домашки. Многие из них даже не были знакомы. Такая вот подпольная конспиративная сеть. Сплошная выдумка и все. Но суд был беспощадным. Петр Клыков умер в тюремной больнице до суда. Ивана Макридина приговорили к высшей мере – расстрелу. Павел Пушкарский, Петр Котов и Яков Ягодкин – осуждены на десять лет заключения в исправительно-трудовых лагерях каждый.
Михаил Турков, Василий Куликов – на 7 лет. Иван Кротков, Михаил Макридин и Петр Гриднев – на пять лет.
– А мой отец? – спросил Ковальский.
– Что твой отец? – переспросил Данилов, потом спохватился. – Ну да, я все клоню к твоему отцу, но хочу, чтобы ты знал в какую цепочку имен и событий я тебя подключаю, чтобы потом меня не осуждал.
Он отложил папку на угол сундука, обвел взглядом утлую мазанку, почему-то поднял глаза под крышу, где спокойно ворковали голуби, и произнес:
– Можно было бы всего этого тебе и не рассказывать… По крупицам собирал… Хотя и реабилитированы, а лишнего никто не говорит… Так вот я про Котова. Многие из них писали стихи. И Гриднев, и Котов, и Макридин Иван. У Ивана Макридина в Домашке дома при аресте было изъято тридцать тетрадей стихов и прозы. Петр Харлапиевич Котов после окончания срока в начале пятьдесят первого года был выслан на вечное поселение в Сибирь в Красноярский край. Там он познакомился с интернированной полькой Анной. Они поженились. Потом у них родились две девочки. После реабилитации уехали жить в Польшу. Понимаешь, какая возможность открывается, если с ними списаться. Михаил-то Макридин с Котовым переписывается. Он сейчас учится в Варшавском университете на факультете русской филологии. Через наших чиновников тебе трудно будет разыскивать отца. А вот ему написать, Котову. Так он сам в Варшаве смекнет, что да зачем.
– Нате, вот вам.
Жена Данилова, вновь заслонив собой свет, вошла, вернее, протиснулась в мазанку и подала Александру большую чашку с ноздреватыми ломтями арбуза.
– Переспелый? – сказал хозяин.
– Да, немножко, но сладкий ужасть.
– Александр, а ты выноси на вольный воздух, там и попробуем арбуз, и договорим.
Ковальский послушно вынес чашку во двор и поставил на широкую лавку около крыльца. Старуха ушла в избу.
– Вот у тебя какие пути-дороги, – с пол-оборота завелся Кузьма Емельянович, сплевывая большие арбузные семечки в пригоршню, – первый, или один из них: все официальные каналы, ведь отец твой ничего противоправного не сделал, раз призвали в Войско Польское, и он освобождал Варшаву, так?
– Так, – согласился Александр.
– И второй, – продолжал Данилов, – поступишь в институт, будешь жить в Куйбышеве, разыщи либо Гриднева, либо Михаила Макридина, возьми адрес или через них пошли письмо Петру Котову. У него судьба, как у твоего отца, только наоборот: он – русский прибился в Польше, а твой – поляк, но жил в России. Такой человек как Котов должен помочь. Русский, поэт. Он там пишет стихи и печатается.
Когда Ковальский уходил, прощаясь у калитки, Данилов поднял многозначительно указательный палец на уровень виска:
– Я краевед, понимаешь, по опыту знаю: иногда маленькая зацепка дает результат больше, чем усилия десятков людей. Ну, ладно, ты понял, да?
– Я понял, – подтвердил Ковальский и, чуть поколебавшись, спросил: – Все говорят о каком-то солевом тракте в наших местах, вы знаете о нем что-нибудь?
– Ну как же, Александр, ты обижаешь меня, знаю, я собирал матерьял… подожди – я сейчас!
Он вернулся быстро.
– На вот. Я никому не даю свой экземпляр. Но тебе – дам. Перепиши, если надо, и верни. Три листочка всего, а собирал я матерьял по разным источникам очень долго. – Помолчал, посмотрев зорко, и сказал, будто сам себе: – Можно ведь чуть не в кустарник изродиться в житейских заботах-то. Стоять в чащобе со всеми, как все, в общем табуне, и хиреть… А можно стать кремле́вым деревом, крепким и деловым… Это как сам поведешь себя. Те ребята, о которых я тебе рассказал, могли стать такими.
«Кремле́вым деревом, крепким и деловым», – эти слова старика крепко запали в душу Ковальскому. О кремле́вом дереве он слышал впервые. И ему показалось, что старик Данилов сам такой породы.
Расставаясь, пожали друг другу руки. Старик первый подал свою.
Ладонь была жесткая и крепкая. Не стариковская.
«Когда давал мне листочки, да и раньше еще, выглядел так, будто чем-то виноват передо мной, может, что скрывает старик», – невольно подумал Александр.
…Придя домой, он прочел то, что было на трех больших страницах.
Оказалось, соляная дорога, о которой давно хотел узнать подробно, имеет свою непростую историю. Она пролегала от города Самары, через Струков мост и дальше – до села Домашки, на Бариновку через сырт между Утевкой и Трофимовкой, между Кулешовкой и Зуевкой на Андреевку, Гаршино, затем вдоль верхнего течения реки Бузулук до Илецка, выросшего из небольшой крепости Илецкая защита, охранявшей соляной промысел, налаженный в XVIII века в Оренбургской степи на реке Илек. Впервые в Самару этим соляным путем, проложенным в 1811 году полковником Струковым, доставил соль управляющий промыслом Петр Рычков во второй половине XVIII века. Расстояние от Самары до Илецка было 360 верст.
Предполагалось вывозить каждое лето до трех миллионов пудов соли. Два миллиона до Самарской пристани, один – до села Домашки, а далее – по Самарке на Волгу и выше по Волге до Рыбинска. Оказалось, что село Бариновка основано в 1822–1825 годах солевозами из Тамбовской и Курской губерний. В то время солевозы приглашались со стороны. Было учреждено сословие пришлых крестьян-солевозов в десять тысяч человек. Соляная дорога перестала окончательно существовать где-то около 1870-х годов, когда усилился подвоз более дешевой чипчанской и баскунчакской соли по Волге и по железной дороге.
Александр не только прочитал несколько раз все, что принес от Данилова, но переписал себе в толстую тетрадь, куда постоянно заносил свои наблюдения. Пряча тетрадку на верх этажерки, подумал: «Надо химичке предложить сделать доклад или пусть сама в классе прочтет ребятам – сведения же исключительные. А Кузьма Емельянович не человек, а наше общее утевское достояние. Как этого не понимают окружающие!»
Об отце он не то чтобы забыл, нет он записал в ту же тетрадь, пока помнил, три фамилии – Петр Гриднев, Иван Котов, Михаил Макридин и сделал небольшие к ним пояснения, дав себе слово: как только станет студентом и будет в городе, сразу начнет поиски. Но это ведь еще когда будет? И будет ли? В любом случае – не раньше двух лет.
На другой день он сходил в библиотеку. Там на стене за стеллажами книг висела карта Куйбышевской области. Он давно ее приметил. На ней и выверил написанное Даниловым про соляную дорогу. Почти все названные села нашел. Нашел и село Гаршино. Он удивился свой находке. Казалось, его можно было и так найти на карте, но ему важна была доказательность. Значит, это оно, то самое село, где по рассказам в начале века отец Василия Любаева Федор Любаев с мужиками из Бариновки поехал по солевой дороге в город Илецк, да где-то за Гаршино в верхнем течении реки Бузулук в башкирской степи и помер. Там его и закопали.
К удивлению он обнаружил исток Самарки на карте недалеко от села Логачевка на Меловом сырте. И насчитал несколько ее притоков: Бузулук, Ток, Боровка, Съезжая, Большой Кинель. И другие еще более мелкие без названий.
…Утром следующего дня, когда Василий Любаев пришел из клуба с дежурства, Александр сказал ему про село Гаршино.
– Ты его нашел? – удивился отец.
– Точно, пап, чего же проще, оказывается дед наш по старинному солевому пути поехал, он давно заброшен, но когда-то бариновские мужики занимались перевозом соли, они были при царе приписные солевозы, кто-то помнил из потомков и ездил этим путем.
– Ну, ты голова, давай сходим сегодня в библиотеку, на карте посмотрим, мне тоже интересно стало. А то ведь вообще все как в воду кануло, а тут…
Когда отец ушел в свою мастерскую, Александру вдруг безо всякой связи, казалось, пришла неожиданная мысль.
Он вспомнил, что Василий, когда-то обнаружив фотографию отца Александра – Станислава и четыре письма, не раздумывая, порвал их на мелкие куски и выбросил.
Так все, с бабы Груни слов, и думали, что это Василий сделал из-за ревности к настоящему польскому отцу Ковальского.
«Да нет же, нет, – шептал Александр, вспоминая рассказ Данилова об «антисоветских заговорах» домашкинских и покровских ребят. – Нет, просто отец Василий опытнее всех, он так сделал, чтобы не получилось глупости какой и беды нам с матерью из-за поляка, мало ли что кто еще вздумает…»
Вспомнились слова Пудовкина, сказанные им совсем недавно на Самарке: «…надо, чтобы в стране была интеллектуальная сила…»
«Надо ли? Кому надо? – кружились в Шуркиной голове вопросы. – Если эту силу, по рассказу старика Данилова секут под корень. Десять молодых парней, поэтов и комсомольцев, пострадали не понятно за что? Они бы на фронте пригодились эти парни, а после войны, если б уцелели? Они же не Мазилины были? Они как раз и были или могли стать этой нужной всем интеллектуальной силой…»
Ему во многом хотелось разобраться.
«При следующей встрече, – решил он, – надо обязательно поговорить на эту тему с Даниловым, это ж его поколение косило таких парней, как Макридин».
Он наивно полагал, что принадлежность к своему поколению дает ключ к пониманию того, что и по какой причине вершилось этим поколением. И не только понимание дает, но и ответственность…
Но он уже начинал догадываться, что об этом надо думать как-то по-другому… Нужен либо опыт, либо большие знания. Либо нечто такое, что приходит невесть откуда… Как прозрение… Им двигала страсть знать как можно больше. Откуда, отчего рождалось это желание, Ковальский и сам бы не сказал. Но он и не задумывался пока над этим. Но, кто знает, может такие люди, как Данилов, и разжигали потихоньку ту страсть, которая потом приведет Ковальского в институт, заставит заниматься наукой. И то, что он станет через тридцать пять лет доктором наук и академиком, будет иметь свою закономерность. Может быть…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































