Текст книги "Гармония – моё второе имя"
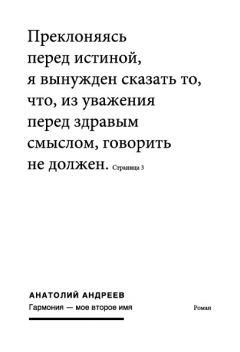
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Далее он выказал немалые познания в области анатомии. И завершил:
– Три раунда по пять минут, секунданты следят за временем. Вопросы, господа?
– До первой крови? – уточнил Сеня.
– До первой смерти, – спокойно парировал Гоша. – Один из нас должен быть убит. Таково условие дуэли. Разве вам Германн ничего не сказал об этом?
– А если пять минут не выявят победителя? – дотошно терзал Гошу Сеня.
Мой противник криво усмехнулся и молча кивнул головой – мол, честь имею, господа хорошие – и отошел от странных людей, один из которых приуготовлен был к закланию, а другой делал вид, что не замечает этого.
Короче, он излучал уверенность и благородство. «Плюшевый – а рычишь, как настоящий», – хотелось бросить ему в лицо замшевой перчаткой.
Я медленно приходил в ярость – и ничем не выдавал своего изменившегося состояния. Затаился. У меня, затюканного аутсайдера, появлялся призрачный шанс – хорошо, что призрачный: за него хотелось цепляться изо всех сил, как за соломинку. Дело не в величине шансе; дело в том, что он придавал силы. Я почувствовал какой-то скрытый резерв. Благородные дохнут первыми от рук тех, кто прикидывается благородным? Это и есть проявление закона всемирного тяготения?
Как бы не так. Благородный – не значит полный лох, Гоша. Иди гюрзе своей рассказывай байки на ночь. Про привидения. А я тебе не гюрза. Я если цапну – ты сдохнешь, Го. Сначала немало изумишься – а потом тут же откинешь копыта, паскуда.
Мы разделись до пояса, встали в позицию (сначала он, потом я – и тут мои мышцы сразу вспомнили урок Учителя).
– Готов, корнет?
– Готов.
Он замер – и вдруг сделал стремительный выпад с громким театральным топаньем, призванный, очевидно, уничтожить меня морально. Я отскочил от него, словно барышня, ужаленная пчелой: при желании можно было подумать, что он легко добивается своего. Он так и решил, я в этом не сомневался. Его победа на самом деле обернулась моим маленьким триумфом, о котором он и не подозревал.
Я был готов к тому, что он фехтует в сто раз лучше меня, но он фехтовал только в семьдесят раз лучше. Это был еще один приятный сюрприз. Но мне пришлось тяжело.
Он держал рапиру вперед и вверх – и я держал точно так же. Он делал выпады вперед ногами, перебирая ими, будто резвый краб, и выбрасывая при этом руку с жалом на конце, рапирой (инициативой владел, разумеется, Гоша, кто бы сомневался) – я отбивался. Получалось нечто классическое: атака – защита, укол – блок.
К моему величайшему изумлению первая пятиминутка закончилась ничем. На мне не было ни царапины.
– Он тебя боится, – встретил меня Сеня изумленным выдохом, отдаленно напоминающим гром аплодисментов.
– Он? Меня?
– Неужели ты не видишь: он тебя пугает и ждет твоей грубой ошибки.
– Судя по тому, что я еще жив, он не дождался от меня грубого промаха?
– Ты бесподобен, – Сеня дышал тяжелее, чем я. – Я горжусь тобой.
– Что делать дальше, Сеня?
– Боюсь, ничего нового: око за око, зуб…
– Я в смысле тактики, Сеня. При чем здесь стоматология…
– Надо ужалить его. Чтобы он боялся еще больше.
– Это идея, падре.
Но это был опрометчивый совет, которому я опрометчиво последовал. Я на удивление легко ранил Гошу в левое плечо, упредив первую же его атаку. И только в тот самый момент, как моя рапира пронзила живую ткань, я понял, что упускаю свой шанс: надо было воспользоваться эффектом неожиданности сполна – надо было нанести неприятелю существенный урон, чтобы остановить поединок за явным преимуществом. И волки целы, и овцы торжествуют. Я ведь его убаюкал, усыпил бдительность – тактически переиграл! – а теперь преимущество вместе с яростью переходит к нему.
И тут Гошу, действительно, как подменили. Он сконцентрировался (время шло, он начинал уставать) и приступил к активным и рискованным действиям. Его атаки стали хитрыми, агрессивными и разнообразными. Если бы они были такими в первом раунде, я бы не продержался и минуты. Но перед Гошей стоял уже отчасти им же на свою голову закаленный боец, которому, увы, это мало помогло: к концу второго раунда я уже приволакивал пронзенную левую ногу, у меня был проткнут правый бок, судя по всему, задето легкое (на губах шипела кровавая пена) и сам кратковременный отдых был мне не на пользу. Я терял силы. В голове мутилось.
– Что, Сеня?
– С Божьей помощью…
– У тебя вата есть?
– Только носовой платок.
– Порви мою рубаху, перетяни мне ногу…
– С Божьей помощью… Что ты собираешься делать?
– Чтобы выжить, надо принимать такие правила игры, которые ведут к гибели, – сказал я, сплевывая пену.
– Боже сохрани и помоги нам!
Сеня, наверно, понял меня в том смысле, что во мне несокрушима сила духа. А я понял так, что дело плохо. Каким-то зверским чутьем я просчитал, что Гоша по-китайски бесцеремонно будет настроен на прежнюю победную стратегию. Зачем ему менять стиль поединка? Его все устраивает. А вот я должен его удивить. Не знаю, как, но обязан. Это, как выражались раньше корнеты, был вопрос жизни и смерти.
Чувство, владевшее мною, было явно не из репертуара Достоевского: ничего возвышенного. Или униженного. Просто жажда выжить.
Я, тяжко прихрамывая, выполз на площадку, стараясь не показать, сколько во мне еще сил. Может, мои предки были гладиаторы? Уж лучше бы – аллигаторы.
Плечо Гоши аккуратно, крест-накрест, было залеплено широким пластырем. Вокруг раны – ни кровинки.
Он встал в стойку, давая понять, что мой жалкий вид его абсолютно не трогает. На войне как на войне. Хочешь жить – убивай противника. Рапира – вперед и вверх. Гоша стал медленно, сукой-пауком подбираться ко мне, готовя решающую атаку. Я стоял на месте (моя раненная нога деревенела с каждой секундой). Когда он приблизился ко мне, я, как в детстве, стал размахивать рапирой, словно прутиком, направо – налево: вжик, вжик. А потом, сделав бессмысленную, но из чего-то явно следовавшую, тонкую паузу, стал рубить «по-чапаевски» – сверху вниз. Раз, раз. Это было «совершенно противу правил», согласен; но какие правила, когда жить хочется. Видимо, на какое-то мгновение мне все же удалось озадачить Гошу: он поднял рапиру, защищаясь от детской дури, но выставил ее как-то нетвердо (спасибо гюрзе?).
В следующую же секунду я сделал то, чего не ожидал не только он, но и я сам. Насмерть перепуганный собственной смелостью, я внезапно ломанулся вперед, словно недобитый бык на здоровых и стройных ногах; если судить по моему измочаленному виду, такой прыти со стороны почти трупа никак не предполагалось. Магию и гальванизацию мы в расчет не берем. Итого: мой контрвыпад был полным сюрпризом. Я превратился в многотонный придаток летящей рапиры – и с криком «на!», сопровождавшимся характерным хрустом, всадил заточенную сталь в белый живот бедному Гоше. После чего легко вытащил клинок и брезгливо отбросил его на пол. Реальность была посрамлена. Раздался жалобный звон – то холодное оружие сетовало на свою судьбу.
В моем представлении я совершил последний свободный жест свободного человека.
– Если вы задели позвоночник – ему конец, – услышал я над собой внятный голос.
Секундант Гоши был не другом, а медиком. В его руках был саквояж, грамотно упакованный всеми необходимыми медицинскими препаратами и агрегатами, которыми тот, колдуя над сипевшим Гошей, пользовался, словно аист – клювом.
– Я очень надеюсь, что задел хребет этому млекопитающему, – сказал я, пуская вишневую пену и теряя сознание.
Теперь я, кажется, понимал, что значил припев детской песенки про ежика, который «шел и насвистывал дырочкой в правом боку». Это черный юмор, дети. Есть на свете белый ети. Вот и все, большой привети…
Далее секунданты, строго следуя инструкции, развезли нас по разным больницам.
4. Воскресение из живых
Первым, что я увидел, когда открыл глаза в больничной палате, оказался не казенный потолок, а молодой следователь. Высокого роста, склонный к полноте, он был в белом маскхалате, наброшенном на свитер, и с бородой а ля Хемингуэй: штыковая лопата лица (широкие скулы, узкий подбородок) обросла жестковатым черным мхом, в который на свободное место были бережно высажены блестящие темные бусины маленьких, глубоко утопленных под лоб глазок. Волевое, но где-то доброе лицо – очевидно, от перебора злых красок. А может, так: с виду свирепое, но тебе ничуть не страшно.
– Следователь Степанов, – представился Хемингуэй.
«Ставлю пять против одного, что кличка у нас Дядя Степа», – дерзнул я.
– Ваш секундант, человек мирный и богобоязненный, все рассказал, отрицать что-либо бессмысленно, – с мягким внушением произнес он, как только убедился, что я слышу его и понимаю.
– Гоша жив? – спросил я.
Вдохнуть полной грудью я не мог: болели ребра.
– Жив, на ваше счастье, – ответил следователь.
– Почему вы решили, что – на счастье?
– Потому что иначе вам бы светила статья за убийство.
– А сейчас что светит?
– Видите ли, статьи за дуэль, на ваше счастье, не существует. Дуэлей сегодня, как известно, нет. Есть, извините, идиоты, как мы выражаемся в своем кругу. Но существует, на вашу беду, целый ряд статей, под которые подпадают ваши деяния. Среди них «хулиганство», «злостное хулиганство», «покушение на убийство»…
– Так… Чего же мне ожидать?
– Молитесь за здоровье Гоши. Если он не станет инвалидом, можете отделаться условным сроком.
Мне стало вдвойне, нет, втройне обидно: во-первых, Гошу я так и не убил, во-вторых, за свои безусловные подвиги мне полагался всего лишь условный срок; а в-третьих, ради спасения собственной шкуры мне предстояло молиться за здоровье Гоши. Абсурдиссимо.
Я осторожно вздохнул.
– Ваше поведение мне глубоко симпатично, – тихо сказал следователь. – Лично я не имею против вас ничего. Вы поступили как мужчина. Против кандидата в мастера спорта по фехтованию… Не каждый бы на это отважился. Но закон есть закон. Будьте добры дать подписку о невыезде.
Я расписался.
– Поправляйтесь. И будьте счастливы.
Первое, о чем я подумал, когда грозный следователь «штык-лопата» ушел, – о Марине.
Потом – о себе.
Потом опять о Марине.
Потом – об Эльфриде Елинек.
Потом я уснул и проснулся только через сутки. На столике стояли цветы в дешевой вазе. Ромашки. Ко мне приходила Марина. Персонал обходился со мной подчеркнуто уважительно.
Отчего-то я подумал: «Не спеши делать неумолимо неизбежное дело. Сделай бессмысленную, но аксакальски тонкую паузу. Иногда что-то случается».
И опять уснул. Я даже видел сон, но забыл его.
Через несколько дней я, наконец, стал понимать, в каком направлении двигались мои мысли. Я расчистил себе путь к Марине, мы должны были быть вместе – и вдруг, ни с того ни с сего, я стал сомневаться в очевидном: а в том ли направлении я шел?
До моей мечты – рукой подать, и – лень руку протянуть?
Это было, пожалуй, посерьезнее дуэли с Гошей.
Марина твердила мне только об одном: ребенок. Ребенок! Хочу ребенка от тебя. Больше ничего не хочу. Больше ни о чем не могу думать. И вот этот проект под условным названием «розовый младенец» стал представляться мне счастливым кошмаром. У проекта обнаруживалось все более сомнительных, не вполне устраивающих меня сторон.
Марину я понимал: нет ничего печальнее на свете, когда женщина запускает очаровательный механизм приспособления на полную катушку с человеком, недостойным ее. Влюбленность, любовь, переходящие в преданность, верность, заботливость… И все это переносится на человека, который не способен ценить женскую суть.
Женщина сатанеет, бедняжка. Ей нечем заполнить свою пустоту, и она становится хуже, чем могла бы быть.
У Марины с Гошей так и произошло.
А тут еще проблема с ребенком… Она охладела к Гоше, и ничего не могла с собой поделать. Иногда ребенок делает процесс врастания в мужчину необратимым. Пары разрываются только с мясом. Марина, уповая на это, как на последнюю надежду, как последнюю милость просила согласия завести ребенка. Гоша отвечал категорическим отказом (а уж что-что, но быть категоричным он умел). Почему – неизвестно. Марина подозревала, что объяснение лежало на поверхности: Гоша просто-напросто не способен был стать отцом; с другой стороны, зная Гошу, она не исключала и более сложное объяснение: он патологически боялся иметь детей.
И тут Марина встретила меня. Я на дуэли победил Гошу. Я чемпион, и я люблю ее. Следовательно…
Очаровательный механизм приспособления был запущен теперь со мной – причем, без моего на то согласия, то есть без формальностей. Влюбленность, любовь, переходящие в преданность, верность, заботливость – все это безраздельно принадлежало теперь мне. По праву сильного. И сказать Марине с ее проектом «нет» – значило обидеть ее в лучших чувствах, оскорбить, унизить и убить. Хуже того – растоптать. По кодексу слабого.
Оказывается, я все еще находился в той стадии, когда ищешь счастье вне себя. Да и бывает ли по-другому?
Вот останусь один (то есть без Марины: впервые выговорил такое) – и на меня снизойдут покой и воля, так сказать, замена счастью. Суррогат?
А может – логическое продолжение счастья? Покой и воля как форма счастья. А?
Что если покой и воля – это и есть мое счастье сегодня? Смотри, не ошибись, орелик.
А вдруг не снизойдут?
Страшно было терять любовь. Что-то подсказывало мне, что терял я слишком много. Был уверен в этом. Если любовь к способной на любовь женщине уходит – виноват мужчина. Это точно ошибка. Пустота, возникающая оттого, что от тебя уходит пустая женщина, бывает невосполнимой. Собственно – смертельной раной. Берегись…
Два чувства сражались во мне, одном человеке. Иногда я просыпался, открывал глаза – и просто наполнялся ощущением счастья. Уже предчувствие полноты жизни делало меня счастливым. Я, Марина и наш ребенок: вот формула удачи. Все так незатейливо.
А иногда, в иное утро, мечта моя (розовый младенец, а также все сопутствующее – счастливые глаза Марины, ее благодарная улыбка) разрасталась до таких размеров, что начинала давить на жизненно важные центры. То, что я имел в жизни, мне уже не хотелось; а то, чего мне хотелось (розовый младенец плюс мое родное одиночество), было недостижимо.
Я боялся остаться один. Накатывал страх: собственный эгоизм казался мне безмерным. Я боялся себя. Все казалось зыбким и ненадежным. Я забывал на вкус ощущение счастья.
И когда я окончательно запутался – темень египетская, а не жизнь – вдруг пришло новое понимание, а вместе с ним и ощущение новой силы. Ведь все мои страхи и мечты, если их перемножить и поделить, и есть вариант гармонии. То, что вчера было хаосом, сегодня стало гармонией.
Почему? Потому что я как был порядочным человеком, так и остался; как был думающим – так и законсервировался в этом состоянии. А гармония не берется ниоткуда, она рождается именно из хаоса – с помощью разума и высокого чувства. Из ничего и будет что-нибудь никчемное. Из мыслей и страданий – понимание и удовлетворение.
Этот кошмар и есть счастье. Все прочее – удовольствие. Конечно, хочется, чтобы в жизни было и удовольствие, хочется. Но тот, кто гонится за удовольствием, – несчастный человек.
Как не расплескать вот это понимание, по капельке набежавшее в хрустальную чашу. Вот она, эта чаша, полновесный чемпионский кубок. Он дается не за победу в турнире на рапирах (г. Минск, заброшенный сарай, 200… г.); эта номинация называется «познай себя» (всегда и везде). У Гоши на этот мировой форум даже заявки не приняли бы. Через секунду и чаша, и ее содержимое могут испариться, превратиться в эфир – и ты уже остался без понимания, экс-чемпион. Никто. Через какое-то время из эфира, из влаги тумана конденсируются капли смысла, наполняющие чашу, – и ты должен пользоваться моментом, пока есть силы.
И единственный способ хранить чашу всегда полной, чтобы в любой момент можно было передать ее другим, – сделать чашу романом. Роман не пишется, а сочится. В романе смыслы живут в эфирном состоянии, а также в жидком, и даже в твердом, металлическом. Роман – это вселенский аккумулятор всех существующих в природе и культуре смыслов. Чаша смыслов. Бездонная.
А почему чашей необходимо непременно делиться с другими?
Потому что в ней присутствует истина. Я считаю, что истина всего важнее на свете; но истину нельзя проповедовать, в ней нельзя убеждать, ее нельзя делать инструментом принуждения, ибо тогда она в ту же секунду перестает быть истиной. То, в чем убеждаешь с пеной у рта, неуловимо меняет свой состав – и вот уже перекисший нектар обладает свойствами яда. Истина и пена у рта – совмещаются с изрядной долей комизма. Дубина истины: представляете?
Истиной можно только делиться: это способ существования истины в мире людей.
Я и делюсь. Чем больше отдаешь – тем больше тебе остается. Выгодно делиться.
Это тоже закон жизни, закон всемирного тяготения. Правильная, разумная, трудная жизнь не просто достойна романа, она в обязательном порядке завершается романом – чтобы войти в состав других трудных жизней и немного их облегчить. Или – усложнить: как получится.
Вот это и есть подлинная глобализация, способ соединения подвижников в прочную цепь, состоящую, в сущности, из эфира. В этом, если угодно, общественное измерение личной жизни, жизни личности.
Стоп: Личности.
Невозможно объяснить. Можно только зафиксировать. Кому надо – поймут. Понимание, трогательно соединенное с чуткой и ранимой душой, живут на виду у всех – в роковом, но гордом одиночестве.
Жить, держаться на виду у всех – на это надо много сил, Марина.
Как-то так получалось, что я обязан был писать роман. А Марина и розовый младенец?
Не знаю, не знаю… Ибо удержать любовь без розового младенца – невозможно; однако розовый младенец никак не совмещался с романом, по замыслу, совсем не розового цвета.
Не знаю…
Проклятый сон: о чем он был? Что я видел во сне? Что-то связанное с Мариной.
Когда я выписывался из больницы, в полдень, врач удивленно сказал мне:
– У вас странное имя – Гармония.
– Меня зовут Герман, – скромно потупил я очи.
– Но тут написано – Гармония. Вот, читайте. Почерк, правда, неразборчивый. Кто вас доставил в больницу? С чьих слов записаны ваши данные?
– Гармония – мое второе имя, – ответил я нагло и удалился восвояси.
* * *
Понимаю: с точки зрения литературного мастерства последняя фраза должна быть ударной – и она у меня получилась; это удача, фразу нельзя трогать ни в коем случае. Испортишь концовку главы.
Однако в мой роман несанкционированно вмешалась жизнь, не спросившись меня, автора. Утром того дня, когда я выписывался из больницы, ко мне пришел мой сын Илья и сказал:
– Папа, у нас беда. У мамы обнаружили рак желудка. Это случилось в тот день, когда ты исполнял свой танец с саблями.
– С рапирами, сынок.
– С рапирами, извини. Она все время плачет. И просит, чтобы ты вернулся домой. В семью. Она плачет с того самого дня, как ты ушел.
– Ты не в курсе, нас еще не развели?
– Не развели. Заявление о разводе мама забрала на следующий день после того, как его подала.
– Понятно, – сказал я. – Чего же тут непонятного? Ясно, как божий день. А ты хочешь, чтобы я вернулся, сын?
Он поднял на меня глаза, всегда немного грустные, и ответил:
– А ты сам как думаешь? Легко без отца? С умирающей матерью?
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
7
«И во всём этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений».
Изрядно сказано. Как бы ничего утверждать нельзя с полной уверенностью, однако есть основания полагать, будто какие-то силы не дремлют. (Мы же отметим и такую «как бы странность»: «всё это дело» уже рассматривается и с позиций обновлённого, раскаявшегося Раскольникова. Это придаёт повествованию пикантность скрытой поучительности, ауру притчевости.) Как бы то ни было, преступление было совершено не случайно (иначе роман был бы другим). В закономерности преступления (предрасположенность к которому – чрезмерное увлечение мыслями и теориями) заложена закономерность наказания, что, собственно и отражено в названии романа. Концепция «преступления» нам более-менее ясна. В чём же содержится суть наказания? Или: как вечная душа берёт реванш у всего лишь «новомодного» неверия?
Легко сопоставить проблематику и логику разворачивания «вопросов» в «Войне и мире» и «Преступлении и наказании», чтобы убедиться, что они при всём своём духовно-поэтическом несходстве находятся в одной культурной траншее, по одну сторону баррикад: их объединяет то, что у них общий враг. Раскольников начал свой путь, словно Сонечка, с лепета молитв, продолжил как величайший грешник и закончил (в романе) как родственник и, если так можно выразиться, единомышленник Христа. Версия «возрождения» заслуживает внимания не потому, что она истинна (она, как мы сказали, неглубока и бессодержательна), но потому, что она неприлично типична, то есть универсальна. Это типичная версия «верующих» и «презирающих» (вследствие панической боязни и чувства неполноценности) рассудок.
Прежде, чем мы рассмотрим данную версию через детали, позволяющие концентрировать в себе целое, отметим тот немаловажный нюанс, на который мы обратили внимание анализируя «Войну и мир». Уже само прогрессивное понимание человека как сложнейшей информационной системы, в которой информация логическая соотносится с чувственно-эмоциональной, инстинктивной и даже физиологической (вспомним: Раскольников в распивочной, куда он спустился после «пробы» в гадчайшем расположении духа, выпил стакан холодного пива – и буквально преобразился, духовно-психологически преобразился: «Всё это вздор, – сказал он с надеждой, – и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря – и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения!»), требует уточнить: что имеет в виду автор «Преступления и наказания» под «рассудком» (разумом, умом, мыслью, интеллектом, сознанием)? Он имеет в виду примерно то же самое, что и автор «Войны и мира», высказывая свои соображения устами весьма неглупого Порфирия Петровича. Во втором раунде интеллектуально-психологического поединка сей «буффон» размышляет: «(…) вы, батюшка Родион Романович, уж извините меня, старика, человек ещё молодой-с, так сказать, первой молодости («старику», напомним, тридцать пять лет; уж не бодростью ли души меряет свой век умный, «кой-что знающий» Порфирий? Не ум ли, настоящий, не игривый ум, состарил его? – Г.Р.), а потому выше всего ум человеческий цените, по примеру всей молодёжи. Игривая острота ума и отвлечённые доводы рассудка вас соблазняют-с. И это точь-в-точь как прежний австрийский гофкригсрат, например, насколько то есть я могу судить о военных событиях: на бумаге-то они и Наполеона разбили, и в полон взяли, и уж как там, у себя в кабинете, всё остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а смотришь, генерал-то Мак и сдаётся со всей своей армией, хе-хе-хе!»
Итак, под разумом имеется в виду тип «игривого ума», падкого на «отвлечённые доводы рассудка» – тип одномерного, схоластического, пустого ума. Если так понятый «ум» делать врагом, то роман во многом оказывается прав. Но другого ума в романе попросту нет, следовательно, «отвлечённый ум» – это весь ум, по Достоевскому, ум как таковой.
И вот здесь-то уже роман обнаруживает свою концептуальную пустоту.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































