Текст книги "Гармония – моё второе имя"
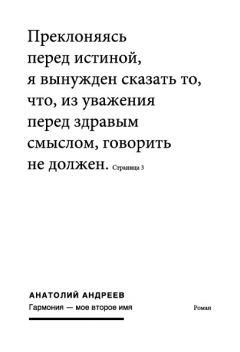
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Книга третья. Любовь
1. Полет над землей – из огня да в полымя
К чувству любви непременно добавляется чувство печали – и не оттого, что любовь рано или поздно пройдет, нет; оттого, пожалуй, что женщина рано или поздно обнаружит свою природу, за которую так непросто уважать человека. Женщина умеет только приспосабливаться, что вызывает восхищение, но не уважение.
А нет уважения рано или поздно уходит и любовь.
Любовь держится иллюзиями, будто женщина сама по себе является носительницей достоинства.
Однако это не так. Женщина, увы, пуста. И так не хочется, расставшись с ней, возвращаться в свое одиночество, в свою мужскую пустоту – уже другого рода.
Но, видимо, таков удел умных людей, который обрекает их на то, чтобы обзавестись достоинством, ведущим в пустоту…
Пустота – вот вещество, которое тебя окружает.
…Но это дойдет до меня гораздо позднее, где-то к концу романа (который я тогда еще не начинал писать), когда я буду готов к началу новой жизни. И я вдруг осознаю (забегу-ка я далеко вперед, в самый конец: что мне мешает?), что мои правильные представления о женщине не совсем верны. Не совсем. Истина еще более глубока и запутана – что не отменяет ее фундаментальной простоты. Но это уже несколько другая история.
А в тот момент я даже не понимал, что досаждает мне серым оттенком – мелким гвоздиком в роскошных сапогах-скороходах – именно чувство печали.
При чем здесь сапоги-скороходы?
А при том, что я полетел, воспарил (мир – подо мной), наплевав при этом на все глубокомысленные чертежи Архимеда, доказывающие, что невозможное – невозможно, и презрев его паскудный закон всемирного тяготения. Или меня понесло. Раньше в подобных случаях было принято говорить – «у меня за спиной выросли крылья». Возможно, я сказал бы то же самое, если бы не мое врожденное недоверие ко всему летающему, порхающему, возносящемуся, особенно – к ангелам (Боже мой, посмотрите на меня: как мутировали люди! Раньше такое об ангелах можно было услышать разве что на самых задворках провинциального пекла, из уст вконец оскотинившихся демонов). Как только я слышу слово «ангел» (произносится, само собой, с придыханием и, в идеале, сопровождается мелькнувшей слезой во взоре – детской, детской!), мне хочется пожать руку несуществующему бесу, который, судя по всему, топает по земле в кержацких сапожищах, месит вековую грязь, честно отрабатывая свой ржаной хлеб с мякиной. По-моему, ангелы гораздо опаснее голубей; в лучшем случае эти белокрылые мутантики выродились в амурчиков (у них отрос сбоку бантик, то самое «черте что»), в худшем – в свою противоположность. Подать дырявые сапоги летающим легионам легенд, строго по размерам. Ать, два. Чтоб, не дай Бог, не натерло ножку. Не потому ли на земле так много зла, что вокруг снуют мириады этих легкокрылых созданий, которые при случае не прочь примерить сапожки в гармошечку а ля рус, тянущие – закон всемирного тяготения из каких-то соображений не отменяет сам Господь Бог – вниз?
«– Мама, кто такие ангелы?
– Это, доченька, такие маленькие, беленькие существа. С крылышками. Летают.
– Не кусаются?»
Устами дитяти… Слышал самолично.
Кстати, о законе всемирного тяготения. В принципе не имею ничего против. Он есть: тянет же. И тяготит, зараза. Однако почему никто не говорит о всемирном тяготении в том смысле, что бедного человека мир тянет в разные стороны, довлеет над ним с разных полюсов, концов и начал, и всемирное тяготение превращается в подлый всемирный, всеобщий раздрай? Призвание, женщины, алкоголь, деньги… Счастье, смысл жизни, истина… Достоинство, творчество, семья…
Чем всемирное тяготение лучше всемирного раздрая? Нас тянет к Земле, Землю вместе с нами – к Солнцу, Солнце вместе с нами и Землей – к Черной-Пречерной Дыре, Мать Ее Так. Вот, если угодно, современная модель всемирного тяготения – всех ко всему: Архимеду и не снилось. Почивал себе на трех китах. Ему хватило романа с яблоком, чтобы заполнить свою жизнь. Лишнее – отлить.
Но это так, к слову.
Итак, я полетел. На крыльях любви. Точка.
Ко мне пришло странное чувство – любовь, всеобъемлющее, дающее жгучее, ни с чем не сравнимое ощущение жизни как непрерывного праздника и содержащее в себе самом ростки острой горечи, пока еще пикантной приправы к основному блюду, которую (горечь-приправу) в полной мере – и полнехонькой ложкой! – придется вкусить тогда, когда самым чудесным образом сбудутся и не сбудутся надежды, оправдаются и не оправдаются веры и мечтания, – тайфун, камнепад на заре, когда сонный мир прекрасен и безмятежен. Любовь. Жизнь, заигрывающая со смертью. Здравствуй, река.
И кто сказал, что пройти через любовь и уцелеть – самое простое дело на земле? Заратустра?
Шарлатан, шарлатан, батенька…
Или – шайтан. Отставной шаман.
Закон всемирного тяготения интересовал меня лишь в том смысле, что меня безбожно тянуло к Марине. Я научился погружаться в ее глаза, задерживая дыхание, и своевременно выныривать из океана по имени Моя Женщина – без ощутимых признаков кессонной болезни. Далось мне это длительными тренировками. Я словно бы заново учился плавать. Любить.
И меня, естественно, все более интересовала «маринская впадина», величайшая в мире расщелина, находившаяся совершенно в другом месте, не там, где глаза.
– Нет, – говорила Марина, играя глазами. – Даже не думай.
Но глаза ее говорили не совсем то, что я слышал из ее уст, по которым плутовато бегала улыбка и пролетал иногда, дразня меня, сочный язычок.
Это было правильно и совершенно естественно. Я очень хотел, но я никуда не торопился: у меня в запасе был немалый опыт разочарований, и я не стремился пополнить его. У меня была другая цель: стать счастливым.
Опять отвлекусь. Это мое проклятье: конкретный эпизод или случай для меня интересен как проявление закономерности. Пардон. Так вот: с некоторых пор я понял: выжить – значит стать счастливым. Счастье – это, помимо всего прочего, еще и способ выживания. «Не до жиру – быть бы живу» – это не про меня. Это народ о себе, подтянутом. Я мог быть живым только становясь счастливым. Такая уж была у меня карма.
Жена моя делала все, чтобы я разочаровался в женщинах. От беспомощности она регулярно закатывала мне мощные истерики, которые делали ее правой, а меня – глубоко, до слез виноватым. К месту и не к месту звучало грозное слово «развод». Я стоял понурым истуканом – и это делало меня уже не просто по жизни виноватым, а – преступником. Разумеется, это развязывало моей жене руки, освобождало ее от всех обязательств и конвенций: она шарила по моим записным книжкам, выворачивала мои карманы, что-то вынюхивала и выдумывала. Лепила образ человека, с которым приличная женщина не может не развестись.
Хочешь узнать жену (женщину) – разведись с ней. Не хочешь?
Делай вид, что тебя все устраивает. Не узнаешь ничего. Всю жизнь будешь блуждать в сладких потемках. Приятного дао. Чао. Какао.
А вот Марина, играя глазами, делала все, чтобы я был очарован женщинами.
И я каждое утро начинал с молитвы: пусть моя Марина не сделает ничего такого, за что я не смог бы ее уважать. Пусть она не окажется обычной женщиной – слабой, беззащитной и оттого по праву беспринципной. Пусть она окажется какой-нибудь королевой. Ведь должны же быть где-то такие женщины! Почему не Марина?
Почему – эй, ты, к кому я там так малодушно обращаюсь?
Знаете ли вы, что мелочей в общении – нет? Именно. Нет. Все мелочи значимы – как проявления чего-то великого, которое надо суметь разглядеть. Одна мелочь, один штрих – и отношения «заболевают», напоровшись на экзистенциальный риф. Или, напротив, расцветают, благодаря мелочам, чуя семь футов под килем. Как говорится, «во глубине». С Мариной было легко и просто, и наши отношения были на подъеме, хотя существовал штришок (ого-гош!), способный испортить любые отношения. Она была женой другого.
Еще раз: она была женой другого.
То, что я был женат, мне как-то внутренне не мешало. Практически – наоборот: помогало. А вот она – «жена другого»…
В переводе на русский это словосочетание означало для меня: добро пожаловать в ад.
Объяснимся. Оказалось, что «жена другого» – это колоссальный удар по моему самолюбию. Но это еще далеко не все. Мое чувство к ней предполагало, кроме, само собой, ответного чувства, еще и готовность принадлежать мне безраздельно. И эта готовность в ней была – но в степени, скорее, убивающей меня, нежели воодушевляющей.
Могу, конечно, сказать и попроще, однако тогда мне не удастся передать саму суть наших отношений, состоящих сплошь из вязких полутонов, трудноопределимых движений души. В общем, мне интересно передать то, что есть, а прочитать можно все, что угодно.
Что такое «понедельник – день тяжелый» я понял только сейчас. Суббота и воскресенье (ласкающее слух горожан понятие, обозначающее 48 часов блаженства, – уикэнд) становились для меня просто каторгой. Для кого-то «уик!» – и уже «энд». А для меня тягучая вечность. Меня мучила – испепеляла – ревность. Она была с ним. Гоша звали его.
В понедельник я был измотан, эмоциональный спад был ниже уровня моря. Мне просто не о чем было говорить с Мариной, потому что о чем бы мы ни говорили, мы говорили о любви. И если не говорить о любви, то говорить не о чем. К среде я приходил в себя, к пятнице уже искрился (прилив) – чтобы в субботу вновь запустить программу самоедства. Понедельник – отлив.
И самолюбие было при мне, и гордость, и чувство собственного достоинства – и, проклятье, именно эти обостренные чувства складывались в любовь к ней, жене другого.
Наша, изволите ли видеть, ситуация перерастала в невозможный, противоестественный образ жизни.
Ее интимная жизнь на два фронта, не носила, конечно, характер предательства; однако самим фактом двоемужества она как бы не исключала возможность предательства.
На нее страшновато было безоглядно опереться. И вместе с тем с ней было так хорошо, что другие женщины просто не лезли в голову. У меня впервые в жизни появился железный критерий: любовь – это когда другие бабы просто перестают существовать. Мир клином сошелся на женщине, может быть, не слишком достойной этого. А более достойных не существовало.
Или, если угодно, вот еще одно определение: любовь – это такое блаженное состояние, когда ненависть и презрение к людям не мешают тебе жить. Мне презрение перестало мешать.
Что за законы у этой жизни?
Так жить было нельзя. А как? Существующее равновесие было сомнительного свойства, а нарушение его грозило чем-то еще более ужасным – катастрофическим.
Целый май я маялся. Помню ту майскую ночь, после которой что-то сместилось в моей душе, отчаянно искавшей путь к выживанию. Тучи, проливной дождь, гром и молнии. Звонко-сухой треск раскатов распарывал тьму небес, которые на глазах зловеще затягивались извилистыми подсиненными шрамами молний. После этого следовало тектоническое ворчание фундаментальных громовых отголосков в басовых регистрах – и снова отчаянный сухой треск на повышенных тонах. Быстрый дождь торопился излить непонятную тревогу, ведя какую-то свою партию.
И я в этом мире – один, неизвестно зачем.
В тот момент, когда на мне серой корочкой стал схватываться панцирь безразличия ко всему, в том числе и к собственной боли (форма защиты, что вы хотите: всемирная, то бишь, всеобщая анастезия), Марина стала моей. Не знаю, выбрала ли она этот момент с точностью до минуты или просто почувствовала: сейчас или никогда.
Это произошло на квартире у ее лучшей подруги (у женщин, как известно, бывают подруги лучшие и просто подруги, как таковые; состав и качество подруг весьма подвижны, и кто сегодня утром еще был никем, завтра в полдень или, например, о трех часах пополуночи, вполне возможно, станет лучшей; так бывает). В полнолуние.
Лучшая подруга Марины Александра, которая со своим меланхоличным бойфрендом Александром же еще вчера пыталась затащить Марину к себе в постель, так сказать, расписать треугольничек из двух блондинок и одного лысого (Марина потом сама расскажет мне об этом), сегодня уже с удовольствием предоставила свежее постельное белье и неухоженную квартиру в полное наше распоряжение. Что ни говори, а ближние наши, стоит отдать им должное, в лепешку расшибутся, но организуют тебе условия, которые комфортно обеспечат тебе рыльце в пушку. Ради рыльца в пушку на физиономии подруги – чистой простыни не жалко, не то что квадратных метров. Чужое рыльце в пушку заставляет, да, да, буквально заставляет смотреть на свои собственные грехи сквозь пальцы. Такой вот удивительно терапевтический зрительный эффект.
Спустя год Александра будет торжественно сочетаться браком со своим без пяти минут законным мужем Петром, флегматиком (меланхолика хладнокровно спишут в отставку – видимо, из-за дефицита врожденных нравственных качеств); спустя неделю они обвенчаются – а еще через неделю Марина получит от своей старой подруги, то есть молодой супруги, строгое и недвусмысленное замечание (согласованное, само собой, с главой семьи Петром): зачем, дескать, жить с Германном в гражданском браке? Это есть блуд, и больше ничего.
Марина отвела глаза – и в этот момент подруга стала бывшей. А что еще Марине оставалось делать?
Если не забегать вперед (от вредных привычек избавиться почти невозможно, поэтому я стараюсь извлекать из них пользу – делать некоторые из них, в частности, суетливые забегания, формой литературного мастерства) и вернуться в квартиру, главным украшением которой были свежие простыня, наволочки (две) и пододеяльник, то я должен сказать следующее. Правду, правду и ничего кроме правды. С тех пор интерьер моего персонального отсека рая представляется мне именно таким: свежее белье, легкий беспорядок и отсутствие кого бы то ни было на пространстве семидесяти квадратных метров (пардон, силы небесные, никого не хотел обидеть; если пожелания потенциального клиента для вас что-нибудь значат, то – таков мой идеал). Я и Марина в интерьере. Марина как разделась, так с тех пор я и не видел ее одетой – пока мы бывали вдвоем, в любом интерьере.
Сказать, что нам было хорошо…
Первый раз нам было неплохо. Ничего феерического – но с отчетливым ощущением, что у нас все будет иначе, чем было в первый раз. С ощущением большой перспективы.
Так оно и случилось (забегая на сутки вперед).
Не описать уже раздевшуюся женщину было бы неприлично. И нелогично. Все равно, что не замечать труп посреди комнаты (в хорошем – литературном – смысле этого слова). Разделась – описывай. Я не питал иллюзий по поводу исключительности ее данных. Скорее блондинка. Стройная. Хорошая фигура. Рост – как у меня, 171. Средняя внешность – можно было бы сказать и так. Но это значило бы ничего не сказать. Меня все устраивало настолько, что внешность ее сразу стала для меня исключительной. Правда, выяснилось это уже через сутки, после того, как мы второй раз оказались в постели.
Она же была голой? Следовательно, перехожу к подробностям. Я не очень понимаю, когда говорят «красивая грудь». Словно грудь существует сама по себе, отдельно от женщины – от ее воспитания, образования и темперамента. Даже если это и так, то «красивая грудь» и «грудь моей женщины, способная творить чудеса, когда уже кажется, что все иные сексуальные подсистемы выключены», – так вот, красивая грудь и грудь моей женщины, говорю я, это разные вещи. У Марины была красивая грудь, жаловаться и ей, и мне было бы грех; но в сочетании со всем остальным…
Разве это поддается описанию? Увы, поддается. Все на свете поддается описанию, вот в чем проблема писателей. «Не поддается» – это прием такой; значит, либо я кокетничаю, либо скромность демонстрирую, либо описывать нечего (а писатель об этом не догадывается), либо это и есть, собственно, описание. В зависимости от ситуации и контекста это может значить все что угодно. На то и читатель, чтобы ничего не понимать. Особенно в моем романе, который не для всех. То есть для себя самого. И мне подобных.
Просто чтобы описать грудь, надо описать все: все наши отношения до конца, и настоящие, и будущие, всю мою жизнь, жизнь моей страны, все тело и душу Марины. Словом – все. От рождества Христова. Это, кстати, касается не только груди, а – всего.
Хороший любовник не тот, кто знает, что полагается делать с женщиной, а тот, кто знает, что надо делать именно с этой женщиной именно в этот момент. Понимаете? Иногда я ласкал ее грудь кончиком языка (теперь я забегаю на год вперед), иногда я терзал ее своей ладонью, иногда касался сосков бедром, иногда…
Постель для тех, кто любит, – это ведь симфония. Все меняется, все течет, все подвижно, все стонет. Здравствуй, река. Попробуй, угадай, как сегодня карта ляжет. Иногда грудь играет первую скрипку (хотя конкуренция у нее – сами понимаете…), иногда ей можно доверить партию флейты-пикколо, а иногда грудь оказывалась в руках самой Марины, которая верещала по русалочьи, пока я общался с ее попой, и что там у них происходило, у Марины с грудью, – мне в точности неизвестно. Хороший любовник предпочитает не вмешиваться в подобных ситуациях. Деликатность прежде всего.
В этот раз описание неописуемого я почему-то начал с груди. Так получилось. В следующий раз доберусь и до «маринской впадины», если, конечно, не задержусь на моих любимых бедрах (могу ведь и уснуть на них) и преодолею упругую мягкость живота (котики мои морские!). А есть еще бока (ах, как она реагирует, когда я впиваюсь в них сильными пальцами – ни дать ни взять вылитый эвенк на собачьей упряжке, колесящий по всем северам!), которые мне нравятся не меньше груди. Славные бока.
А волосы? Длинные, густые.
О волосах хороший любовник…
Кажется, я уже говорил: самое сложное – это вовремя остановиться с женщиной. Так вот: стоп.
На следующий день после того, как я по-настоящему вкусил Марину (мы были вместе семь часов – далеко не рекорд, кстати), моя жена, ничего не зная об этом, подала, однако же, на развод. Что не стало эпилогом наших отношений. Более того, в каком-то смысле это был всего лишь пролог.
Обрушилось лето. Почему-то прямо – с полнолуния. Наверно, не календарное, а душевное, фактическое лето.
Полная Луна в тяжкой невесомости застыла над Землей. Создавался эффект нависания над душой – эффект присутствия кого-то, если не живого, то понимающего. Понукающего. Постороннего, испытывающего тебя сквозь набрякшие приспущенные веки. Невольно подергивало желание ежиться; трудно было удержаться от соблазна то и дело оборачиваться на луну, заглядывая ей в глаза.
Которых, как известно, у луны – нет.
2. Лето
Итак, Марина стала моей.
Мы переживали тот период любви, следующий сразу за нарядной конфетно-букетной стадией, который определяет все дальнейшие отношения влюбленных. Горячие слова, раскаленные чувства, поцелуи с пылу с жару, градус накала – невероятный. Собственно, полчища ромео, донов и жуанов останавливаются где-то на этой страстной стадии. Ибо дальше, кажется всем писателям и читателям, неинтересно.
Я так не думаю. Не думаю я так. Я мыслю, так сказать, cogito, совершенно иначе.
Согласен: потом чувства-страсти как-то бледнеют, и повторить то, что было, не получается. Задираешь голову на покоренную вершину – и не веришь сам себе. Ущипнешь себя раз, другой – не верится. С тобой ли это было? Согласен: кажется, что любовь ушла. Исчерпала свой ресурс. Пора переходить к следующей – не стадии уже, любви. Пылким галопом по многочисленным Европам. (Вот тут бы самое время прикусить язык, который после Европы потянуло на рифму. Можно ведь так неполиткорректно нарифмовать… Стоп.)
А любовь не ушла. То, что было, никуда не исчезло, оно осталось точкой отчета и вечным неразменным капиталом. Просто вспышка эмоций вначале была подобна солнечной буре, нервирующей вселенную своими протуберанцами.
После этого – ровное горение. Нормальное чередование циклов.
И ровное горение, обратим внимание, – это логическое продолжение протуберанцев, а не угасание.
Экзистенциальные всплески могут быть только кратковременными. Иначе не выживешь. Быстро сгоришь дотла. Да и потом… Постоянно жить на вулкане в режиме паранойи – скучно, куда скучнее, чем спокойно наблюдать вулкан со стороны (будучи всегда немножко в нем). Бурная любовь – краткая любовь. И если она продолжается, если от природы чувств дано столько, что с ними не справился кратер, то любовь становится обидно похожей на вялотекущий процесс.
Не верьте своим глазам, не видавшим любви. Средняя температура чувств любящей пары, которая складывается из самой высокой и «обычной», той, что в пределах нормы, всегда выше средней семейной по стране. Любовь не уходит. Она греет всю жизнь.
… И это тоже надо испытать в жизни. Если уж говорить о гармонии.
Казалось бы, сама стадия любви должна была сделать меня счастливым вопреки всем обстоятельствам. Так оно и было. Но!
Не спешите меня поздравлять. Про мужа забыли? Я – нет.
Дело не в том, что он был вообще, где-то там; дело в том, что он был для меня досадным ограничителем. Я почему-то не мог выражать свои чувства, которые стремились к безбрежности, в полном объеме. Мне всегда мешало наличие другого человека рядом с моей Мариной.
Конечно, я говорил об этом Марине. Ее реакция, как мне казалось тогда, была странной. На самом деле, как я понимаю сейчас, более чем естественной. Она смотрела на меня, гладила меня по щеке и говорила: «Подожди. Не торопись. Я все устрою. Ты должен верить мне».
А мне было обидно. И оскорбительно оттого, что Марина обидно не чувствовала моей обиды. Уровень и формат наших отношений (любовь, напомню) предполагал одну вещь: иного мужа, кроме меня, у Марины быть не могло. А он почему-то был, продолжал существовать и, складывалось впечатление, никуда не собирался исчезать.
Моя интуиция просто горевала: я опасался, что любовь устанет и обидится – из-за того, что естественным образом выражать себя ей запрещено. Мои чувства деформировались, корежились, словно несчастные дети компрачикосы, которых выращивали в бочках-маломерках, чтобы у них появлялся горб и прочие уродства. Нормальные дети никому не интересны, уродцы же умиляют всех, возбуждая сострадание.
Произошло парадоксальное: чем сильнее становилась моя любовь к Марине (а после наших бесстыдных свиданий я обожал ее до боли и до смерти) – тем невыносимее становилась каторга выходных. В понедельник – пепел в душе. Во вселенной гас свет.
В один из таких понедельников…
Нет, сначала о пятнице, той, что была накануне.
Пятница была незабываемой. Все. Никого не подпущу к моей Марине.
Все. Забудьте.
В один из гнуснейших в моей жизни понедельников я не выдержал и заявился к ней домой, чтобы выяснить отношения с мужем Гошей (кличка – не поверите – Го. Просто – Го). Произошло то, что неплохо описано в русской народной сказке про царевну-лягушку. Иван (кажется, так звали главного положительного героя, не Иван-дурак, а Иван-царевич) поторопился – перестал слушать ее неубедительное бормотание с неизменным ключевым словом «завтра» и сжег ее бугристую, отвратительно мокрую лягушечью шкурку (я, кстати, отлично его понимаю). Я, добрый молодец, легкомысленно усвоил, что сказка ложь, да в ней намек, из которого не грех бы извлечь урок (так сказать, поучиться на ошибках других); но я и не предполагал, что намек реален до такой страшной степени.
Ох, уж эти сказки… Наши университеты. Каждая есть ложь (молочная река – мэйнстрим) с кисельной правдой по берегам. Мне и сегодня кажется, что приличные роман или сказка отличаются от жизни только одним: сначала события происходят в романе-сказке, а затем в жизни. Но это к слову, опять же.
Марина с Гошей собирались разводиться через неделю. И, что принципиально, не из-за меня – не из-за возлюбленного, по одной версии, и любовника жены, по другой. Как я сейчас понимаю, Марина не подло, а тактично и тонко вела игру с человеком, который ревновал ее ко всем, и в первую очередь – к себе. Вот почему не вести игру в ее ситуации было невозможно. Любовь (будь проклят этот тяжеловесный стиль божественных длиннот, регулярных отступлений!) вообще штука не очень чистая – и потому чрезвычайно сладкая. Нектар на основе яда. Выбор в любви осуществляется по законам рынка. Бескорыстные сердца, изнывающие буквально неземной любовью, играют на слабостях друг друга, выбирают, взвешивают, торгуются – после чего не без мук совести (последствия счастливого детства и нормальной юности) кутаются в белоснежное платье, которое окружающие, по правилам игры, принимают за символ чистоты. Рынок – борьба интересов! – универсальный механизм человеческих отношений, поскольку в их основе лежат брутальные экономические отношения. К концу романа (уже написанного) я усвою это окончательно и бесповоротно. А вот на данном этапе своей жизни я все еще колебался, сомневался, белый цвет легко вышибал из меня слезу (надеюсь, меня не попутали лукаво ассоциации с саваном). Я даже пытался не уважать себя за свои сомнения. Последствия вдумчивой зрелости.
Сейчас я думаю так: все бы хорошо и правильно, если бы не одно «но»: рынок любви – это унизительно для личности. Оставаться с унизительной иллюзией, что рынок можно отменить?
Конец отступления. Стало быть, вопрос повесим в воздухе. На полях романа. Там, где Пушкин гирляндами помещал женские профили.
Нам неслыханно везло: мы выбирались из катастрофы, отделываясь легким испугом. Опять же: ни в сказке сказать, ни пером описать. Наилучший сценарий. Лепота. До счастья с белыми кружевами оставалась неделя. И тут на сцену явился я…
Весь в белом, как положено (в тон побледневшему лицу Марины). С белыми же цветами – букетом больших ромашек. Дескать, прошу руки вашей непорочной жены.
– Опаньки, – сказал Гоша. – Стояночка. Ты кто будешь, ёлопень?
– Герман мы, – отвечал я как ни в чем ни бывало.
– Уходи немедленно, – без выражения, мертво сказала Марина – с самым жутким выражением которое я только знал.
– Стояночка, – оборвал ее муж. – Пошла вон.
Марина, чему я удивился несказанно, покорно вышла вон, плотно затворив за собой дверь.
– Садись, – скомандовал хозяин дома. – Водки?
– Не откажусь.
– Гоша, – он протянул вперед не руку, а стопку водки – стаканчик из толстого стекла, обвитый клешней. – Для друзей и для врагов – просто Го. Был такой китайский мудрец. Основоположник школы боевых искусств. Учитель.
– Герман, – встретил я его выпад полной чаркой.
– За знакомство, – сказал он, тут же наливая по второй и нимало не интересуясь моим самочувствием.
Наши увесистые стопки звонко чокнулись лбами.
– Теперь за любовь?
Я молча протянул пустой стопарь. Дескать, наливай: за любовь – всегда готов.
К полуночи (на небе вновь царила полная луна) мы выпили с ним три бутылки водки «Русский стандарт» – рюмка в рюмку, под символическую закуску (пресное, бледными ленточками порезанное мясо крабов в глубокой пиале – заготовка для салата). Марину на кухню он не пустил – шуганул, как нашкодившую кошку.
На лице Гоши выделялись как-то смутно, вообще знакомые (штрих типажа) набрякшие, приспущенные веки. Из-под которых – тяжелый, просто давящий на мозжечок, грудную клетку или куда там придется, взгляд. Казалось, что взор с укором – сбивает с ног: хотелось пятиться до какого-нибудь упора.
Возможно, именно этот дубина-взгляд и спас меня от позорного опьянения: я захмелел крепко, но не безнадежно, всячески сопротивляясь тотальному прессингу. Интонации, жесты, вопросы, бесконечные истории – все было то ли вызовом, то ли провокацией, то ли угрозой. Он все время меня испытывал, брал на излом. Ни слова в простоте душевной – и ни слова о Марине.
– Ты на Севере был?
Это он – мне.
– Не был. Вреден север для меня.
– Значит, не знаешь, как люди друг друга едят?
– Думаю, так же, как и на юге.
– Стояночка. Значит, не знаешь. Так и говори: не знаю. Не видел. Я тебе сейчас расскажу…
– А как ты на Север попал?
– А ты не знаешь, как на Север нормальные люди попадали при советской власти? Не по своей воле, старичок. Кое с кем кое что не поделил. Он – за нож, я, бля, тож, меня ж так просто не возьмешь… Слушай, как люди поедают людей и не перебивай…
Потом он рассказал, как участвовал в дуэли на мотопилах с бугром, старшим (бригадиром?) в геологоразведочной партии, с которым они не поделили бабу, жену бригадира оленеводов.
– Так чем все кончилось?
Это я интересуюсь.
– Я живой, как видишь.
– А твой соперник? Старшой?
Гоша рассмеялся так, словно видел перед собой не человека, а корявый симулякр, тень придурка.
– Хочешь, расскажу, как я наступил на живого лося?
– Расскажи. Ты его потом съел?
– Дурашка. Лось – это не человек; его убивать грешно. А есть можно: вкусный, зараза.
В процессе общения выяснилось, что Гоша – владелец рекламного агентства, начитанный и напичканный разного рода информацией господин, увлекающийся всеми современными видами спорта. Нырять на немыслимую глубину, прыгать с парашютом, с тарзанкой, падать камнем вниз с дельтопланом, сплавляться по реке, охотиться, горы, джунгли, пустыни, змеи – кобра, гюрза, анаконда… Пауки каракурты, опять же. У меня зарябило в глазах.
– Ты полагаешь, что смысл жизни – адреналин? – спросил я.
– Что? – Гоша демонстративно раскрыл рот с не дожеванными кальмарами. – Нет, я полагаю, что смысл жизни – это выдумка таких, как ты, Достоевский, мешающих нормальным людям жить полноценной жизнью.
– Полноценной – это непременно прыгать с тарзанкой? Искать приключений на собственную задницу – то есть бежать от головы и сердца?
– Почему – бежать?
– А почему ты боишься заводить детей? – спросил я, хотя ничего не знал о его отношении к детям. – По-твоему, мир устроен так паскудно, что в нем нет места детям – чистым существам? Ангелам? Ты не веришь, что человек отличается от скотины?
Вот тут впервые за весь вечер в его не меняющемся взгляде промелькнуло что-то вроде уважения. Я легко и просто разгадал его большую тайну.
– Ты шаман? Да? Нет? Обучен таинствам вуду? Жаль. А знаете ли вы, корнет, кто такой паскуда? В моей библиотеке тысячи словарей и справочников. Брокгауз и Эфрон. Ницше, Вальзер, Улицкая, Эльфрида Елинек – последнюю настоятельно рекомендую. «Пианистка» – это песня. Вся культура мира у моих ног. Так вот, паскуда – это…
– А почему ты назвал меня корнетом?
– Разве я назвал тебя так? Не припомню.
– Неважно. Продолжай.
Паскуда, как выяснилось, – это уже из реалий древней Индии; по поверьям индусов, а может, не индусов, сейчас помню смутно, а словарей под рукой не держу, девочки и молодые девушки не могли уходить в мир иной девственницами. Не познавшими мужчину. И если такое все же случалось, семья трагически усопшей вынуждена была прибегать к услугам специально обученного человека, который мог помочь в этих, казалось бы, безнадежных и вместе тем деликатных обстоятельствах.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































