Текст книги "Гармония – моё второе имя"
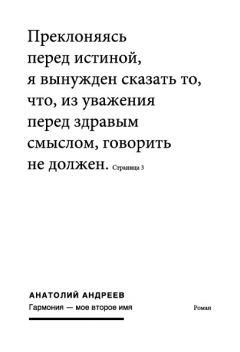
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Симфония – это не наши домыслы. Как только Родя окажется в кругу любящих его матери и сестры, но с «царством рассудка и света» за пазухой, – душа будет упорно скорбеть и противиться этому «царству». «Успеем наговориться» – сказал Родя матери; и «вдруг» – «одно недавнее ужасное ощущение мёртвым холодом прошло по душе его»; он в очередной раз уразумел, что он «отрезан», «что не только никогда теперь не придётся ему успеть наговориться, но уже ни об чём больше, никогда и ни с кем, нельзя ему теперь говорить».
Ни с кем – за исключением Сони.
Об этом в следующей главе, а сейчас отметим, что в сценах, подобной той, где восстанавливается пошатнувшееся «царство рассудка», проявляется высшее мастерство Достоевского, которому с удивительным правдоподобием удалось совместить в душе героя его правду и правду повествователя. Иначе говоря, правду психики и правду «математического» (одномерного) сознания. Причём это именно писательское мастерство, а не только великий дар психолога. Впечатляет именно умение выразить невыразимое, а не умение понять человека. Человека Достоевский как раз не понимает, а мистифицирует.
3. Эпистолярный жанр
Я получил от Марины письмо. Странно: если разговоры не помогают, люди начинают писать письма. А если не помогают письма, последняя надежда: роман. Только вот письма пишутся друг другу, а роман – едва ли не послание самому себе.
Интересно устроена наша душа. Собственно, желание разобраться с душой, понять ее и делает человека человеком…
Марина – мне
Сначала я вставил письмо Марины (целиком и полностью), датированное 06.11.07.
Потом убрал его. Без комментариев.
Потом без комментариев вставил опять.
Сейчас сижу и не знаю, как мне быть.
Вот это я, пожалуй, прокомментирую.
Когда я читаю письмо Марины, меня всегда охватывает одно и то же чувство: мне, чтобы не разрыдаться, хочется разодрать весь роман в клочки и пустить их по закоулочкам.
Я неизменно бываю потрясен.
Именно из-за этой невероятной силы воздействия я и хотел вставить письмо Марины в роман.
Но именно письмо Марины заставило меня осознать: что-то мешает роману становиться продолжением жизни, и наоборот.
Странно: я ведь стремился именно к их слиянию, ради этого, собственно, и роман писал.
Ах, Марина, Марина, с тобой одни проблемы…
Я – Марине
Письмо – это такой жанр, где сначала подумаешь, а потом скажешь; с другой стороны, можно подумать и в процессе письма, а можно позволить себе даже такую роскошь: не задумываться. Это ведь не роман.
В общем, это жанр, который можно назвать «поиски ответов». Размышления. Разборки с собой, в которые ты посвящаешь только одного человека.
Мой любимый, родной человек, моя славная, нежная девочка!
Все, что ты сказала мне в своем письме, как всегда, тонко, тактично. Какое пронзительное, душевное и умное письмо!
В нем сказаны вещи, которые мы рано или поздно сказали бы друг другу, но о которых я пока избегал говорить. Считал, что не пришло время.
Я по-прежнему считаю, что оно не пришло, но молчать сейчас хуже, чем говорить.
Вот какая сложилась ситуация. Я всегда буду виноват – и перед тобой, и перед женой, и перед детьми, и перед своими родителями, и перед твоими, и перед собой, и перед общественным мнением, и перед кем угодно. Список можно легко продолжить.
Дело не в какой-то моей особой, небывалой чуткости и совестливости, а в том, что я объективно оказываюсь слабым звеном. Когда ты делаешь мне мягкий, но убийственный упрек в том, что я предаю любовь, ты совершенно права. Потому что сейчас – ты слабое звено. Ты вынуждена защищаться, бороться и приводить убийственные аргументы. Если смотреть как-то уж совсем со стороны и оценивать ситуацию по формальным признакам, что ли, то есть оценивать, в основном, ситуацию, а не людей, в нее попавших, то получается что-то вроде предательства. Выбрал семью (прикрываясь чувством долга) – отказался от любви. Банальная история.
Жена, как только она окажется слабым звеном, не задумываясь изо всей силы сделает мне не менее убийственный упрек в предательстве – и будет права не менее твоего. Как только я, положив на тебя жизнь, постарела, заболела, стала не нужна – ушел к молодой. Эгоистически выбрал любовь (прикрываясь высокими словами о высоких чувствах) – бросил семью. Банальная история.
Сын может сделать мне убийственный упрек в предательстве – и далее по списку. Сила слабых звеньев в том, что у них всегда есть наготове пилюлька с ядом для тех своих ближних, которые потенциально могут превратиться в очередное слабое звено. Так устроен человек. Это нормально. Не собираюсь давить на психику и оперировать сентиментальными аргументами (все время старался уберегать тебя от этого), однако реальность следует представлять себе правильно.
Я объективно не могу не чувствовать себя виноватым. Вот почему я не собираюсь оправдываться (это бессмысленно), я пытаюсь объяснить. Если угодно, это мой способ защиты – способ защиты слабого звена.
Когда я говорил тебе, что не испытываю чувства вины, то имел в виду конкретную ситуацию (ту, что сложилась у меня дома, когда тебя забрали из больницы), а не нашу ситуацию в принципе. По поводу нашей ситуации я как раз испытываю просто прибивающее меня чувство вины. Но если я стану извиняться перед тобой за это, то испытываю чувство вины за какой-то ложный жест: это не тот случай, когда «извинения были смиренно предложены провинившейся стороной и были благосклонно приняты стороной пострадавшей». Извинения превращаются в пустую болтовню.
Поэтому к черту расшаркивания (к черту подробности, как любит кто-то говорить), далее только по существу.
Знаешь в чем моя главная слабость (которая при определенных обстоятельствах может превратиться в силу)?
В том, что я не умею предавать. Когда я узнал, что у нас появится ребенок, я понял: я не в силах отказаться ни от тебя, которая становилась моей семьей, ни от моей семьи, которая никуда не исчезала. Дай бог здоровья всем моим близким. Я знал, что выбираю путь, который мужчины практически не выбирают. Разве что единицы. Я знал, что выбрал тупик – так ведь у меня и выбор был только из тупиков. Мне жутко было представить, сколько всего не совместимого с жизнью и здоровьем ожидает меня впереди.
Дальше стали происходить вещи или процессы, которые сложно было спрогнозировать. Что-то в душе моей стало скукоживаться и усыхать. Я странным образом перестал испытывать чувства. Любые. Чувства, эмоции стали как-то отмирать. Я даже бояться устал – за тебя, за себя, за всех. Стало утрачиваться чувство самосохранения. Держался исключительно на чувстве ответственности и долга. На морально-волевых. Так надо – и точка. Здесь нечего рассуждать. Будь что будет.
Когда ситуация поменялась – и не ты, и не я тому виной – я не испытал чувства облегчения. Скорее, испытал опять что-то непредвиденное: я сдулся и опустошился еще больше. Светлых перспектив не появилось; появился некий новый сюжет.
Я не сразу понял, что пустота и есть мироощущение слабого звена (которое продолжает считать себя порядочным). Сегодняшний мой выбор не между любовью и семьей, как тебе кажется; нет, Маринка. Я как любил тебя, Мой Заяц, так и люблю. Я ни разу не произнес слов, не оплаченных чувством. Вот почему я начал письмо с такого обращения к тебе: мне легко говорить эти слова, потому что это правда. Но сейчас главное перестает быть главным; сейчас надо думать о другом.
Мой выбор – между жизнеспособным и гибельным вариантом. Понимаю, большой соблазн сказать мне, что я «разумом придавил чувство и отказался от любви». Выбрал семью – предал любовь. Да ни от чего я не отказывался; наступил тот предел, когда обострилось чувство ответственности, требующее принимать решение с помощью разума. Решение дается мне настолько тяжело, что просто бессмысленно говорить о том, что оно правильно. Боюсь, оно единственно возможно. Ты меня знаешь. Я не из тех, кто выбирает заведомо гибельные варианты. Это проявление той слабости, маскирующейся под святой романтизм, которую я терпеть не могу.
Остается вариант жизнеспособный.
Надеюсь, ты понимаешь разницу между душераздирающей попыткой выяснить, кто и насколько виноват и трудным признанием «так сложилась судьба». У меня не хватит ни физических, ни психологических, ни, в конце концов, материальных ресурсов (что только усугубит дефицит физическо-психологической поддержки) жить на две семьи в режиме слабого звена – вечно и перед всеми виноватого. Я, конечно, маргинал, но не настолько же. А объективно это будет только так и никак иначе. Как любит повторять кто-то, не питайте иллюзий.
А сделать тебя слабым звеном («вечной любовницей») со всеми вытекающими отсюда последствиями… Честнее и гуманнее (пардон за пафос) отказаться от тебя, Мое Солнце. Хотя я вовсе не собираюсь отказываться от тебя; я вынужден отказаться от иллюзии жить с тобой.
Выбрать любовь… А ведь я ее выбрал, Заяц. Я предчувствовал, что выбираю долю слабого звена, и все же пошел этой дорогой – тупиком, ведущим к счастью. И было бы ложью сказать, что я жалею об этом.
Во всяком случае, я так себе это представляю.
Надеюсь, сказанное выше дает мне человеческое право произнести следующее. Точнее, не «сказанное выше», а наши отношения. Мне кажется, наши отношения – гарантия честности, гарантия чистоты наших будущих отношений.
Ты говоришь, что не сможешь жить без меня. Я тебе, конечно, верю. У меня нет причин и оснований хоть капельку сомневаться в твоих словах. В сию минуту ты права. Но думаю, ты ошибаешься. К сожалению (к счастью?), у человека достаточно сил, чтобы пережить то, что, кажется, пережить невозможно. Ты выживешь без меня. Я буду выживать без тебя. Я верю, что ты, моя девочка, гораздо сильнее, чем кажешься себе сегодня. Я просто убежден в этом.
Я не собирался предлагать тебе «не разводиться с мужем или что-то в том роде». Но в ситуации выживания на ситуацию развода можно посмотреть и по-другому. Никто тебя не осудит. Я в том числе. Ты говоришь: «не трать усилий», то есть не уговаривай принимать какие-то банальные решения.
Эти решения банальны для банальных людей. У людей приличных и глубоких содержание банального решения всегда небанально – настолько, что оплачивается банальной кровью. И стервой не обязательно становиться: приличному человеку и выживать легче, и жить комфортнее.
Я не уговариваю тебя; я излагаю свой взгляд на проблему.
Ты просишь прощения. Мне не за что прощать тебя, Моя Радость.
Прости меня.
Сейчас позвоню тебе. Ты, вероятнее всего, на работе. Так приятно осознавать, что ты где-то рядом, моя девочка. Целую тебя. До встречи.
08.11.07
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
12
Расстановка внутренних и внешних сил в эпопее «раскола» в общем-то уже понятна. Какая роль отводится в этой битве кроткой, тихой Соне?
Всё просто: Раскольников хочет втянуть Соню в свою наполеоновскую возню, с математической ясностью доказывая ей, что она такая же преступница, как и он. Она, вольно или невольно, совершила преступление против «живой души». Как же она несёт наказание?
Раскольников и здесь ставит своеобразный эксперимент: как она, не вооружённая теорией, вообще обходясь без поддержки разума, находясь вне царства рассудка, собирается жить, просто жить, не умирать? Быть преступницей (то есть своего рода сверхчеловеком, ибо преступление совершено было осознанно, «по совести») – и отвергать саму идею преступления?
Что-то здесь не так.
Но математика-то в случае с Соней и буксует, даёт сбой. Под сомнение ставится вся теория Раскольникова…
Преподносится этот ребус в ребусе, конечно же, фатально и инфернально, с заламыванием рук, вскрикиваниями, «невыразимым волнением» и «ненасытимым состраданием». Иконописная, знаковая поэтика (этакий муляж натуральной художественности) – утомляет и раздражает претензией на псевдозначимость и мнимую глубину. Знаков чрезвычайно много, ориентироваться в них несложно, но обилие информации, в них заключённой, создаёт ненужный информационный шум, поддерживая и нагнетая состояние истерики. Знаков много, а роман, повторим, пустой. Феномен поэтики Достоевского – совершенное воплощение весьма далёкого от совершенства взгляда на человека; стиль Достоевского – совершенен и виртуозен, но степень художественности его лучшего романа заметно уступает лучшим творениям Пушкина, Л. Толстого, Чехова.
Посещение Раскольниковым Сони обставлено, как вояж в Мекку.
Дом, в котором Софья снимала комнату у портного Капернаумова, был, понятное дело, трёхэтажный и зелёного цвета (весь же роман мономански отделан уныло-назойливым, болезненным жёлтым цветом; вот и в комнате у Сони обои желтоватые). Вход к Капернаумову обнаружился «вдруг», «в трёх шагах от него, отворилась какая-то дверь».
В одиннадцать часов пришёл Раскольников («я поздно…»), что вызвало бурю пророческого восторга с библейской начинкой со стороны крайне религиозной Сони. И т. п.
Вся эта искусственная, мёртвая (потому что знаковая, а не образная) поэтика порой превращает роман в богословский трактат. Прибавьте сюда нескончаемые идеологические диалоги, смысл которых утомительно однообразен, как «жёлтый цвет»: раз за разом, словно капля камень (в романе образ бездушного камня, знаково спрятанного в имя «Пётр», – по гречески Пётр и есть камень – очень значим), подтачивать основы «царства разума», обнаруживать нечто, ускользающее от разума, дразнить разум, показывать ему язык.
Короче говоря, смысл всех «испуганных и безотчётных» слов и жестов слился для Раскольникова (а это и было задумкой и высшим торжеством повествователя) в символ «всего страдания человеческого», которому он, «как совсем сумасшедший», «вдруг» поклонился, да при этом поцеловал её ногу. Что так растрогало Родю?
Формальная логика Раскольникова действительно напоминает логику сумасшедшего, ибо один какой-то (тот, который «болит») фрагмент реальности отражён здраво, а в целом картина безбожно искажена, поэтому с его логикой невозможно спорить: в неё можно только верить или не верить. По правилам этого способа мыслить противоречие легко преодолевается, если ты веришь, и странным образом превращается в ошибку, если ты взялся размышлять. Сумасшедший всегда прав.
Сама Соня как продукт схоластического воображения повествователя схоластически же, даже как-то «алхимически» интерпретируется болезненным сознанием Раскольникова. Нормальных читателей просят всерьёз не беспокоиться. Манипуляции же Родиона Романовича, фантазии и импровизации мысли приводят к диким и уродливым комбинациям, подозрительно смахивающим на правду. К сожалению, он, по замыслу автора, склонен верить в логический бред. Будем отделять зёрна от плевел – работа рутинная и скучная, если ясно понимаешь, чем одно в принципе отличается от другого. Раскольников восторженно недоумевает (а повествователь тем самым намекает на присутствие некой божественной непоследовательности или последовательности высшего порядка): «(…) как этакой позор и такая низость в тебе (речь идёт о жёлтом билете Сони – Г.Р.) рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!» Наполеону с его рационалистически устроенными мозгами не понять… Тут думать надо. «Что же поддерживало её? Не разврат же? Весь этот позор, очевидно, коснулся её только механически; настоящий разврат ещё не проник ни одною каплей в её сердце: он это видел (…)».
Если удержаться от улыбки и отвлечься от чувства неловкости, которое всегда испытываешь, общаясь с умственно неполноценными или душевнобольными, условную, умозрительную проблему можно условно считать «неразрешимой» загадкой. Раскольникову, разумеется, необходима разгадка. «"Ей три дороги, – думал он, – броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом, или… или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце". Последняя мысль была ему всего отвратительнее; но он был уже скептик, он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее».
Эта последняя фраза – самое трезвое и здравое из всего, написанного в романе. Веришь в то, во что хочешь верить, а отвлечённый ум, выступая слепым исполнителем души, соорудит тебе любую оправдательную концепцию, жестоко логичную. Если бы из духа и смысла этой фразы родился роман, это был бы иной художественный мир, иная модель. Но мифы жестокого, потому как отвлечённого, скептика повествователю угодно было сделать «реальностью» романа.
Скептик, в конце концов, получил то, зачем пришёл, и был, как водится, предельно обескуражен. Конечно же, он «предчувствовал», и сбывшееся наяву – посрамление скептика. Четвёртая, тайно учтённая, но не озвученная даже во внутреннем монологе, дорога Сони явно смутила нераскаявшегося преступника. «– Ты очень молишься богу-то, Соня?» (…) «Что ж бы я без бога-то была? – быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку».
«"Ну, так и есть!" – подумал он". (…) "Так и есть! так и есть!" – повторил он настойчиво про себя." "Вот исход! Вот и объяснение исхода!" – решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая её».
Сцена завершается более, чем логично: «юродивая», по впечатлению Раскольникова, Соня читает по просьбе Родиона про воскресение Лазаря. С чего бы это? А «вдруг». Новый Завет, чтоб уж было ещё «страннее и чудеснее», был принесён убитой Родионом Лизаветой, тоже «юродивой». (Между прочим, Елизавета – «почитающая Бога» (евр.): вот куда целил Раскольников, когда он сначала теоретически, а потом и практически убивал «тварей дрожащих».) «Тут и сам станешь юродивым! заразительно!» – безвольно сопротивлялся он чарам божественных знамений. На четвёртый день после преступления, из четвёртого Евангелия, о сути четвёртого пути: «ибо четыре дни, как он во гробе». «Она энергично ударила на слово: четыре». Лазарь, как известно, воскрес. Какие ещё нужны доказательства в пользу веры? «Убийца и блудница» лихорадочно трепещут над священным текстом: тут без диалектики явно не обойтись. Впрочем, «диалектичен» (то есть «полоумен», на взгляд Сони) оказался лишь Раскольников. (Соня с её единственным аргументом «бог не допустит» была одиозно ортодоксальна и, к её чести, «антидиалектична»; точнее, она «не удостаивала» быть диалектичной.) Он объявил Соне, что им теперь идти «по одной дороге». Для Раскольникова «Новый Завет» и был исходной точкой и оправданием преступления. Именно ради спасения детей, «образа Христова», надо идти на преступление. «Надо же, наконец, рассудить серьёзно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что бог не допустит!» А рассудить серьёзно – значило: «Свобода и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!»
Вот куда заводит диалектика.
С другой стороны, свяжите предчувствия Раскольникова («Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе (об убийстве – Г.Р.) (…), когда ещё Лизавета была жива») и его «полоумные» идеи…
Без диалектики вновь не обойтись.
4. Вселенская сирота
Одиночество вдвоем: вы что-нибудь знаете об этом?
Вот опять же: по-доброму, я желал бы вам ничего не знать об этом; но с другой стороны, если вы ничего не знаете об этом, вы напрасно прожили жизнь. Выбор, как говорится, за вами.
Думаю, что одиночество вдвоем – это тоже формула гармонии.
Отказаться от прошлого – значило получить такую пробоину в бок, после которой смешно было думать о выживании; а отказаться от будущего, которое рано или поздно станет твоим прошлым, тоже не было сил.
Когда человек не может ни уйти, ни остаться, это еще не гармония; это пародия на золотую середину. Я чувствовал себя виноватым перед всеми; иногда именно это делало меня правым в собственных глазах. И на этом, как говорится, спасибо.
Но проблема, как я ее понимал, не сводилась для меня к уходу от одной женщины к другой. Прежде всего это была проблема приближения к себе, проблема реализации человеческой сути. Меня нервировало и злило то обстоятельство, что я в такой степени оказался человеком долга. Не человеком свободы, свободной совести и свободного разума, а человеком долга, черт бы его побрал. Что-то патриархальное и доисторическое въелось в мои поры и сидело во мне приросшей плотью. Я никак не мог вытравить из себя человека коллективного, которого ненавидел всеми фибрами души. Одно бессознательное во мне ненавидело иное бессознательное. Высокое и большое чувство долга делало из меня маленького человека.
Вперед, к любви и новой жизни: чем не стимул и девиз?
И такое светлое будущее омрачало настоящее. Я просто не мог решиться на выбор, ибо необходимость выбора в сию минуту превращала меня в несчастнейшего из людей, у которого есть гораздо больше, чем нужно простому смертному.
Как быть? Как? Кто знает?
Все ответы, которые могли предложить мне люди, могли проистекать исключительно из чувства долга и смирения. За счет приспособления. За счет урезания собственной сути. Никто не мог решить мою проблему; никто даже не видел здесь проблемы. Неправда, что люди боятся сложных, неразрешимых проблем. Они научились сосуществовать с ними, приспосабливаться к ситуации, когда приходится жить с тем, что выше твоего понимания. Это не труднее, чем пуделю научиться семенить на задних лапах.
Я же хотел непременно решить неразрешимую проблему; мне надо было не только чувствовать себя правым, как какой-нибудь нелепый шаолиньский монашек, имеющий на все каменно-туманные предписания, но и понимать, что я действительно и бесповоротно прав. Тысячу раз прав. Без этого я не мог быть счастлив. Без этого о гармонии можно было благополучно забыть. Поставить на себе крест – в самом христианском смысле этого выражения. Кранты.
Моему одиночеству могла помочь только Марина, которая ничего не смыслила в природе этого одиночества. Мое одиночество усугубляла жена, которая цеплялась за жизнь только ради меня.
Добро пожаловать в мою шкуру, где никогда не бывает тесно, где всегда просторно и светло – в этот рай на земле, в котором хочется удавиться от избытка счастья.
Мне предстояло справиться с моей задачей. Иных вариантов моя стратегия не предусматривала. И дело отнюдь не в жалкой молитве «победить – или умереть». Это ратная инструкция. Самурайские мотивы. Такого рода тату встретишь на жопе каждого второго зека. Для меня жить означало побеждать, то есть понимать. Победа была способом моего существования. А поражения я уже давно умел превращать в победы. Но вот я чувствовал, что могу потерпеть такое поражение, которое пережить буду не в силах.
«Ты оказался не моим мужчиной»… – сказала Марина. И, выдержав паузу, резанула: «Ты по-человечески скукожился, поэтому и поступил так со мной».
Это все, что я запомнил из нашего последнего разговора.
Она меня отпускала. Я от нее уходил. Однако фатальная правота обоих вела, почему-то, к мазохистской гармонии: чем больше обострялись страдания – тем больше усиливалась любовь.
На каждого мудреца довольно простоты. Согласен. Однако чего стоит простота без мудреца? На каждую простоту необходимо посмотреть глазами мудреца.
Как быть?
Как?
Кто знает, эй, вы, на палубе?
Да люблю я вас всех, люблю, и лучше доказательство тому – моя любовь к себе, одному из всех. Иначе возился бы я столько со своим романом…
Последнее письмо Марине
Сделаем поправку на то, что слова, выражающие мысли и чувства, приблизительны, грубы и не всегда выражают то, что я чувствую. И понимаю. Я чувствую боль, разбавленную счастьем. Я понимаю, что наивно рассчитывать на понимание.
И все же… Слова – это последнее, на что я могу рассчитывать.
Письмо умного человека, который любит
1. Я тебя люблю.
2. Я прекрасно понимаю твои чувства и эмоции, и вот как я их вижу и воспринимаю.
В тебе говорит здоровая потребность иметь здоровых детей и, следовательно, здоровую семью. Возможно, в тебе это женское естество говорит особенно громко. Виват. Это в порядке вещей, это нормально. Здесь правит здоровый эгоизм. В принципе – это капитал женщины. Ничего не имею против. Более того, если бы это было не так, я б насторожился, и мне это вряд ли бы понравилось. Такая потребность – корень всех твоих очарований. Ты и полюбила меня как человека «из твоего будущего», который очень подходит тебе. В моем лице ты полюбила свое будущее. Как нормальная женщина. По своему ты права.
Словом, здесь нечего обсуждать; тебе не в чем оправдываться, а мне глупо предъявлять претензии.
Я (по разным причинам: сейчас не в них дело; если интересна моя версия причин – см. пункт 5) оказался не тем человеком, который стал бы гарантом твоего женского будущего.
Конечно, в тебе вспыхнула обида. И боль. Это более чем нормально. «Злые люди доброй киске не дают украсть сосиски…» (шутка). И, вольно или невольно, ты творишь нечто, по ряду признаков напоминающее банальную месть. (И это естественно – но тут уже к тебе возникают человеческие вопросы…) А как можно отомстить мне, человеку, которого ты не можешь не чувствовать?
3. См. пункт 1. Поэтому сделать мне больно – нет ничего проще. Для этого надо всего лишь убрать твою любовь ко мне. Абсолютизировать свою обиду. И ты сделала это настолько виртуозно, что я до сих пор не знаю, плакать мне или смеяться. На всякий случай делаю и то, и другое. «Ты оказался не моим мужчиной»… Дьявол отдыхает, солнце мое. Попала в самую точку. Больнее могло быть только то, что ты произнесла сразу же вслед за этим: «Ты по-человечески скукожился, поэтому и поступил так со мной».
Иными словами, я и не мужчина твоей мечты, да к тому же человечишко так себе.
4. Больше всего меня поражает во всем этом одна вещь: где твоя любовь ко мне? Ты меня любишь или ты любила меня как мужчину (не того), потенциально имеющего отношение к тебе? Кончилось это прогнозируемое отношение – и чувства твои ко мне пропали? А где же «я вас люблю, к чему лукавить» (не шучу)? Я – тот или не тот? Или для тебя это не имеет значения?
Скажу по-другому, если так понятнее: кошмар в том, что я не чувствую твоей любви. Она словно взяла и прекратилась. Краник закрыли. Все ушли на фронт. Бе-е-е…
5. Если ты думаешь, что я пытаюсь себя каким-то образом выгородить, то ты глубоко ошибаешься. Боюсь, ты можешь понять меня превратно, но все равно скажу. Проблема в том, что по своему прав и я (отсюда мой вечный комплекс «без вины виноват»; я тебе об этом уже говорил). Я не сомневаюсь в том, что ты меня любила. Только для тебя любовь, по моему, оказалась инструментом реализации твоего природного предназначения (главным образом), а для меня (сейчас скажу то, что могу сказать только тебе или себе: во всех других случаях это звучало бы напыщенно, выдуманно или, того хуже, как хитроумнейшая, следовательно – подлейшая попытка замаскировать слабость) – инструментом реализации духовных потребностей. Такой я мужчина. Как написано у меня в романе, «если я не скажу вам, что я умный, вы же сами не догадаетесь» (возможно, шутка).
Неужели ты можешь допустить, что я не думал о нашем будущем? Да я примеривал (промеривал) его день за днем. И если я все же отказался от него, то у меня должны быть на то веские основания. Тебе не приходило это в голову?
Не спеши объявлять меня трусом и предателем, ибо это характеризует в большей степени не меня, а тебя, точнее, твои сегодняшние настроения. Извини, но в тебе как-то удачненько заговорила твоя лучшая подруга, А. Собственно, женщина как таковая.
Я осознаю и, так сказать, уважаю твои потребности, но я не могу быть их заложником (см. пункт 2) – а это непременно случилось бы. И ты бы первая перестала меня уважать – с полным на то основанием. «Ты не мой мужчина» сквозило бы в каждом твоем движении, в каждой интонации. И все вопросы были бы уже не к тебе, а ко мне. Ты получила бы все, а качество моей – моей! – жизни резко бы упало. Я бы жил чью-то, возможно, ужасно благородную и по своему содержательную, но чужую жизнь. Я этого достоин?
Ты как-то обронила: «Я понимаю, тебе хочется пожить для себя…»
Проблема не в том, что я хочу «пожить для себя» – то есть, не особенно напрягаться на бытовом и трудовом фронтах (какая-то пошлая мечта духовного пенсионера); проблема в том, что выжить сейчас, в этот период своей жизни, я могу только своим одиночеством и, извини, творчеством. Вот не работал год – и меня как подменили. Я словно заболел.
Я же не могу не заботиться о тебе – следовательно, у нас будет ребенок; следовательно, буду пахать, как ишак, и постоянно испытывать чувство вины и перед тобой, и перед собой. И перед всеми на свете. Я не хочу благородно придавить себя приятным чувством ответственности за тебя. Я не хочу поз. Я себе уже все доказал, и сейчас проблема моего существования – я сам. У меня много сил, но, как ни странно, все они уходят на поддержание режима выживания. У меня мало стимулов, мало «подзарядки» – поэтому вся накопленная за жизнь энергия уходит «в космос».
Но любовь сама по себе здесь не при чем. Я четко отделяю любовь – и все остальное. (А ты?)
А разве я ничего не теряю, спросишь ты, отказавшись от нашего будущего?
Я теряю очень много. Я теряю в любом случае и очень много. Однако, отказавшись от нашего будущего, я остаюсь с тем, что для меня опорно важно: я не предаю тебя. Я не предаю никого. Ибо: брать ответственность и чувствовать, что у тебя не хватит на это сил, – это и есть «скрытое» предательство.
Другое дело, что я делаю тебе больно. Это – да. Но боль – это боль, а предательство – это предательство. В конце концов, я не обещал тебе, что со мной будет легко (хотя очень хотел, чтобы не было тяжело).
Вот сейчас попрошу прощения – и все испорчу…
6. Виноват я перед тобой?
Виноват. Я виноват уж тем, что позволил своим чувствам созреть, что тебя очень близко подпустил к себе… – и далее по списку. Но просить за это прощения – недостойно наших отношений (а так хочется!). В этом чувствуется глубокая фальшь, как плесень, которую сразу не разглядишь.
Я чувствую перед тобой вину за то, что я так сложно устроен. И если ты думаешь, что я кокетничаю, – иди к черту.
Хотел я тебя обидеть?
Нет. Злого умысла не было ни в каком виде.
Хотел бы я, чтобы не было наших отношений?
Нет. Это часть моей жизни. Мне нечего стыдиться. Наши отношения не выставили меня в моих глазах «не тем» мужчиной. Иное дело – насильно мил не будешь.
Больно ли мне – в том числе и оттого, что тебе больно, что я – вольно или невольно – не оправдал твоих естественных ожиданий?
Больно. Только не надо говорить о предательстве. Не надо путать божий дар с яичницей. От любви до ненависти и мести – один шаг, не будем этого забывать. Хотя… Мой шаг был бы в сторону иронического комизма и фарса. Но сделать такой шаг – не уважать себя. Мужчины (подобные мне) подобных – женских – шагов не делают.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































