Текст книги "Гармония – моё второе имя"
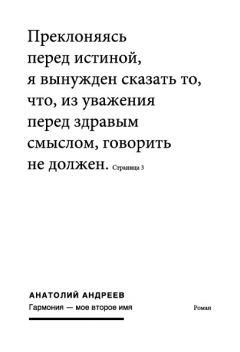
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
В этом контексте не поединок уже, а заговорщицкое шептание с Порфирием Петровичем приобретает особый смысл. На Раскольникова возлагает надежды и миссию найти выход из тупика, ликвидировать сам тупик, чтобы другим «наполеонам» неповадно было, умный Порфирий. Он вразумляет (мужское начало – пафос вразумления; даже Разумихин себя «в шутку» – а в романе туго с юмором: тут всем не до шуток; нервный смех может вызвать разве что излишняя серьёзность – называет Вразумихиным) безумного Родю: «ваше преступление вроде помрачения какого-то представится (в случае явки с повинной – Г.Р.), потому, по совести, оно помрачение и есть». «Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю…»
Мы уже знаем за кого «почитает» «Романыча» Петрович. А вот за кого почитает Порфирий себя? Раскольников поинтересовался: «– Да вы-то кто такой, – вскричал он, – вы-то что за пророк? С высоты какого это спокойствия величавого вы мне премудрствующие пророчества изрекаете?»
Следователь ответствовал преступнику достаточно взвешенно и трезво:
«– Кто я? Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кое-что и знающий, но уж совершенно поконченный. А вы – другая статья: вам бог жизнь приготовил (а кто знает, может, и у вас так только дымом пройдёт, ничего не будет). Ну, что ж, что вы в другой разряд людей перейдёте? Не комфорта же жалеть, вам-то с вашим-то сердцем? Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем. Вы чего опять улыбаетесь: что я такой Шиллер? И бьюсь об заклад, предполагаете, что я к вам теперь подольщаюсь! А что ж, может быть, и в самом деле подольщаюсь, хе! хе! хе! Вы мне, Родион Романыч, на слово-то, пожалуй, и не верьте, пожалуй, даже и никогда не верьте вполне, – это уж такой мой норов, согласен; только вот что прибавлю: насколько я низкий человек и насколько я честный, сами, кажется, можете рассудить!»
Сам Порфирий Петрович – условный следователь, чудак, Шиллер: то два месяца уверяет всех, что в монахи идёт, то мистифицирует всех своей предстоящей женитьбой. И то, и другое – «миражи», но зачем понадобились именно такие миражи в качестве характеристики Порфирия Петровича?
Это показатель широты души и одновременно дефицита воли Порфирия, равно готового и на подвиг духовного заточения, и на жизнь рутинную, которая «дымом пройдёт». Но не горит он ни тем, ни другим, не жаждет истины пуще жизни. (Порфирий, кстати, значит «багряный» (греч.). Порфирий Петрович – сочетание несочетаемого, совмещение противоположностей.) В определённом смысле, пожалуй, его можно назвать одного с Родионом Романычем поля ягодой. Впрочем, все персонажи романа до скучного – одного поля ягоды, кто с краю, а кто ближе к центру. Объясняется всё элементарно: все они суть разные проекции одного «мономански» устроенного сознания, все они – оттенки одной идеи.
И всё же «дымом пройдёт» или «жизнь приготовил»? Как это всё понимать в отношении Раскольникова?
А так понимать, что в Раскольникове есть редчайший дар служения правде и Богу, который он кощунственно обратил в бунт против того, к чему призвание имеет. Если Родиона очистить страданием, то он явится уже не карикатурой на Наполеона, а приговором нравственному бонапартизму, разоблачателем разума, действительно защитником униженных и оскорблённых. Строго говоря, Порфирий склоняет Раскольникова брать пример с другого авторитета: с Христа.
Сам же Порфирий Петрович способен разве что вразумлять. Он не обладает для Раскольникова высшим авторитетом – авторитетом мученика, страдальца за правду. Ко Христу ведёт совместная дорога Родиона с Соней. Вот почему этот дуэт, так сказать, самодостаточен, он есть зерно о двух противоположностях, из которого вырастает выдуманная симфония романа. Все же побочные персонажи-муляжи тяготеют к двум заданным моноцентрам, а при более тщательном рассмотрении – к одному: к тому, который героически заполняет собой представительница «ангельской лиги» Сонечка, живущая, по земному, «во грехе». Родион – боюсь, здесь даже повествователь охмурён дурманом диалектики (ведь если диалектика служит идеологии, она становится зельем, которого действительно стоит опасаться) – по духу родственен именно Соне, а не Свидригайлову с Порфирием Петровичем, не говоря уже о «копиях копий» Лужине с Лебезятниковым. Тем самым Раскольников из проклятого превращается едва ли не в избранного, из гадкого утёнка – в белоснежного лебедя. Ему бы только фамилию сменить на Сонечкину…
А «помрачение» оно и есть «помрачение»: «помутилось сердце человеческое», «тут теоретически раздражённое сердце» (Порфирий Петрович). Словом, разум ввёл в соблазн или кто-то там ещё при помощи разума.
Итак, жребий Сонечкин (уже в высшем смысле, том самом, который постоянно держит в подтексте повествователь) не минует и Раскольникова. Однако повествователь не хочет «упрощать» ситуацию. Своё гениальное психологическое чутьё и умение раскодировать те едва прослушиваемые сердечные ритмы, которые укрощают любой бессмысленный бунт разума, он выдаёт за объективность. А гениальным, как и юродивым, на Руси верят скорее, чем просто умным. Взыскует чудес Россия.
Это не объективность, а виртуозная имитация глубоко засевшей мономании. И вот происходит то самое вышибание клина клином, смена одной мономанской парадигмы, выдуманной Раскольниковым, на сонечкину, якобы не выдуманную, а наличествующую a priori, от Бога данную. Объективно здесь лишь то, что «люди» сплошь и рядом выдают желаемое за действительное, – и Раскольников, и Сонечка, и повествователь; однако повествователь, сей генеральный поводырь, имеет слабость верить в то, что его вариант мономании и есть «объективность». В этой объективности есть доля объективности – и она-то позволяет трактовать роман как гигантскую мономанию, субъективность, идеологическую тенденциозность, художественный (иррациональный) вариант реальности.
Повествователь не хочет упрощать ситуацию – и Раскольников продолжает «бороться» (расчёт повествователя психологически точен: чем внушительнее битва, тем значительнее будет победа). Он обречённо признается Дуне (а Дуня, Авдотья, как и Катерина Ивановна, Пульхерия Александровна, убиенная Лизавета, да и бывшая его невеста, собиравшаяся идти в монастырь, и даже «прынцесса» Дуклида – это всё тени и блики вечной Сонечки, та самая «ангельская лига», о чём свидетельствуют их древние бесхитростные имена: Авдотья – в переводе с древнегреческого означает «стойкая», Катерина – «чистая» («она чистая» – «заступается» за неё Соня), Пульхерия – «прекрасная»): «Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя». Если это не диалектика души, то что это?
Согласно повествователю, очевидно, это всего лишь остаточные помехи разума, «теоретически раздражённое сердце».
И тем не менее: страдания – в избытке, наказание – по всем позициям адекватно преступлению (Бог не дремлет, заботится о своём воспитаннике), а раскаяния – нет. Дремлет, что ли? Оставил своею милостию? Решил «дымом» пустить?
Нет, конечно. В этом случае роман затевать не стоило. Здесь иная, божественная (в сущности – диалектическая) непоследовательность: кого люблю – того и бью. «Бью» – потому как очищаю, умудряю, вкладываю стремление к истинно прекрасному; вот и окружаю заботой верных и преданных женщин. Ни маменька его не оставит, ни Авдотья, ни тем более Соня. Следовательно, будет раскаяние. По большому счёту (вспомним в этой связи «Войну и мир»), стать человеком там, где пуще дьявола опасаются разума, – означает стать женщиной, покорной, по природе не способной к бунту.
Раскольников сопротивляется, однако в конце романа это действительно выглядит глупо. У него нет выбора, а есть только отвлечённая теория. «И всё-таки вашим взглядом не стану смотреть», – исступлённо упорствует Родион. «Кровь все проливают», и за это «венчают в Капитолии и называют потом благодетелем человечества». Он тоже пролил кровь, но сделал это как-то неубедительно, и за эту «неловкость», за эстетически уродливую форму, за невеличественность попал в разряд преступников. Но не за «преступление»!
Значит, дело в форме. «Боязнь эстетики есть первый признак бессилия!..» – с наполеоновским металлом в голосе восклицает тот, чьё сердце рвётся на части из-за правильности (справедливости!) теории. «Никогда, никогда не был я сильнее и убеждённее, чем теперь!..», что означает: никогда, никогда ещё муки сердца не были столь невыносимыми. Чем совершеннее, чем острее и отточенней теория – тем болезненнее реагирует на неё сердце.
С позиций разума, карикатурно выведенного в романе, из этого адского круга выхода нет. «(…) всякий из них (из людей – Г.Р.) подлец и разбойник уже по натуре своей; хуже того – идиот!»; однако того, кто осмелился назвать вещи своими именами, они из «благородного негодования» упекут на каторгу, в ссылку. А там просто «добьют окончательно», сломят дух – но ведь не теорию! Теория – не человек, её психологически не сломаешь. Сама каторга, ссылка, эти неизбежные следствия идиотизма людей, не имеют к правильности или неправильности теории никакого отношения. Человека можно уничтожить, но это лишь подчёркивает бессмертие теории. Всё «математично» и логично, а вместе с тем по-религиозному, по сонечкиному, фанатично. Повествователь знал, что делал, когда не спешил разбрасываться натурами, подобными Родиону Раскольникову.
Нелогична была только жажда жить. «И зачем, зачем же жить после этого…» Жить незачем, но жизнь оказывалась сильнее логики. «Он уже в сотый раз, может быть, задавал себе этот вопрос со вчерашнего вечера, но всё-таки шёл». Шёл к Соне, а от неё – на каторгу.
Жить, но не умирать шёл. (Кстати, ситуация вновь архетипична, следовательно, банальна. Хочешь победить разум – читай и/или пиши евангелие. И бесы расточатся. Апеллируй к чуду. Без чудес разум неодолим.)
6. Звезда Пентагон
– Вот видишь, – воскликнул Сеня Горб, гостеприимно разводя руками, – все вершится по воле Господа. Твоя дуэль – это просто посрамление всем неверующим. Мог ли ты предположить, что все так закончится? Разве ты не видишь во всем этом воли Провидения? Только честно.
– Здравствуй, Сеня, дорогой мой секундант, – сказал я. – Рад тебя видеть.
– Здравствуй, Герман. С чем пожаловал?
Я приехал к Сене в гости с неясными, но добрыми намерениями.
– Я бы сказал, что с миром. Но, боюсь, ты мне не поверишь – после всего, что было…
– Ты сражался со злом, потому и победил: в решающие моменты Господь всегда поддержит сторону правды.
– Во-первых, я не уверен, что победил; а во-вторых… У меня в кармане лежит моя статья «Звезда Пентагон». Не знаю, с кем я здесь сражался, но я смог внятно проговорить пять заповедей, вокруг которых крутится мир. С тем к тебе и пожаловал.
– Ты мне скажи лучше: ты сейчас с Мариной? Вы счастливы?
– Видишь ли… Если начать ценностный ряд словом «женщина», то закончится он непременно Богом; если начать словом «разум», то тебя ожидает путь к гармонии. Это к вопросу о счастье.
– Все истину ищешь? Претендуешь на место мессии? Ты заигрался, превратился в завзятого дуэлянта. Твой враг – гордыня. С ним и сражайся.
– Нет, я себя ищу. Для меня истина – это природа человека. А враг мой – глупость. Место мессии, как тебе хорошо известно, занято «гонимым» Солженицыным.
– Все это я уже слышал. Как ни назови – все за «разумной» истиной носишься.
– И все же, будь добр, прочитай статью: это последняя, нет, предпоследняя попытка достучаться до разума человека цивилизации.
В повадках Сени что-то неуловимо изменилось. На моем языке, в моей системе координат я бы определил так: он не то чтобы потерял себя – он так и не обрел себя, но уже выдыхается, чувствует, что силенки кончаются, поэтому становится сух и категоричен – способ самозащиты такой.
Мужчины хуже женщин. В том смысле хуже, что с ними тяжелее общаться, они более капризны, самолюбивы, амбициозны, агрессивны и эгоистичны. Они по-человечески менее комфортны. Их тяжело любить.
Все это из-за того, что мужчины организованы более сложно, нежели женщины. Вся высшая сложность сильного пола только в одном: природой именно они предрасположены быть носителями интеллекта, предрасположенного к трансформации в разум. Однако быть предрасположенным, чувствовать свое призвание – это одно; быть же реальным носителем призвания – это совсем другое. Большинство мужчин обречены быть предрасположенными, не более того. Призвание такое межеумочное – быть предрасположенным. В духовном смысле – уже не женщины, но до мужчины еще топать и топать. Неизвестно куда (что хуже всего). Отсюда все их комплексы неполноценности. Они носятся с собой, как с писаной торбой, чувствуя, что способны сделать гораздо больше и лучше того, что делают.
Женщины, в целом ни на что особенно не претендуя, внутренне более уравновешены (что не мешает им быть более истеричными). Более простое в информационном плане существо, женщина получает больше возможностей для оптимальной регуляции, для адекватного приспособления к миру. Где проще – там не рвется.
Но мужчины, носители разума (по большей части это, справедливости ради, просто умные мужчины), отчасти уже компенсируют пороки пола. С умными мужчинами уже легче общаться, нежели с женщинами, они менее капризны, агрессивны и эгоистичны. Комплекс полноценности творит чудеса: понимание делает чувства мужчин гармоничными и красивыми. Мужчина, более сложное в информационном плане существо, если ему удается найти меру соответствия миру и своим возможностям, производит впечатление анормальности, настолько оно впечатляюще нормально.
К таким мужчинам тянутся женщины – как более слабые к более сильным. Закон всемирного тяготения. Такие мужчины способны сделать женщину и самих себя счастливыми. Вот секрет счастья: осчастливить женщину может тот мужчина, который способен сам сотворить счастье; в человеческом смысле счастье – это умение неустанно гармонизировать отношения: с самим собой, друг с другом, с социумом, с космосом. Для такого счастья нужен ум. Для счастья с женщиной необходим умный мужчина.
Вот почему женщины в принципе не разочаровываются и никогда не разочаруются в мужчинах как таковых; они стараются замечать в плохих то, что демонстрируют хорошие. Они тянутся к мужчине. Даже феминистки. Что тут удивительного?
Феминизм – это разновидность беспомощности женщин.
В принципе зависимость проста: чем больше ума, тем больше возможность счастья. Но не все так просто в жизни.
Все зависит не только от ума, не только от мужчины, не только от женщины, от случая… Все зависит от всего вместе взятого – взятого в счастливой пропорции.
Творец счастья – мужчина; но для этого фокуса ему необходима чуткая женщина.
Вот что я хотел сказать Сене по поводу счастья. Понятно, что говорить все это не имело никого смысла. Мы пережили уже ту стадию дружбы, которая составляет роскошь человеческих отношений.
– Нет, Герман, ты опоздал со своей попыткой. Я уже не только ничего не читаю, но и не пишу. Не вижу смысла. Мне все ясно, мне ясна природа твоих заблуждений. Я ученик Достоевского: что мне твои жалкие опусы? Кто ты есть, Герман? Никто. Человек, который не понял, что истина познается сердцем, – ничтожество. Тебя просто нет. Ты недочеловек. Или сумасшедший. Малиной вот угостить могу; а насчет звезды твоей… Бог тебе судья.
– По правилам натуры вы судите меня, культурного человека? Вот почему вам так хочется делать из меня сумасшедшего!
– А ты себе, наверно, кажешься умным?
– Если я не скажу вам, что я умный, вы же сами не догадаетесь.
– Знаешь, Германн, ты мне все больше и больше напоминаешь дьявола. Все сходится: ни дать, ни взять Вельзевул…
И Сеня стал активно креститься, вырисовывая трехперстием в воздухе, у себя под носом, какие-то подобия противотанковых ежей. Меня это задело за живое. И я, разумеется, наговорил ему глупостей. Начал я, как мне показалось, с блестящего пассажа: «Свобода для опарыша наступает только тогда, когда ему позволяют жить, как скоту, и верить при этом в Бога».
Сеня продолжал хладнокровно креститься. Он обложил себя ежами. А мне словно вожжа под хвост попала:
– У опарышей не бывает счастливых – у них есть довольные и не довольные жизнью; у них не бывает достоинства – есть понятие успех или неуспех; у них победителей не судят – а судят побежденных и раздавленных. Добро пожаловать в мир, где добрые люди (что, впрочем, не мешает им быть мелочными и злобными) позаботятся о том, чтобы ваше существование было как можно более невыносимым.
Я говорил это ему, но мысленно обращался к Гоше, олицетворению всех опарышей на земле, и не только к Гоше. В частности, к Учителю. Я говорил, потеряв всякую надежду, что меня услышат; единственный вразумительный мотив, толкавший меня на подвиг речеговорения, – мне просто надо было выговориться. Выпустить пар в гудок. Просто высказаться – чтобы уцелеть: иначе могло разорвать изнутри от излишнего смыслового давления, на выходе обретавшего форму ядовитой иронии. Боже мой! Чацкий с его наивным и безадресным «а судьи кто?» показался бы верхом здравого смысла по сравнению со мной, потерявшим над собой контроль.
– Хочешь, я поделюсь с тобой моим личным кодексом? Не хочешь? Тем более поделюсь. Так вот. Я бы приговаривал чистюль к линчеванию за сладострастные и обоснованные обвинения в тот момент, когда виноватому требуется помощь и участие. А для фанатов бессознательного освоения жизни я бы все же предусмотрел специальное Постановление Господа Бога – и наказывал бы как-нибудь по-дурацки только и исключительно дураков. Ибо: порядочный и беззлобный дурак – это нравственный монстр.
И еще… Был бы Богом – казнил бы в первую очередь тех, кто в Меня, Несчастного, верит. Не можешь думать – веруй, но не делай вид, что думаешь.
– Ненавижу всех, – заключил я, чем вызвал сотрясение воздухов, в которых появились еще десятка два зигзагов-ежей.
Я швырнул листы своей работы на Сенину территорию (они разлетелись белыми тощими аистами – рынок, демократия, религия, секс, национализм), развернулся и исчез из жизни Сени навсегда.
Он, поддавшись дьявольскому искушению, прочитал мою работу, о чем великодушно и обстоятельно уведомил меня своим, в пику мне, смиренным и прогрессивным эссе. Работа ему не понравилась решительно. Чему я был искренне рад. Но я дочитал его за версту смердящий милосердием опус до конца.
Чтобы досадить мне, Сеня стал в очередной раз защищать двух выродков, которые кошмарили пару континентов, прикрываясь демократическими слоганами, уместными разве что на ярмарке, той самой, по которой ехал Ванька-холуй, чтобы за честно заработанные три копейки отовариться в ближайшей бакалее и уткнуться хлебалом в вонючую лужу счастья. В слюнявые слоганы выродки, якобы, искренне верили.
Тем хуже для выродков (для их страны – полная жопа), это серьезное отягчающее обстоятельство, ибо характеризует демократических выкормышей как последних глупцов, холуев бессознательного.
Говорю вам: глупые люди – это инструмент апокалипсиса.
Своей святой, то есть слепой, демократической верой они немало повеселили весь цивилизованный мир, который, будучи на всепланетной ярмарке почтенной публикой, от души, подпираемой сытым брюхом, потешался над незадачливым восточным соседом. Ай, да Ванюша, ай, да придурок. Демократия, братство… Справедливость, международное право… Фу, до слез довели, паяцы окаянные. И, главное, откуда они взялись, такие выкопни? С Луны, что ли, свалились?
Интересуетесь, о каких выродках идет речь?
О Горбачеве и Ельцине. О дегенерате Борьке и дауне Мишеле, о ком же еще?
Взбесившийся капрал Адольф с европейским размахом доказал, что тоталитаризм – оборотная сторона демократии, разуверившийся в милости небес семинарист и полубес Иосиф с помощью вышеозначенных выродков окончательно убедил всех, что демократия – это худшая разновидность тоталитаризма.
Паскуды все.
Звезда Пентагон
Рынок, демократия, религия, секс, национализм – это инструменты диктатуры бессознательного, диктатуры натуры, с помощью которых, однако, цивилизации удалось создать не пользующиеся авторитетом высшие культурные ценности.
Целых пять китов, на которых покоится цивилизация, стремительно входящая в штопор глобализма. В принципе хватило бы первых три позиции, и дело свелось бы к классическим трем китам. Но пять лучше: у пятиконечной Системы появляется внутренняя противоречивость, гарант устойчивости. Пятиугольник легко принимает форму замкнутого круга (он же круговая порука, он же круговая оборона, он же тотальная агрессия: на выбор). Перед нами вписанная в пять углов звезда Пентагон, украшающая древо цивилизации, похожее на пирамиду или рождественскую ель.
Итак, рассмотрим все пять позиций по порядку.
1. Рынок. Почему на рынке, на базаре правилом хорошего тона считается торговаться?
Принято ссылаться на традиции; специалисты утверждают, что в Коране даже есть страницы, где недвусмысленно указывается на необходимость торговли, коммерческого диалога, который является не только знаком взаимного уважения, но и едва ли не роскошью человеческого общения.
Словом, базар – это любезное сердцу место, где принято торговаться. Иначе говоря, диалог уважаемых продавца и покупателя трактуется как социокультурная традиция.
Думаю, дело обстоит несколько иначе. Что значит торговаться?
Навязывать свою цену на товар. Если ты сумел сбить или завысить цену, проявив при этом психологический напор, агрессию, изворотливость хитрющего беспринципного интеллекта (единственный принцип – деньги не пахнут), ты продемонстрировал силу, которая выражается уже в определенной сумме. Сила дорогого стоит; собственно, стоит денег. Тебя есть за что уважать: за жизнеспособность, за умение захватывать жизненное пространство. Получается, что тебя уважают за то, что ты – слава Богу! – не способен стать культурным. Человек торгующий – это богоподобный человек, ибо он ведет себя по образцу и подобию Всемогущего Господина: выстраивает отношения с миром с позиций абсолютной силы.
Все дело в силе. Деньги и торговля как способ их добывания – экономический эквивалент силы, а сила – решающий аргумент в эпоху культа бессознательных отношений. Вот почему умение торговаться стало одной из моральных ценностей homo economicus`а. Цивилизация сделала ставку на концепцию «человека экономического», homo economicus`a (культура же пока стыдливо ориентируется на «человека разумного», не понимая пока толком, фантом это или неизбежная перспектива). Этот экономический homo, если не считать нескольких антуражных Библейских заповедей, создан из двух прабиблейских канонов, сформулированных еще в дописьменную эпоху и отражающих реальные потребности реального человека. Первый гласит: кто сильнее, тот и прав. Второй вторит: все на продажу (сильнее, разумеется, тот, кто посредством второй эффективнее реализовывает первую заповедь). Чтобы выяснить, кто на свете всех сильнее («чьи в лесу шишки?»), необходим такой инструмент, как демократия.
2. Демократия. Итак, культ силы, силовая регуляция всех отношений – экономических, политических, нравственных – вот «духовный» (точнее – волевой, более природный, нежели культурный) стержень человека цивилизации.
Рынок – продление природной (силовой) регуляции, где деньги превращаются в эквивалент силы; однако «культурная», «духовно-правовая» легитимизация рыночных отношений начинается с политики, а именно: с высшей ее формы, демократии, при которой «простой» (то есть неспособный мыслить) человек свободным волеизъявлением выбирает отчего-то исключительно рыночные ценности. Никогда не ошибется. Ему подсказывают сердце и желудок.
Демократия – это возможность для сильного жить за счет слабого. Своеобразный гуманизм демократии можно увидеть в том, что бесчеловечный принцип «побеждает сильнейший» (отчасти, согласимся, справедливый принцип) распространяется на всю парадигму социальных отношений и принимает форму «честных» правил игры. Демократия – это проекция природных отношений на социум, своеобразный социальный дарвинизм, «гуманитарная» аранжировка базовых (природных) потребностей. Демократия создает и поддерживает оптимальную среду для развития рыночных отношений. Демократия не могла не появиться; если есть рынок – рано или поздно появляется и демократия. Рынок содержание отношений, демократия – форма.
Вот почему демократия выгодна сильным в первозданном, природном смысле (а кажется, что выгодна самой культуре), она стоит на страже интересов рыночных чемпионов, и никто в такой мере, как сильные мира сего, не заинтересованы в том, чтобы демократия торжествовала во всем мире. Экспорт демократии, проходящий по статье «благие намерения, то бишь гуманизм», становится формой агрессии (все той же диктатуры натуры).
Демократия – это возможность для одного представить базовые (прежде всего – экономические) потребности всех людей в таком выгодном для них свете, чтобы они доверили ему представлять свои интересы на политическом уровне. Америка – страна образцовой (безо всякой иронии) демократии. Именно в Америке возможности демократии реализованы с впечатляющей полнотой. Америка сделала ставку на витальные и обслуживающие их ментальные (не культурные) потребности человека (см. ниже два «глобальных» заповедных канона, основу нынешней транснациональной идеологии – глобализма). Это естественно и по-своему правильно – в том смысле правильно, в котором лев пожирает антилопу. Но она исключила из потребностей человека права личности – и это катастрофа. Демократия сегодня плоха не тем, что неэффективно обслуживает права человека, а тем, что делает это с пугающей эффективностью – тем, что обслуживает потребности натуры, а не культуры, homo economicus`a, а не homo sapiens`а.
Отсюда и все большее разочарование в демократии на фоне экономических триумфов и того «железного» факта, что противопоставить демократии вроде бы и нечего. Разочарование в демократии приводит к разочарованию в человеке.
А действительно: что же можно хотя бы теоретически противопоставить демократии?
Для этого, прежде всего, надо что-то противопоставить «рынку» как экономическому содержанию человеческих отношений. А тут и «выдумывать» ничего не требуется: сама жизнь (натура!) стихийно (бессознательно!) противопоставила стихии рынка идею регуляции (уже нечто из арсенала культуры); «цене», категории рыночной, уже давно противопоставили «ценность», категорию культуры. Проблема в том, что «рынок» пока регулируется, так сказать, в пределах и рамках своей первозданной функции, не утрачивая своей самотождественности. Где та грань, за которой количество перейдет в качество, – за которой «рынок» из содержательной категории превратится в инструмент диктатуры культуры и в новом своем качестве станет выполнять функции ограничения прежнего «рынка»?
Вопрос в такой плоскости даже не ставится – ни в науке, ни тем более в общественном сознании. Это плохо. Однако вопрос в такой плоскости в принципе может быть поставлен (что мы сейчас и делаем) И это хорошо. Пожалуй, это единственная хорошая новость для рынка сегодня.
Таким образом, предпочтительнее демократии на сегодняшний день, во-первых, желание выжить (а человек экономический, не станем питать иллюзий, будет стремиться заработать на всем, даже на отсутствии перспектив выживания: на гибели потомков можно неплохо погреть руки уже сегодня); во-вторых, демократии можно противопоставить потребности личности, человека культурного (разумного), которого успел-таки породить человек экономический. С точки зрения личности, лучше, гораздо лучше демократии – диктатура культуры. В общем и целом на сегодняшний день – это утопия, не станем лукавить. Тут можно было бы и закрыть вопрос, если бы не антиутопия, ставшая реальной перспективой нашей жизни: тотальное разочарование в самой идее демократического и, следовательно, рыночного мироустройства. Рост апокалиптических настроений сегодня очевиден. Человек экономический не спасет планету Земля. Он ее уничтожит, если уже не уничтожил. Потребительское общество потребляет само себя.
Я, разумеется, не знаю, как следует осуществить диктатуру культуры, едва ли не эквивалент царства Божия на Земле. Уж, конечно, не коммунистическим методом, ибо диктатура пролетариата – это разновидность диктатуры человека экономического, которая сегодня осуществляется в форме демократии. Зато я отдаю себе отчет в следующем. Во-первых, тенденции развития человека (развития, подчеркну, а не деградации), если взять многие тысячелетия его развития, – от натуры к культуре, от человека – к личности. Факт того, что с личностью пока не считаются, сам по себе еще не является аргументом в пользу того, что с личностью не будут считаться никогда. Во-вторых, если тенденция к реализации личностного начала не будет укрепляться, человечество с его демократическими иллюзиями попросту исчезнет. Боюсь, в скором будущем вопрос будет ставиться именно таким образом: или человек становится личностью, или человек прекращает свое существование. К обезьяне уже нет возврата; только вперед – к личности.
А как же вера? Разве вера в человека, которая является производной от веры в Бога, ничего не решает?
3. Религия. В монолитной цепи «рынок – демократия» не хватает еще одного звена, превращающего жестокую, как палка, прямую в перспективный треугольник, легко принимающий форму круга, а именно: религии. Sic: рынок – демократия – религия. На этих трех китах (так и хочется сказать – на трех палках) держится цивилизация.
Почему рынок и демократия непременно нуждаются в религии?
Религия («духовность!») еще более очеловечивает рыночные (силовые) отношения, которые нуждаются в режиме демократии, – очеловечивает настолько, что вступает с ними в противоречие. «Не убий», «не украдь» – это все ограничения в правах и возможностях сильного. В православии популярна притча о том, как торговцев изгоняют из храма Божьего. Казалось бы, религия едва ли не осуждает рынок.
С другой стороны, суть западной версии христианства великолепно иллюстрируется лозунгом: «Иисус любит победителей». Иисус, вне всякого сомнения, обожает рынок и демократию, которые обожествляют номинацию «чемпион». На самом деле религия «духовно» освящает все то же бессознательное копошение, ибо вера, психогенный феномен, противостоит началу разумному (культурному). Не случайно на самой сильной валюте мира вытравлена надпись во славу Божию. «Мы верим в Бога», – написано на искусительном долларе со змееподобной эмблемой. Деньги (сила!) – это святое. И в прямом, и в переносном, и в самом что ни на есть сакральном смысле этого слова. Для людей, «мыслящих» в рыночных категориях (то есть бессознательно принимающих рыночную данность), деньги неизбежно превращаются в смысл и цель существования.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































