Текст книги "Гармония – моё второе имя"
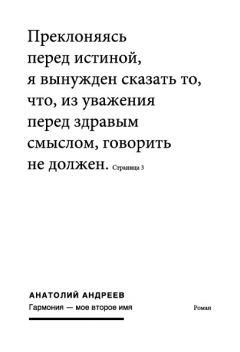
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
6. Пустота
Меня переполняло ощущение, которое лучше всего передается следующим образом.
Вуаля, образ: плотный, упругий воздушный шар рвется высь и уносит меня прочь от земли, аж дух захватывает – ему и синий космос не преграда.
Однако на ногах моих заботливо закреплен тяжкий груз – то ли плита чугунная, то ли пушечное ядро, одолженное у небезызвестного болтуна барона, то ли грехи человеческие, отлитые в металлическую болванку.
Если бы не шар – я бы в мгновение ока шлепнулся о скалы, как юнкер Грушницкий, и мокрого места бы не осталось. Так, шматок раскудлаченной материи.
Если бы не чугун – я бы давно задохнулся в безвоздушном пространстве. Как поручик Печорин.
Жить – значит, разрываться.
Не разрываться – значит, не жить.
Вот я и разрывался.
Жил.
Только один маленький нюанс: ощущение свободного полета незаметно, час за часом, подменилось ощущением пустоты.
Пусть это тяжелое ощущение невесомости и легкости заполнит всю маленькую главу. Полетели. В смысле «поехали».
Летим долго. В неизвестном направлении. Доедем туда, куда следует. Так бывает. И это тоже надо испытать в жизни.
Так и хочется сказать: аминь. Но аминь здесь не при чем.
Понимаете, Марина ревновала меня – ко мне. Получалось так, что у меня есть я, а у нее – нет.
Могу сказать иначе: она изо всех сил, честно и добросовестно, пыталась понять меня, примерить на себя размерчик моей логики – и …
И не могла. Не получалось.
Она в упор не видела моей правоты.
Следовательно, легко перешла к обвинениям.
Летим. Чувствуете ли вы, как иногда пустота переходит в свободный полет?
Я – чувствую.
Где-то высоко, в высшей точке удаления от Земли, я шептал: «Пусть она окажется обычной женщиной – трогательно слабой, в меру хищной. Зачем ей этот стальной характер? Пусть будет девушкой легкого интеллектуального поведения. Как все. Я выдержу это».
Марина просто убивала меня потрясающей смесью сильного характера, нерешительности и готовности к поступкам, носящим необратимый характер, – свидетельством, как я сейчас понимаю, очаровательного недостатка ума. Неглупая женщина, достаточно долго живущая с умным мужчиной, подтягивается к его уровню настолько, что начинает казаться умной.
Но уберите мужчину, этот генератор духовности, и бедной женщине остаются только морально-волевые. Женщина тускнеет, но ведет себя боевито и ярко. Глупо.
Марина вела себя глупо – но с достоинством: она была необычная, уникальная женщина, сумевшая приспособиться ко мне. Она никак не могла смириться с тем, что ей в принципе недоступно какое-то особое, мужское мышление и понимание. Она по себе судила обо мне; я тоже судил по себе и понимал, что она никогда не поймет меня, но ей будет казаться, что понимает она меня в совершенстве. Ощущение правоты плюс сильный характер – вот вам идеальный рецепт катастрофы.
Я летел.
Эй, кто-нибудь, пусть она окажется обычной, заурядной женщиной – с двойным измерением, в котором она сама путается, но где я, имеющий семнадцать двойных измерений, ориентируюсь безошибочно…
Дистанция между нами увеличивалась. Марина принимала мою силу – за слабость, а свою слабость – за силу.
Я звонил ей – она бросала трубку после первых же вопросов. Она ждала от меня только одного: полного и безоговорочного возвращения.
Но в сложившейся ситуации я мог вернуться к ней только горсткой пепла. На своих ногах, не в праховой урне – но горсткой пепла.
Ей же казалось, что я говорю красивые слова.
Так и хочется сказать: аминь.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
9
Параллельно с наказанием развивается и другой сюжет, связанный с первым, однако в принципе автономный. Мы имеем в виду сюжет преступления, конечно, которое не закончилось убийством, как не с него оно и началось. Уже терзаясь наказанием, Раскольников и не думает отказываться от преступных мыслей. В тот момент, когда «наказываемый» Родион направлялся к Разумихину, «смотря кругом рассеянно и злобно», мысли его начинают новый виток, модернизируя теорию в свете новых реалий. «Все мысли его кружились теперь около одного какого-то главного пункта, – и он сам чувствовал, что это действительно такой главный пункт и есть и что теперь, именно теперь, он остался один на один с этим главным пунктом, – и что это даже в первый раз после этих двух месяцев».
Загадочный «главный пункт» мыслителя из каморки был элементарен: если убийство старухи было актом «сознательным», идеологическим (Раскольников, как бы выразился Разумихин, «полез в направление» прежде чем взяться за топор), а не спонтанным, «дурацким», и если целью убийства было завладеть деньгами старухи с «определённой и твёрдой целью», – «то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелёк и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял и на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шёл?»
Вот эта неувязочка и беспокоит Родиона Романовича.
Впрочем, как тут же выясняется, «совсем это не новый вопрос для него» и, что важнее всего, вопрос решённый: «чуть ли это уже вчера не было так решено, в ту самую минуту, когда он над сундуком сидел и футляры из него таскал…» А решение такое: от «футляров» надлежит решительно, «безо всякого колебания и возражения, а так, как будто так тому и следует быть, как будто иначе и быть невозможно» – избавиться.
Если это крах теории (и роман кончился, едва начавшись), то грош цена такой теории и теории вообще. Это не могло устроить повествователя, так как над грошовой теорией и победа не дорога. Повествователь же по-наполеоновски замахнулся на полное и окончательное торжество душевной регуляции над умственной, что привело бы к посрамлению вертлявого разума. Повествователь жаждал триумфа. Для этого необходимо было показать силу теории, поэтому сюжет преступления становится «главным пунктом» романа.
Наивная «теория» Раскольникова, наивно выдаваемая повествователем за новое слово, оригинальное «направление», действительно гроша ломаного не стоит, однако не по причине недостаточной её, теории, аргументированности, а по причине того, что в основание теории легли надуманные, бредовые, произвольные допущения. Похоже, сам факт того, что любой бред может стать «направлением», не на шутку беспокоил Ф.М. Достоевского. Все теории романа (все теории мира?) изготавливаются по матрице, «выболтанной» разгорячившимся Разумихиным: «Ну, да хочешь, я тебе сейчас выведу, – заревел он, – что у тебя белые ресницы единственно оттого только, что в Иване Великом тридцать пять сажен высоты, и выведу ясно, точно, прогрессивно и даже с либеральным оттенком? Берусь! Ну, хочешь пари!»
Ведь это не что иное, как скрытая нападка на диалектический стиль мышления, который злобненько травестируется, пародируется, низводится с высоты Ивана Великого до кочек пигмейщины. Всему этому диалектическому «маразму» (ещё и подлому), по Достоевскому, может поставить заслон не другая столь же высосанная из пальца теория, а токмо «живая душа».
Вот здесь и ловушка. Каждый, кто всерьёз отнесётся к теории Раскольникова, попадёт мало сказать в глупейшее положение – в нелепейшее и заведомо проигрышное положение, ибо он на виду у всего мира собирается сражаться с тем, чего нет, с фантомом, плодом возбуждённого воображения-ума ненормально впечатлительного студента. Теории как таковой – нет, они делаются иначе, изготавливаются по иной познавательной технологии. У «теории» Раскольникова благородная функция скомпрометировать теорию (помните данайцев, дары приносящих?): логически ловко сколоченная и не допускающая противоречий (у же в одном этом – приговор серьёзной теории) система идей так называемого «идеологического романа» призвана обнаружить глупость разума (то есть «глупость» именно того, что и не закладывалось в жиденькую теорию, не присутствует там – того, чего нет), дезавуировать рациональное доктринёрство.
Роман Достоевского производит впечатление самоката, оснащённого компьютерами, или динозавра в качестве овчарки. Допотопная, средневековая, в сущности, технология мышления в причудливом сочетании с самой что ни на есть современной психоаналитической аранжировкой делают роман бесподобным курьёзом.
В терминологии того же Разумихина «главный пункт» романа обозначен как оппозиция «математической головы» и «живого процесса жизни», «живой души». «Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна!» «С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион!» Все эти достаточно «механические» формулировки взяты из живой полемики о природе преступления, где разбираются две позиции. Одна позиция («математическая», социалистическая): «среда заела», «натура не берётся в расчёт». Поменяйте среду – получите нормальную личность и, следовательно, нормальное общество. Вторая: преступление выводится непосредственно из натуры, из подозрительной живой души.
Самое любопытное в рассуждениях Разумихина – резюме по поводу первой позиции: «Самое лёгкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, и думать не надо! Главное – думать не надо!» Если следовать сверхлогике Разумихина (за язык которого дёргает повествователь), получается, что Раскольников был всего только логичен, но он не думал. Думать – это учитывать миллион случаев. «Думать» и «логически рассуждать» (принимать к сведению доводы интеллекта) чётко и недвусмысленно разведены как антиподы.
Вывод напрашивается такой: живая душа сама думает, и не логикой берёт, а как-то иначе, подозрительно для разума.
Сколько ни жонглируй терминологией, суть не меняется: «живая душа» «умнее» «математической головы».
В сущности, роман – это игра в поддавки, которая преподносится как схватка Бога с дьяволом. Весь роман и является по названным причинам грандиозной мистификацией. И спорить надо не с Раскольниковым, повествователем или Сонечкой, а с тем, что роман как форма приспособления человека к своему неумению «поделить» «ум» и «душу», развести функции психики и сознания, выдаётся за способ познания человека. Достоевский может заинтересовать науку о человеке в качестве поэта, который, как водится, стал больше, чем поэт, то есть в качестве творца, в произведении которого сказалось больше, чем он намеревался сказать. «Образы» оказались умнее поэта.
А в этом качестве Достоевский действительно немало напророчествовал. Если принять за ум то, что за него выдаётся шарлатанами от мышления, адское пекло может стать реальностью. Это наше резюме из «Преступления и наказания», то, что сказалось помимо воли Достоевского. Говорит же он, сознательно вкладывает в свои образы, нечто совершенно из другого измерения, а именно: то, что выдаётся за ум (в частности, Раскольниковым или повествователем), то умом и является, то кажется истинным, хотя на самом деле – ложно; а другого ума и не бывает – вот почему противопоставить мышлению можно и нужно не лучшее, совершеннейшее мышление («лучшую», «совершеннейшую» ложь), а другую, истинную природу человека.
Если иметь в виду, что теория Раскольникова и весь его копеечный надрывный бунт (идеологическая заморочка достаточно примитивного пошиба, не более того) на деле есть мистификация, – с такой поправкой анализ теории неминуемо превращается в анализ мистификации.
Книга четвертая. Человек осени
1. Тринадцатое число
На улице валит мокрый снег,
Ветер сносит с тротуаров прохожих.
Я не верю что существо человек
Может быть на демона похожим.
У него ведь есть голова,
Что-то вместо сердца, ноги и мозги.
Почему же он плетется едва-едва
В ту страну, где ни света, ни зги?
Завтра полыхнет скучная заря.
Станет снег сухим, стихнет ветер.
Я не верю, что живу зря.
Я не верю, что мне кто-нибудь ответит.
13.09.07
Если кто-нибудь подумал, что это нелепое, странно появившееся на свет стихотворение – я его просто выдохнул, открыв утром глаза, – следует считать эпиграфом к Четвертой (и последней) книге, то он ошибается: я не собирался делать его эпиграфом. С другой стороны, возможно, ошибаюсь как раз я: это стихотворение может служить вполне уместным эпиграфом, выполнять возложенную на эпиграф функцию.
Тут все дело в том, что сам по себе эпиграф как деталь литературной конструкции и композиции кажется мне вычурным и манерным: это излишнее украшательство, словно ажурные манжеты, аккуратно срезанные с ночной сорочки, на фраке. Или галстук-бабочка на пижаме. Сами по себе манжеты с бабочкой ругать или хвалить глупо; но на фраке (пижаме, соответственно) они неуместны. Слишком много красоты, то есть слишком мало вкуса. Стилистический разнобой. Смешно.
Но есть и момент серьезный: эпиграф выдает неуверенность, нетвердую руку автора.
Я так и не решил: эпиграф перед нами или нет.
Поэтому в данной ситуации я отвлеку внимание читателя вот на что: гораздо интереснее сам факт появления стихотворения. Я и стихи: это вам как? По-моему, примерно то же, что эпиграф к роману. Бабочка и пижама.
С другой стороны, стихи уже появились, нравится это кому-то или нет.
Ладно бы, это была единственная лирическая слабость в тот день. Следом, как говорится, появилось на свет еще одно стихотворение – и я опять посмотрел на себя с некоторым почтением, рожденным, впрочем, из вещества иронии.
Сегодня тринадцатое число.
Осень. Скучновато и сыро.
Я считаю, что мне в жизни повезло:
Я только слышу о войне, я живу среди мира.
Выползу в магазин. Куплю пельменей.
День проведу терпимо и сносно.
Я человек вполне осенний:
Буду думать о тебе и блуждать в трех соснах.
Чтобы мечтать, надо быть сумасшедшим.
Я не таков. Вот тапочки, вот одеяло.
Я живу не будущим, а прошедшим.
Мне и в прошлом тебя,
И себя
Не хватало.
13.09.07
Что-то сошлось в тот осенний день, тринадцатого числа месяца сентября. Что-то сдвинулось в мироздании, тектонический хруст раздался на пересечении космических трасс. Знаю я эти лирические штучки: это не стихи, а симптом какого-то катаклизма.
Но я не насторожился, хотя не могу сказать, что печально сник; я приготовился к неизбежному. Пожалуй, именно так. Едва ли не впервые моим неявным девизом стал не боевой гортанный клич «Посмотрим, кто кого!», а «Будь что будет» (произносится сквозь стиснутые губы, на выдохе, словно стихи). Я еще не сдался, но уже допустил мысль о том, что я могу и не победить. Что это: пораженческие настроения или проявление своеобразного снобизма?
Еще через тринадцать дней произошли события, подтвердившие, с одной стороны, предположение, что стихи появились не на пустом месте, а с другой – повернувшие мою жизнь в такое русло, что стороны света удивились и расступились, а свидетели и судьи потеряли дар речи…
В общем, обойдемся без эпиграфов. Вопреки распространенному мифу о том, что главные, сплошь радостные события (виноват: таинства!) в жизни человека, достоверно описать почти невозможно, – родился, крестился, женился, родил детей, умер и лег под крест, – на самом же деле описывать легко и приятно: события сами по себе выразительны, выигрышны и эффектны, ибо берут за душу, за живое; пройдись по таинствам – и сразу появляется библейская величавость. А вот находиться внутри душевных событий человеку думающему бывает неописуемо тяжело. Иногда ведь антисобытия типа «не крестился» или «не женился» (иными словами, пошел противу правил), то есть события, которые являются строительным материалом личности, – не менее, а даже более содержательны, нежели ожидаемое восхождение по вехам туда, под крест (стиль досточтимой жизни). Жизнь сложилась, если тебя уважают; а удалась – если самому нравится. Удалась, значит, не сложилась…
Впрочем, я предпочитаю более оптимистическую формулу: не сложилась – значит, удалась.
Добро пожаловать в событие, увиденное изнутри моими глазами. Это оказалось возможным потому, что я стал вести дневник. Да, я мог бы описать и приукрасить изложенное в нем безыскусным слогом. Но я растерялся, это во-первых; а во-вторых, я вовсе не собирался кому-либо показывать свой дневник – именно этим он и ценен. Я перестал «писать», создавать текст, но написанное мной просится в роман. Пусть язык документа вплетается в стиль искусства: разве существуют другие способы создания гармонии?
На свете есть вещи, перед которыми искусство должно снимать шляпу и делать глубокий реверанс – именно потому, что факт может стать фактом искусства.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
10
Вкратце философия Раскольникова, напоминающая ребус Великого инквизитора, сводится к следующему.
Сам Родион изложил её ещё в первом своём (из трёх) психологическом поединке с Порфирием Петровичем при обстоятельствах весьма и весьма неординарных. Следователь безо всяких доказательств, сразу, непосредственно, определил преступника – и дальнейшая его, следователя, проблема заключалась в чисто профессиональной доводке дела до соответствующего конца: суда, приговора и проч.
Раскольников в смысле интуиции тоже был не лыком шит и мгновенно учуял, что Порфирий Петрович «знает»: «"Знает!" – промелькнуло в нём как молния».
Разговор (диалог, если угодно) шёл начистоту, задиристо, с взаимными провокациями, шёл не в юридическом, а в философско-психологическом ключе. Русский, душевный разговор, начался вызовом и превратился в поединок. Раскольников не считал нужным скрывать то, что, по сути, являлось мотивами, и даже философией преступления. Почему? Раскольников не признавал себя преступником, он был выше самой ситуации «преступник – следователь – преступление». Ось человеческих координат, ось кристаллизации всех мотивов поведения была принципиально иной, сверхчеловеческой.
О проработанности «вопроса» свидетельствует наличие некой "статейки" Раскольникова (подписанной, впрочем, одной буквой; с дальним прицелом?) с немудрёным названием, по словам Порфирия Петровича, «"О преступлении"… или как там у вас». Статейка свежая, двухмесячной давности. Тогда ещё статья не задумывалась как идеологический фундамент преступления, но в свете последних событий она стала именно программой Раскольникова. Хотя насчёт «не задумывалась» как сказать… Уже мысль, сама по себе мысль, академически-невинные комбинации смыслов потенциально преступны, ибо, как смертельный вирус, оживают в изменившейся среде. Подумал – ещё не сделал; но не подумаешь – не сделаешь.
Дело в том, что – раскроем секрет повествователя, о котором он и сам, возможно, не очень осведомлён, – сознание Раскольникова, равно как и автора с повествователем, отличается подлинной религиозностью, что предполагает постоянное пребывание на границе бытия, здесь и сейчас – с небытием, с вечностью. Такая пограничность делает границы сфер бытия и небытия условными, проницаемыми, а сами сферы – сообщающимися. Маргинальность, развернутость и открытость одновременно в разные миры – вот психология религиозности. И это ощущение невозможно передать, не прибегая к психологии. А психология сама по себе маргинальна: она чревата сознанием, но предпринимает всё, чтобы вытравить из себя сей нежелательный плод, делая вид при этом, что она заботится прежде всего о сознании… «Живая душа» боится только одного: подлинной диалектики, то есть «живого мышления».
Теперь понятно, что психологизм «генетически» связан с религиозностью, первый является способом реализации второго. Вот откуда эти зыбкие семантические планы и ракурсы: вроде бы написал статью – но как бы забыл о ней; вроде бы подписал – но буквой; вроде бы и не замышлял ничего – ан старуха-то убита… Вот пусть разум, с его одиозной логической трёхходовкой, попробует разобраться в этих лабиринтах «живой души», в душных потёмках чужой psyche. «Игривенькая», «психологическая-с» «идейка» Порфирия Петровича в том и состояла: «"Ведь вот-с, когда вы статейку-то сочиняли, – ведь уж быть того не может, хе, хе! чтобы вы сами себя не считали, – ну хоть на капельку, – тоже человеком "необыкновенным" и говорящим новое слово, – в вашем то есть смысле-с… Ведь так-с?"
– Очень может быть, – презрительно ответил Раскольников».
А сейчас самое время предоставить слово самонадеянному разуму. Уже в статейке «намёком, неясно», по словам вдумчивого и заинтересованного читателя Порфирия Петровича, проводится мысль, что все люди «как-то» разделяются на «обыкновенных» и «необыкновенных». Последние «имеют право разрешить своей совести перешагнуть… через иные препятствия», – в том случае, если цель оправдывает средства. А цели такие – в принципе возможны. Значит возможны и ситуации не преступления даже, а всего только перешагивания через препятствия.
Главная мысль Раскольникова («я только в главную мысль мою верю», иными словами мысль без веры – ничто): люди по закону природы (пока что неизвестному) делятся на два разряда: на «низший», на «материал», массу и толпу, и «собственно на людей», которых «необыкновенно мало рождается, даже до странности мало». Низшие, обыкновенные для того только и существуют, чтобы породить «великих гениев, завершителей человечества», оправдание, цель и смысл существования «материала». Люди из разряда «высшего» – по определению, «по природе своей» преступники, ибо призвание их в том и состоит, чтобы переступить то, что мешает прогрессу. Таким образом, речь не идёт о преступлении ради преступления, а о преступлении с прогрессивным и даже с либеральным оттенком. Преступник становится преступником – во имя «материала», в конце концов, а потому, по трезвом размышлении, являет собой нечто вроде качества, образованного в результате диалектического скачка. Родился не преступником – ради «массы» идёт на преступление. Речь идёт о разумном преступлении, о совестливом преступлении – словом, не о преступлении в обычном смысле этого понятия.
Это – собственно теория, согласно которой гений и злодейство – две вещи неразделимые. А дальше начинаются психологические идейки, вытекающие из смелой, гениальной, может быть, генеральной теории. Порфирий Петрович: «Ну как иной какой-нибудь муж али юноша вообразит, что он Ликург али Магомет… – будущий, разумеется, – да и давай устранять к тому все препятствия…»
Раскольников и здесь всё продумал: «ошибка возможна ведь только со стороны первого разряда, то есть «обыкновенных» людей». И они действительно ошибаются. Но это уже, так сказать, издержки того самого закона. И если «обыкновенный», вдруг возомнивший, что он Наполеон, ошибётся, то пусть страдает, пусть испытывает муки совести. «У кого есть она (совесть – Г.Р.), тот страдай, коль сознаёт ошибку. Это и наказание ему, опричь каторги».
А это уже главная мысль романа, как любило выражаться марксистское, доперестроечное литературоведение.
Раскольников, если посмотреть на него с позиций его же теории, оказался лже-Наполеоном, человеком, перепутавшим разряды: «(…) я переступить поскорее хотел… я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался…» Здесь заслуживает внимания то, что Раскольников целиком и полностью остаётся в кругу, очерченном холостым ходом мыслей, его попутал и водит ехидный бес. «Эх, эстетическая я вошь» и «дрожащая тварь» – изгаляется над собой, «обыкновенным», Родион Романович с высоты трона, который ему уже никогда не занять. «Потому, потому я окончательная вошь, – прибавил он, скрежеща зубами, – потому что сам-то я, может быть, ещё сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью!»
Итак, муки совести, «опричь каторги» или даже вне каторги, а также острейшее, до припадков, до помешательства переживание собственной ничтожности – вот внешний, «детективный» сюжет романа. Подспудный, главный сюжет – разрушение теории и высвобождение «живой души». Если ты «предчувствовал», что окажешься «вошью», то зачем же ты, спрашивается, убивал?
А затем и убивал, что «верил в идею» больше, нежели «в Новый Иерусалим», «в Бога», «в воскресение Лазаря».
«Идея» – и «живая душа»: таковы стороны суперконфликта романа. Сюжеты пересекаются, и Раскольников, цепляясь за свою теорию, страданием прокладывает себе путь к возможному воскрешению, терзаясь при этом комплексом Наполеона. Перед нами, опять же, своего рода Евангелие; не случайно окончание срока каторги расчётливым повествователем приурочено к тому возрасту Раскольникова, в каком были совершаемы деяния зрелого Христа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































