Текст книги "Гармония – моё второе имя"
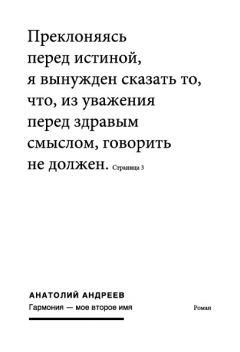
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
5. Утерянное поколение
В женщине ровно столько достоинства, сколько вкладывает в нее находящийся рядом мужчина.
Это означает: женщину надо воспитывать. Как бог – основательную черепаху: любовно, долго, терпеливо. Надо научиться получать удовольствие от того, что рядом с тобой живет женщина – существо без достоинства, но с желанием приспособиться под тебя, стать бессознательным транслятором сознательно выработанных тобой установок. Да, если угодно, она – из твоего ребра. Нет, ребро – это больно. Ну, скажем, из твоих желаний. Тоже больно, но уже терпимо.
Такой тандем – красивый союз, претендующий на разумное существование.
Все остальное – карикатура на союз мужчины и женщины.
Вот это я понимал точно. Но что мне следовало делать с Мариной?
Здесь мой ум заходил за разум. Просто ощущалось скрежетание извилин – и никого результата.
Я никогда не унижался до несгибаемой принципиальности, этой каменной цитадели пустых людей. Поэтому не выставлял Марине никаких предварительных условий. Моя тактика заключалась в том, чтобы она сама выбрала нужную дистанцию между собой и мной (между натурой и культурой, если отбросить скромность: вот почему важно было, чтобы не я отмерил дистанцию рукой-владыкой, а она определилась естественным образом).
Но с точки зрения Марины, между нами не должно было быть ровным счетом ничего, никаких материй, даже слова «дистанция», не говоря уже о психологическом содержании этого понятия. Я и она должны были стать одним целым, чтобы произвести на свет дитя.
Этим целым мы становились охотно и регулярно. По нескольку раз в день.
Медовый месяц настиг нас в начале осени, хотя весь он был как один день жаркого лета.
– Порядочность мужчины не в том, что женщина по своей воле легла с ним в постель, а в том, чтобы не испортить ей жизнь, – сказал я – и именно этой фразой, кто бы мог подумать, открыл сезон любви.
Ничего более умного за это время я не сказал, и даже не подумал. А вот Марина…
Это был бенефис ее тела и ее воли к жизни.
– Вот и не порти мне жизнь. Целуй сюда.
Она подставила мою любимую свою левую грудь – и не угадала. Я сильно вцепился ей в волосы, глубоко, под самые корни, запустив пятерню.
Ее реакция меня удивила, восхитила, умилила – и окрылила. Я делал ей больно, а она сатанела от страсти, превращая темные стороны моей натуры в светлые, но очень сильные желания. Она покорялась мне так, как может покоряться женщина своему единственному в жизни мужчине – завоевателю и повелителю. Ее достоинство было в абсолютном подчинении. На меня же ее беззащитность накладывала обязательства. В конечном счете – она повелевала мной… Кто бы мог подумать.
Потом она целовала все мое тело и приговаривала:
– Люблю – не могу.
И – добывала из меня потаенную энергию, о которой я сам до этого времени не имел представления. В результате – доставалось и ее волосам, и груди, и ягодицам, и всему, что попадало мне под руку.
Когда я (привычка анализировать – вторая натура) в деталях расписывал ей свои самые рискованные ощущения, она прерывала меня теплыми поцелуями:
– К черту подробности…
– Но черт сокрыт именно в подробностях. Не питай иллюзий…
– Не буду питать. Целуй сюда…
Я, не мелочась, зацеловывал ее всю. Сначала она прятала от меня колени, голени, потом я приучил ее к тому, что мужчина, безбожно таскающий ее за волосы, имеет право целовать ее ноги. Единственное, к чему она не подпускала – к пальцам и ступням ног. Может, мужчина, павший так низко, что забирал ее всю безраздельно, – может, мужчина, способный выделывать такие кульбиты был слишком высокой планкой для нее?… Может, это и на нее накладывало обязательства, которым она внутренне сопротивлялась, – так же, как и я?
Однажды, когда я задумался о чем-то своем, темненьком, она, казалось бы, безо всякой причины сказала, глядя в потолок:
– С того дня, как я стала твоей, я ни разу не была с мужем.
Я думал как раз о том, что все ее прелести были доступны не только мне; муж ведь тоже приложил руку, чтобы она расцвела как женщина. Неужели она и ему раскрывалась так, как мне? И по прежнему раскрывается. Мысль эта время от времени становилась невыносимой – и я темнел. А расспрашивать ее об интимной жизни с мужем – какое унижение! Сама же она молчала, обходя эту тему; уж не потому ли, что тема существовала не только в моем воображении? Раз обходит – значит, есть что обходить? И неужели она не чувствует, что я очень хочу, но не могу позволить себе задать терзающие меня вопросы, которые формулировались в минуты темного просветления следующим образом: надеюсь, ты именно со мной увидела небо в алмазах, радость моя? Значит – я твой мужчина? Если это так, то отдаешь ли ты себе отчет в том, что в нашей жизни происходит – длится на наших глазах – чудо?
Неужели она не чувствует присутствия чуда? Исчадие ада…
Эй, кто-нибудь, пусть она не окажется обычной женщиной – с двойным дном, с уймой мелких кармашков, в которых она сама путается и где не предусмотрено ни малейшего отделения хотя бы для капельки достоинства…
Это был единственный пунктик, который пугал меня и омрачал наше будущее с ней. Лишал меня необходимой уверенности.
И вот она произнесла фразу «с того дня, как я стала твоей, я ни разу не была с мужем», которую я раз десять прокрутил в своем воображении, прежде чем спросил:
– Почему ты раньше ни разу не сказала об этом?
– А я должна была? Не вижу в этом ничего исключительного. По-другому я не умею.
Потом добавила:
– Ты у меня третий мужчина. Я никому так не раскрывалась, как тебе. Мне никогда не хотелось всех этих… штучек. Я даже стеснялась этого и… не думала в эту сторону. Я сама от себя многого не ожидала из того, что мы с тобой с такой легкостью вытворяем: это ты мне помог узнать себя.
– И при этом раскрылся сам. Оказывается, мне нравятся женщины… Нет, бессмысленно говорить во множественном числе. Мне нравится женщина, которой не нравится, когда мужчина ругается матом, но при этом она способна вытворять такое, отчего краснеет специально обученный боцман.
– Целуй сюда…
– О, бедный боцман…
Это был прорыв в наших отношениях (хочется обратить внимание: у мужчины прорыв – это смерч от головы к сердцу, и далее вплоть до кончиков пальцев на ногах; у женщины – ветерок от кончиков пальцев к сердцу, и далее, резко теряя силу, куда-то вверх, предположительно – в область головы). Мне стало стыдно за свою, казалось бы, небезосновательную ревность, и я, подлизываясь, стал целовать ей ступни, а потом обрабатывать кончиком языка каждый пальчик на ногах (кстати, педикюр у нее был отменный). Я даже не заметил, что она не сопротивляется. Зато заметил другое: в то время, как я рушил барьеры, ее пальчики правой руки (какой маникюр!) ворожили над областью «маринской впадиной», самым глубоким местом на Земле. Стоны ее становились все более короткими и сдавленными – верный признак того, что скоро разыграется буря. И шторм последовал незамедлительно.
Она оказалась необычной женщиной, совершенно необыкновенной. Разве можно было не обожать такую женщину! Я и обожал ее, завидуя самому себе – своему мужскому языку, мужским рукам, и далее по списку.
Боже мой, а как изумительно дико она кричала! Я сладко колдовал над ее отзывчивыми женскими аргументами, барражировал над выпуклостями и впадинами, доводя Маринку до изнеможения. И чем меньше оставалось у нее сил, тем сильнее она кричала. Вопли прелестницы заполняли всю небольшую комнату, состоявшую из разобранного дивана и наших разбросанных вещей! Теоретически мне было несколько неудобно перед ее внимательными соседями, а практически – было наплевать на всех.
Мне зверски нравился ее запах. Чтобы не расставаться с ним, я ложился у нее между бедер и проваливался в дрему на несколько изумительно долгих секунд. Потом она поворачивалась ко мне спиной, подтягивала ноги к животу, нежными манипуляциями заставляла мое тело следовать линиям ее тела, прячась в меня, словно плод во чреве, – и вкладывала свою грудь мне в ладонь.
Вот скажите мне после этого – какая у нее была грудь?
Грудь отдельно, женщина отдельно – все это не имеет отношения к любви. Это совсем другая анатомия.
…И наступало позднее утро. Комната была пропитана запахами любви. Скоро мы пойдем, наконец, мыться. Но сначала я проделывал свой неизменный экзерсис – выдавал сеанс стойкой утренней страсти (ее сонная покорность пробуждала меня окончательно!), после которого отодрать Маринку от подушки было невозможно еще добрый час. Приходилось с удовольствием заниматься тем, что называется «кофе в постель»…
Но это потом, а сейчас, в начале экзерсиса:
– Кто так сладко стучится ко мне? – мурлыкала она, раскрывая все, кроме глаз – Кто так настойчиво рвется к нам в теремок? Кто? А? А-а-а-а… А-а!
Она сводила меня с ума своим шепотом, а потом и бесстыдными криками. И неизвестно чем больше.
Боюсь, мы служили соседям слишком громким и, опасаюсь, не слишком актуальным будильником.
Однажды, открыв глаза и обнаружив себя на Марине в такой неуклюжей позе, что и ребенку стало бы ясно: дяде просто не хватило сил устроиться поудобней, я спросил:
– А кто был твоим первым мужчиной? Вторым был муж, правильно? Третьим – я. А кто был первым?
– Первый и единственный – это ты.
– Не слышу.
– Слышишь.
– Не слышу. Из-за твоих криков я стал инвалидом по слуху. Еще раз, пожалуйста, и помедленнее… Первым…
– Балда. Первый и единственный – это ты. А формально первым был… В общем, звали его Мишель. Он был чертовски обаятелен. Воспитан. Услужлив. Весь состоял из положительных предрассудков. Все мне завидовали. Только одного, на мой вкус, в нем не хватало: он был не умным. А я была глупой – мне было восемнадцать лет. И я собралась за него замуж. Но вовремя одумалась. Он обиделся – страх Божий! И знаешь, что стал делать, как всякий слабый человек? Мстить! Отвергнутый мужчина стоит обиженной женщины, скажу я тебе.
Гоша на его фоне показался мне умным, решительным. Не слабым. В общем – настоящим мужчиной. Потом я запуталась, и долго не могла разобраться: слабый, не слабый? Умный, не умный? А потом появился ты, и, во-первых, белый свет стал белым, а во-вторых, перевернулся с головы на ноги. Вот чем ты плох? Тем, что совершенен до безобразия. Я погружаюсь в тебя, сколько могу, и чувствую в тебе еще такой запас глубины, что мне даже жутко становится. После тебя быть очарованной другим мужчиной… Нереально. Ты какая-то прививка от мужчин – и одновременно болезнь. Правда, время от времени для меня белый свет опять переворачивается с ног на голову. Когда ты целуешь меня сюда… Или кладешь руку вот сюда…
* * *
Медовый месяц оборвался в тот момент, когда состояние здоровья жены обострилось настолько, что я вынужден был принять решение вернуться домой, хотя бы временно: здесь нечего было обсуждать. По-другому у меня не получалось.
Марина приняла мое решение в штыки.
– Ты предаешь меня. Меня и нашу любовь.
– Хорошо, возразил я. – Я не вернусь в семью, к своей пока еще законной жене. Это будет, по-твоему, не предательством?
– Ты предлагаешь мне оставаться твоей любовницей? Ждать смерти твоей жены?
– Я предлагаю тебе подумать над тем, что ты сейчас говоришь. Я делаю то, чего не могу не делать.
– А как же я? Разве я – не твоя семья?
– Я люблю тебя. Но это не повод предавать близких мне людей.
– Когда любят – не уходят. От любви не уходят, от любимой женщины не уходят. Не уходят! Если бывает иначе, то я ничего не понимаю в жизни. Не говори мне больше про любовь! Ничего не желаю об этом слышать. Уходи!
* * *
Я чувствовал себя представителем утерянного, навсегда утраченного поколения, немногочисленного, состоявшего, собственно, из моей персоны, которое в суете даже забыли, а может, не посчитали нужным, занести в Красную книгу, поколения, не умеющего отделять грудь от женщины, сосок от груди, – затерянного где-то в громадных пустынно-белых пятнах на весьма несовершенной философской карте. Все мои мысли и чувства были такого уровня сложности и плотности, что мне не с кем было ими поделиться. Я был один, возможно, триедин – де факто числился флорой, фауной и святым духом в одном лице, и понятие «родственная душа» было иллюзией по отношению ко мне, не более того. Мутанты они и есть мутанты.
«Не питайте иллюзий», – громко говорил я, обращаясь к себе.
Стремление выделиться из толпы – главный мотив поведения человека толпы. Я не выделялся, нет. Я умел жить в двух измерениях сразу: высоко в культуре, и низко в натуре. Говорю же – мутант. Амфибия. Кентавр. Маргинал. Ланиграм.
Мне надо было не выделяться – а прятаться: это был единственный способ выживания. Маскироваться под человека толпы.
Но иногда я, человек племени сапиенс, существующего всего одно поколение, уставал – и тогда становился легкой добычей расплодившихся и захвативших весь мир прожорливых экономикусов.
Я никогда им этого не скажу, но очень надеюсь на то, что они догадываются, о чем я думаю, когда думаю о них.
А, скажу. Ненавижу всех.
Вот видите, устаю все чаще.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
8
А теперь вернёмся к «наказанию». Оно не просто соразмерно, адекватно преступлению; наказание помогает до конца понять смысл преступления и в этой связи – его бесперспективность в качестве способа решения проблем человека. Кроме того, наказание, как мы уже убедились, существовало задолго до преступления, родилось как бессознательная душевно-психологическая реакция на идею преступления. Наказание сопровождало и сам момент преступления, как диалектическая тень, а впоследствии (см. Эпилог), наплевав на диалектику, не оставило никаких шансов самой идее преступления.
Большие кошмары Родиона начинаются как бы с мелочей. «Почти машинально» (машина, логика, механика, нежизнь, смерть: всё это рядополагающие ассоциации) убив маленькую старушку, он, будучи «в полном уме», почувствовал отвращение к тому, что он делает: «Странное дело: только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что он услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нём. Ему вдруг опять захотелось бросить всё и уйти». Душа сопротивляется. Но пока ещё слабо, неубедительно. Однако и ум уже в момент преступления стал утрачивать прежнюю уверенность и невозмутимость: Раскольников «всё ошибался: и видит, например, что ключ не тот, не подходит, а всё суёт».
И всё же с помощью отвлечённого ума, можно сказать, вследствие целой логической операции, удалось обнаружить ценные вещи.
Но тут происходит второе, «совсем неожиданное убийство» – Лизаветы (незапланированное, непросчитанное). «И если бы в эту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, всё отчаяние, всё безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств, ещё остаётся ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы всё и тотчас пошёл бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нём с каждою минутою. Ни за что на свете не пошёл бы он теперь к сундуку и даже в комнаты».
Но это были цветочки. «Правильнее видеть и рассуждать» – значило по-другому рассуждать, по-сонечкиному, от сердца, приняв к сведению «ужас» и «отвращение». Но если бы он умел так «душевно рассуждать», то и роман бы писать не имело смысла. Роман, а вместе с ним и наказание, и стали способом обучать сердечно-мудрому отношению, излечивать от хворобы внутреннего раскола, когда человек мыслит и чувствует раздельно, будучи правым и в мыслях, и в душе. Вот этот западный вирус раскольничества и решил наказать, на корню извести Достоевский, романтик, не справившийся даже с «великим» инквизитором. На самом деле все эти великие и ужасные инквизиторы, грандиозные расколы и катаклизмы, карамазовщина и идиоты, бесы и агнцы в другом, не в сонечкином, в научном измерении называются взаимодействием не вполне здоровой психики с сознанием – взаимодействием, сообщающим последнему карикатурные импульсы, которые приводят к тому, что созданный воображением писателя воображаемый же мир стонет и корчится, испытывая воображаемые боли. Нет в реальности таких проблем. Но если бы они были, виртуальный человек Достоевского (достоевщина) корчился бы именно так, как и «предчувствовал» великий и ужасный в своих пророчествах Фёдор Михайлович. Вот если бы у человека вдруг выросли крылья, то… Если бы да кабы… Достоевский блестяще специализируется на ощущениях человека, у которого внезапно и вдруг прорезались крылья, и он то взмывает, то камнем низвергается долу. Этакие русские горки. Реальность виртуального – вот тема писателя. Забавная, конечно, тема. Но таких проблем – «убить или не убить?» – для человека нормального не существует. Роман не о том человеке, не о той жизни. Но делать нечего: читаем тот роман, что есть.
Противореча себе же, отметим, что реальный человек даёт-таки повод для такой традиционно-виртуальной интерпретации. Достоевский велик не в том, что он понял и открыл миру некую ипостась реального человека, а в том, что он гениально прописал реальные механизмы превращения реальности в виртуальность и наоборот; при этом он потерял, растворил человека на границе мира объективного и несуществующего, реального и психического. Такова реальная цена за «прорыв» в виртуальность. Достоевский всю жизнь старался проточить хоть малюсенькую дырочку в занавесе, отделяющем жизнь от смерти, этот мир от того, как бы горнего, и, кажется, убедил и себя, и многих других в том, что это ему удалось. Если бы тот мир был, то Достоевский был бы не только великим писателем, но и великим мыслителем. Но поскольку это не совсем так, а, похоже, совсем не так, то великий писатель оказался виртуальным мыслителем. Это даже более невероятно, чем похождения Раскольникова, но это так. Это реальность, в которую трудно поверить; в Раскольникова же верить как раз хочется – но это «сказки», как изволил выразиться Германн, здраво относившийся к чудесам.
Миф о том мире и самого Достоевского превращает в миф: такова реальность.
А теперь вернёмся к реальности романа. Мы оставили бедного Раскольникова в квартире убиенных им Алены Ивановны и Лизаветы Ивановны, за дверью, запертой на крючок; в квартиру остервенело звонил Кох. Но этот Кох чудесным образом «сдурил», проворонил Раскольникова, спрятавшегося в пустой квартире второго этажа, которую, «как нарочно», именно в этот момент покинули рабочие. Воровато крадущийся преступник не встретил никого ни на лестнице, ни в подворотне, ни в дворницкой…
Словом, повествователь с самого начала устроил всё так, чтобы Раскольников счастливо избежал свидетелей, улик – а потом и юридической, уголовной ответственности за преступление, оставив только «эфемерную», моральную-психологическую сторону наказания. Для чистоты эксперимента никаких фактических улик против «протестанта» (протестующего бунтом) Раскольникова в руках следствия не оказалось. Одна психология. Родион Романович ставит свой эксперимент, а повествователь – свой.
Очнувшись от забытья (не от сна: забытьё – отдых уму, но не душе) в своей каморке, среди ночи, Раскольников пережил, натурально, волну сумасшествия. «Уверенность, что всё, даже память, даже простое соображение оставляют его, начинала нестерпимо его мучить. «Что, неужели уж начинается, неужели это уж казнь наступает? Вон, вон, так и есть!»» Предчувствуя, что казнь неотвратима, Раскольников испытал «такое отчаяние и такой, если можно сказать, цинизм гибели», что на всё махнул рукой. Однако через несколько мгновений в конторе квартального надзирателя, куда Раскольникова вызвали по ничтожному поводу, он пережил «минуту полной, непосредственной, чисто животной радости». «Торжество самосохранения, спасение от давившей опасности – вот что наполняло в эту минуту всё его существо, без предвидения, без анализа, без будущих загадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов».
Вот амплитуда ощущений: от «цинизма гибели» до «торжества самосохранения» (собственно – «цинизма» самосохранения). Душевный маятник сразу же отмерил полюса и принялся методично раскачивать теорию Раскольникова, не давая ему покоя. Мгновением позже той минуты, когда Родион Раскольников был охвачен «торжеством самосохранения»: «ему вдруг стало самому решительно всё равно до чьего бы то ни было мнения, и перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту. (…) если бы вдруг комната наполнилась (…) первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни единого человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его. (…) С ним совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. (…) он никогда ещё до сей поры не испытывал подобного странного и ужасного ощущения. И что всего мучительнее – это было более ощущение, чем сознание, чем понятие; непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнию пережитых им ощущений». К «цинизму гибели» тут добавляется «ощущение уединения», мучительное, мучительнейшее – словом, дальше, казалось бы, некуда. Но человеки Достоевского умудряются испытывать ещё более «бесконечные» состояния (а писатель ухитряется их фиксировать). В этих ощущениях, в разительно контрастной инкарнации душевных состояний и состояло, собственно, наказание недооценившего власть души над личностью и увлёкшегося поверхностными выкладками ума Раскольникова.
Возвратившись от квартального и удачно спрятав «конфискованные» у старухи вещи, «схоронив концы» («Всё кончено! Нет улик!»), Раскольников вновь истерически возликовал: «Опять сильная, едва выносимая радость, как давеча в конторе, овладела им на мгновение. (…) И он засмеялся. Да, он помнил потом (в очередной раз загадочно обронённое «помнил потом»: то, что «сейчас» убедительно, «потом», при смене координат, выглядит нелепо; постоянное совмещение хронологическо-психологических планов делает душу космически безмерной, неподвластной жидкой «арифметике» – Г.Р.), что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом, и всё смеялся, всё время как проходил через площадь» (на этой же площади ему потом будет не до смеха – Г.Р.).
Однако «смех его вдруг прошёл» (в самом душившем его смехе, реакции на чрезмерную радость, угадывались спазмы казни). «Вдруг» – в данном случае означает «как бы немотивированно». На самом же деле исчезновение смеха, одного из симпатичнейших проявлений человеческой атрибутики, превратило Раскольникова в человека, который не смеётся, следовательно, не общается, ибо смех есть реакция на удовольствие от общения. В нелюдя. Смех сменился «новым непреодолимым ощущением»: «это было какое-то бесконечное, почти физическое, отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, – гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил…»
«Вдруг» (то есть независимо от сознательной воли, исключительно по наводке бессознательного) он оказался у дома Разумихина, поднялся к нему – и «чуть не захлебнулся от злобы на самого себя, только что переступил порог Разумихина», потому как «сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете» Раскольников был «всего менее расположен в эту минуту». «Общение» с Разумихиным, конечно же, закончилось разрывом. («– Да у тебя белая горячка, что ль! – заревел взбесившийся наконец Разумихин. – Чего ты комедии-то разыгрываешь! (…) Зачем же ты приходил после этого, чёрт?»)
Это была первая «проба» «чёрта» войти в мир людей, из которого он вышел, прорубая дорогу топором, по трупам. Следующий контакт с людьми вышел более, чем озадачивающим. «Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски (…). ««Удар кнута так разозлил его, что он отскочил к перилам (неизвестно почему он шёл по самой середине моста, где ездят, а не ходят), злобно заскрежетал и защёлкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех».
Во-первых, известно, почему он шёл там, где не ходят: он всё делал не по-людски; кроме того, уже скоро Мармеладов будет раздавлен «одной коляской»… Кто знает, чего искал отверженный на «самой середине моста, где ездят, а не ходят». Во-вторых, «укусил бы, кажется» и «злобно защёлкал зубами» говорит о том, что «проклятая мечта» не возвысила Раскольникова над людьми, а низвела его до звериного состояния. Логика наказания – логика не разума, а души, подсознания, psyche – заключалась в том, чтобы отделить изверга, выбросить его из круга людей – до тех пор, пока он сам не затоскует по человеческому облику.
Однако и наказывать следует по-христиански, по-человечески. Вслед за ударом кнута и смехом (что ни говори, а это тоже форма человеческого общения, наказание зеваке или «выжиге», одному из своих, но не преступнику) ему, «ради Христа», сунули двугривенный. Сначала он «зажал» монету – и в этот момент «оборотился» лицом к куполу собора, к небу «без малейшего облачка». Но всё это знаки-знамения повествователя, не несущие для Родиона позитивной информации, а свидетельствующие о его потерях, так как этот «чёрт» находился духовно в иной системе координат. «Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил её в воду; затем повернулся и пошёл домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту». Логично.
А вот и кульминация, где чётко проступает смысл наказания: «Я один хочу быть, один, один, один!» – «в исступлении вскричал» Раскольников уже после своей четырёхдневной болезни (последовавшей за преступлением), «лихорадочного состояния, с бредом и полусознанием». Описанное состояние не было эпизодическим, это был перманентный, негасимый, ровный огонь адова пламени. «Мать, сестра, как любил я их! Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить…» Это уже ощущения после встречи с родными.
Излишне говорить, что одиночество есть психологическая проекция смерти: если можно переживать ощущения умершего, то они близки к отчаянию полного одиночества.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































