Текст книги "Гармония – моё второе имя"
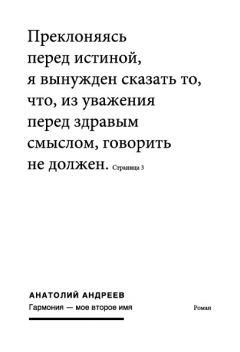
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
* * *
Мне удалось узнать следующее. Марина действительно пропала. Вышла из дому – и не вернулась. Гоша выждал положенные трое суток, после чего как законопослушный гражданин и безутешный муж подал заявление в милицию. По факту исчезновения гражданки N. завели уголовное дело. Я даже видел черно-белую листовку с ее портретом: разыскивается такая-то… Словно преступница. Приметы… В общем, никаких особых примет. Всех, кто знает что-либо о ее местонахождении, просим сообщить по телефонам…
Убивают именно те, кто верит. Не других – так себя. Нет, сначала все же себя, чтобы потом мстить другим.
Что есть альтернатива вере?
Разум.
На портрете Марина была непохожа сама на себя.
Что делать?
Я был настолько умным, что не видел выхода из ситуации – точнее, понимал, что из нее нет выхода.
И еще. Мне казалось, что невозможно быть более одиноким, чем был я до тех пор, как потерял Марину.
Оказалось, что – можно.
И еще. Мне стало казаться, что все последнее время я шел именно к Марине, что вопрос соединения наших судеб был вопросом нескольких суток. Я бы что-нибудь придумал. Я уже был готов к тому, что надо совершить невозможное.
И вдруг – она исчезла. Исчезло мое будущее? Моя жизнь?
Я второй раз неосмотрительно сжег лягушачью шкурку. Эх, дурачина-простофиля.
Я пошел к следователю Степанову и выложил ему все, что мне было известно.
– Раздавим гадину, – сказал человек с лицом, похожим на перевернутую, обросшую бородой грушу. – Клянусь своей красотой. Слово Дяди Степы. Говоришь, на Дон собиралась ехать?
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
15
Концовка романа, та, что перед Эпилогом, задумана как формальная или ложная кульминация, а исполнена как кульминация настоящая. Проблема обостряется тысячекратно и ставится так: «только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить» (Соня) – или жить его заставит вкравшееся-таки в душу некое спасительное предчувствие неправоты сознания?
В первом случае «малодушие» и «боязнь смерти» означали фактическую смерть «живой души»; во втором – живая душа победила разум, подспудно, заочно как-то победила, сохранив жизнь человеку. И тогда жажда жить – симптом победы души, торжества Сонечки, а не форма смерти. Вот это русское пан или пропал и предстояло прояснить до конца.
Жажда жить может выступать и формой смерти…
Давайте честно: повествователь на каждом шагу прибегает к диалектике, но почему же он так панически от неё открещивается? Да потому что диалектика, идеологически, мошеннически не усечённая, диалектика в полном объёме, диалектика тотальная, спроецированная на «модели» достоевщины, неизбежно приводит к разоблачению мистификации романа, к разумному отрицанию его идеологически вывернутой, казуистической, именно смертельно опасной диалектики. Повествователь совершенно справедливо предчувствует это, поэтому спешит объявить диалектику антиподом «живой души». Поступает, кстати, вполне логично и, по законам нелюбимой им диалектики, диалектически обосновывает ненависть к диалектике. Если это не бессознательное «малодушие», то вполне сознательная манипуляция мышлением, то есть то самое духовное преступление, ради наказания которого написан роман. Но жестко настаивать на безальтернативности обрисованного противоречия было бы недиалектичным. Мы, конечно, не собираемся отягощать совесть гениального писателя. Конечно, перед нами классический случай святой простоты: мощение дороги в преисподнюю при помощи благих намерений и веры в свою правоту. Но, как видим, даже святая простота может диалектически обернуться орудием дьявола. Если уж браться за диалектику, то следует делать это не только «по чувству», но и «по уму».
А теперь от диалектики – к «пан или пропал». Раскольников пришёл к Соне «за крестами», чтобы идти «на перекрёсток». Говорит он «усмехаясь», но заметно, что он «как бы сам не свой»: «руки слегка дрожали», «мысли перескакивали», он «заговаривался», «на месте не мог устоять ни одной минуты»… С чего бы это, от малодушия?
Впрочем, кипарисный крестик («кипарисный, то есть простонародный»), сонин крестик он безропотно, хотя и не без некоторого ёрничанья, принял: «– Это, значит, символ того, что крест беру на себя, хе, хе!» Это значит: он ещё не верит, что это не ритуал, а новая суть его. А между тем «чувство, однако же, родилось в нём; сердце его сжалось», «и от чистого сердца, Соня, от чистого сердца» «он перекрестился несколько раз». Как Свидригайлов формально завис между «вояжем» и «женитьбой» (смертью и жизнью), хотя по сути всё уже было предопределено, так и Раскольников малость «диалектически» побунтовал («бунтующее сомнение вскипело в его душе»: может «остановиться и опять всё переправить… и не ходить»), однако делал он то, что делал. «Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего задавать себе вопросы».
«Вдруг» его повернуло затесаться в толпу, и толпа его простонародно приняла: толстяк немец по-свойски толкнул, баба с ребёнком даже попросила милостыню и смиренно приняла неизвестно как (чудом!) уцелевший в кармане пятак: «– Сохрани тебя бог!»
Что это: знамения, первые сочувствующие отклики мира на установку не задавать себе вопросы, знаки прощения?
Следующая сцена и есть неформальная кульминация, делающая весь последующий текст добавочным иллюстративным материалом. Посреди площади, именно там, «где виднелось больше народу», «с ним вдруг произошло одно движение». «Каким-то припадком оно (ощущение необходимого и безотлагательного раскаяния – Г.Р.) к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Всё разом в нём размягчилось, и хлынули слёзы. Как стоял, так и упал он на землю…»
Безличные императивы, которым перестал сопротивляться Раскольников (он, умница, «перестал задавать себе вопросы»), и были воплощением воли Божией. Всё же «к жизни готовят» этот бойцовский дух и сильный характер.
«Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз». После этого спокойно пошёл по направлению к конторе. Разумеется, невдалеке ангелом-хранителем мелькнуло видение («предчувствованное», впрочем): то была Соня в наброшенном зелёном платке, символе страдания, принятого от Катерины Ивановны, и одновременно символе возрождения, связанного со страданием. Она «сопровождала всё его скорбное шествие». Это для Раскольникова «скорбное»; для повествователя это триумфальное шествие, ибо «се человек», «воскрешение Лазаря» и путь в Новый Иерусалим одновременно. Излишне говорить, что «он почувствовал и понял в эту минуту, раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдёт за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Всё сердце его перевернулось…»
А тут ещё, в конторе, известие о самоубийстве Свидригайлова (свидетельство нежизнеспособности теорий, поданное в нужное, наинужнейшее время)… Кто, кто плетёт кружева смыслов, справедливых, как арифметика, и убедительных, как воскрешение Лазаря?
Раскольников вышел из конторы, сошёл с лестницы – но куда ему было идти? Не переписывать же роман заново. Дикий взгляд Сони довершил дело. Раскольников поднялся наверх. «Тихо, с расстановками, но внятно»: «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру её Лизавету топором и ограбил».
«Со всех сторон сбежались.
Раскольников повторил своё показание».
Далее следует, так сказать, соблюдение художественных формальностей.
Эпилог. Душещипательный процесс. Трогательные свидетельства неординарного великодушия и жертвенности Раскольникова: он, как вдруг выяснилось, ухаживал за «расслабленным» отцом умершего товарища, спас во время пожара двух малолетних детей; судя по всему, Раскольников с толком бы распорядился добытыми им деньгами, если бы разумом решались проблемы человеческие.
Сибирь. Каторга. Муки нераскаявшегося Раскольникова. Болезнь, потом почти выздоровление (всё это – на фоне невидимого присутствия Сони).
В один из ясных тёплых дней (шла вторая неделя после святой) Раскольников где-то около семи часов утра в перерыве между работой вышел на берег «широкой и пустынной реки», которая разделяла его с другими, свободными, полудикими людьми (виднелись кочевые юрты), «точно не прошли ещё века Авраама и стад его».
«Вдруг подле него очутилась Соня», в зелёном платке. «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к её ногам. Он плакал и обнимал её колени». «Заря обновлённого будущего, полного воскресения в новую жизнь» сияла на их бледных и худых лицах. «Их воскресила любовь».
Так под подушкой Роди появилось Евангелие (правда, с опережением событий, незадолго до своей болезни, а не в этот вечер: пути душевные неисповедимы). «Он (…) не мог в этот вечер долго и постоянно о чём-нибудь думать, сосредоточиться на чём-нибудь мыслью; да он ничего бы и не разрешил теперь сознательно; он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое».
Аминь. Чудеса комментировать нет смысла (ибо тогда нет смысла в чудесах), они выше человеческого понимания, как жизнь выше диалектики.
И тут должна начинаться новая, недиалектическая история…
Вряд ли она могла быть столь же интересна, как история с элементами стихийной, живой диалектики. Во всяком случае новая история пока никем не написана.
Нам же представляется, что и писать её незачем, ибо новая история будет мало чем отличаться от Нового Завета.
7. Литература с синдромом дауна
Какую литературу сегодня читают?
Какую литературу сегодня профессионалам взять в руки не стыдно, а читателям, рядовым потребителям литературы, интересно?
Одним из знаковых имен в ряду востребованной литературы сегодня является, несомненно, имя Людмилы Улицкой. Ее последний роман «Даниэль Штайн, переводчик», вышедший в 2007 году, уже наделал много шума и наделает еще больше.
В принципе рецепт успеха достаточно прост. Талант? Нет, не о таланте идет речь; талант не мешало бы иметь, более того – он должен быть, но он должен быть не слишком большим, чтобы не мешал нравиться просвещенной и непросвещенной публике. Талант должен быть умеренным, автор – умеренно скромным, иначе прослывешь выскочкой, что публику, обожающую нагловатых чемпионов, отчего-то раздражает.
Но талант – это не рецепт успеха. Гораздо важнее другое: во-первых, надо уметь рассказывать простые истории, которые непросто понять, истории «с двойным смысловым дном» (а искусство творить притчи – это в большей степени ремесло, нежели талант); во-вторых, это должны быть истории о том, как добро тщится победить зло, истории о странных людях, обреченных брести по жизни корявой тропой милосердия. Чем хуже и горестнее становится таким персонажам, тем приятнее и комфортнее читателю. Катарсис.
И тут уже дело не в Улицкой. Она не только не изобрела рецепт успеха, она стала его заложницей, практически рабыней и наложницей (так же, как, скажем, суперуспешный Куэльо). Коллективное бессознательное требует сегодня темноватых историй о милосердии. Почему?
Во-первых, потому, что мир (читай – человек) безнадежно жесток. От литературы сегодня требуется не изощренное искусство многомерно отражать жизнь (именно в этом специализируется подлинный талант), а витиеватое искусство ее не замечать. Улицкая в своем новом романе так долго и безнадежно говорит о милосердии, что становится ясно: завтра снова война. Перед нами, собственно, еще одна вариация на вечную тему: хочется верить в то, что вера спасет мир.
И во-вторых… Сам факт безнадежной веры есть верное свидетельство того, что люди перестали верить в разум. «Путь разума завел меня в беду; теперь путем безумия пойду…» Поэтический культ безумия – это новая стратегия нового и новейшего времени. Успех романов Улицкой является косвенным доказательством того, что многомиллионные массы читателей, бессознательные потребности которых она бессознательно выражает, перестали делать ставку на разум.
Что же тогда спасет, если не разум?
Милосердие. Чудо. Что-нибудь неразумное и нерациональное, неизвестно откуда взявшееся. Что же еще?
Именно поэтому современное искусство так часто делает своим героем если не человека с болезнью дауна, то с характерно дауновской симптоматикой. Люди, страдающие этим заболеванием, совершенно неагрессивны, абсолютно непосредственны и по определению не способны причинить другому боль. Их окружает миф о том, что они не могут быть плохими людьми. Иными словами, хороший человек – это добрый человек. Думающий он или не думающий, разумный или неразумный – это уже становится неважным. И литература, ориентированная на тотальное милосердие, фактически призывает подражать даунам. Поменьше думать. Верить. Любить ближнего. Такова литература с синдромом дауна.
Роман Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» подкупает не железной логикой, а стремлением сломать всякую объективную (читай: насильственную) логику, железную и не очень, оставив на ее месте некую уверенность в том, что следует искать «другую» логику. Надо как-то «по-другому» смотреть на вещи. В художественном мире, который «монтажирует» писательница (композиция романа безумно сложна, что, очевидно, отражает сложность и запутанность мира), все правые фатально виноваты, а виноватые правы уж тем, что не настаивают ни на какой правоте… Хаос?
Хочется сказать, милосердный хаос. Одним из элементов романа являются письма самой писательницы. В одном из писем читаем: «Наше сознание так устроено, что отрицает нерешимые задачи. (…) Но если нет решения, то хорошо бы хоть увидеть саму проблему, обойти ее с заду, с переду, с боков, с верху, с низу. Она вот такая. Решить невозможно. (…) Очень хочется понять, но никакая логика не дает ответа. И христианство тоже не дает. И иудаизм не дает. И буддизм. Смиритесь, господа, есть множество неразрешимых вопросов. Есть вещи, с которыми надо научиться жить и их изживать, а не решать». Вот писательница и показывает нам неразрешимые проблемы жизни в разных ракурсах: с заду, с переду, с боков… Герои ее книги, евреи, попадают из гетто в лагеря, из лагерей – в Израиль, из Израиля – в Америку… Мелькают Польша, Литва, Россия. Множество героев, множество историй, изложенных в письмах, разговорах, воспоминаниях, документах, дневниках, беседах. Большая политика, частная жизнь, любовь, ненависть. Католики превращаются в иудеев, иудеи – в католиков. Все пестрит и клубится. Улицкая не решает, а буквально «изживает» так называемый «еврейский вопрос» – делает это честно, деликатно и впечатляюще. Постепенно читатель понимает, что книга вовсе не о евреях, не о национальных проблемах, а о людях, которые запутались, пытаясь решить для себя вечные, «неразрешимые вопросы». И главный ответ на все фундаментальные вызовы и вопросы – судьба Даниэля Штайна, еврея-кармелита, солдата милосердия.
Милосердие – вот ответ и христианам, и иудеям, и буддистам, и мусульманам, и атеистам. С этим ответом можно не соглашаться, однако с ним трудно спорить. В пространстве вечных вопросов не существует однозначных ответов, но существуют ответы убедительные.
«Даниэль Штайн, переводчик» – вполне убедительный ответ (в рамках «другой» логики).
Культурологическая проблема милосердия еще глубже. Почему именно сегодня, в век расцвета демократии и во времена экономического процветания, мы вдруг хором заговорили о кризисе разумного отношения к жизни и актуальности веры?
Иными словами, почему милосердие как система ценностей (трогательное производное от веры в добро) связано с демократией как типом общественного устройства?
Да потому что субъект демократии – маленький человек с большими потребностями – оказался существом принципиально не думающим. Ему бы пожрать и поспать, и все права такого человека сводятся к двум простеньким заповедям: хлеба и зрелищ. Сделать хорошим маленького человека можно только одним способом (кстати говоря, экономическим выгодным, приносящим большие барыши): загипнотизировать добром, опираясь на иррациональную технологию. Вот откуда бесчисленные мантры о милосердии, заполонившие литературу, столь же лицемерные, сколь и безнадежные. Кажется, что уже сама демократия освящена милосердием. Тут вполне уместно вспомнить притчу о курице и яйце. Демократия и милосердие: что появилось раньше?
В таком случае следует назвать вещи своими именами: под разговоры о милосердии неспособность думать становится «способностью не думать» – самым расчудесным образом превращается в достоинство. Мыслящий, разумеется, превращается в неверующего. Милосердная литература легализует право демократа не думать и объявляет горе заслуженной карой уму (безо всякой иронии: милосердие трудно уживается с чувством юмора). Да что там! Думать, размышлять становится формой сопротивления демократии. Мыслишь, следовательно, борешься против тоталитаризма демократии. Умный – следовательно, не демократ. Ужас неописуемый.
Милосердие, якобы, призвано уравновешивать жестокость, являясь единственной альтернативой, пусть и мифической. Либо жестокость – либо милосердие. Что должен выбрать добрый человек?
Добрый человек спешит выбрать милосердие, не подозревая, что оно является оборотной стороной «отвергаемой» жестокости. Добрый не видит этой диалектической взаимосвязи, ибо сама крамольная мысль о единстве противоположностей просто не может прийти ему в голову.
Таким образом, милосердие, будучи в данном контексте модусом зла, «позиционирует» себя как великая культурная ценность. Именно подобное милосердие, производное от желания не думать, погубит людей. Эта дорога в рай непременно приведет в ад. Такое милосердие кокетливо считает своей «дьявольской» противоположностью ненависть и жестокость; на самом деле полярной противоположностью милосердию, фактически покрывающему и провоцирующему жестокость, выступает способность мыслить ответственно, диалектически, не поддаваясь на провокации быть милосердным по отношению к глупости; полярной противоположностью сиропному милосердию выступает умное милосердие, которое всегда сурово.
Сиропное милосердие есть самая настоящая угроза жизни на земле сегодня. Безобидная и, казалось бы, надрывно, по-бурлацки тянущая воз с добром литература, сопровождающая свои милые перформансы характерными заунывными рефренами типа «ну, давайте жить дружно», «ну, давайте встанем в круг», «ну, давайте возьмемся за руки», плоха только одним: она не видит ничего плохого в том, чтобы человек не думал, не стремился быть личностью. Зло в том, что милосердие не видит истинных причин зла.
Сверхзадача такой литературы: человек должен читать книги, чтобы быть милосердным. Демократичным. Добрым. Верующим. Равнодушным к философии. Потребление книг становится формой невежества.
Сверхзадача литературы как языка культуры: человек должен читать книги, чтобы научиться мыслить. Познавать себя. Тогда только его просвещенной душе откроется милосердие, которое должно реально защищать жизнь, а не делать вид, что делает все возможное в этой безнадежной и бессмысленной затее.
Скажи мне, какую литературу читают сегодня, и я скажу, есть ли у читателей завтра.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
ЭПИЛОГ ПОСЛЕ ЭПИЛОГА
Преступление Раскольникова – в широком, космическо-экзистенциальном смысле – состояло не в том, что он убил старуху: это, конечно, ужасный, но всего лишь уголовный аспект преступления. Еще более ужасный аспект – нравственный, ибо убийца не раскаялся и не считал нужным раскаяться в содеянном.
Но и это всё – следствия главного, главнейшего преступления, которое состояло в том, что Раскольников Родион Романович защищал саму идею преступления, саму идею поставил выше жизни. Факт подчинённости и подотчётности духовного космоса идее, разуму, отвлечённой диалектике, какой-то произвольно случившейся комбинации смысла – вот главное преступление, ради развенчания которого писался один из величайших в мировой литературе романов. Всю дышащую амбивалентной сложностью натуру человека (вспомним полемически смутные, чреватые смыслами вперемешку с непередаваемой гаммой ощущений состояния героя) Раскольников свёл к «арифметике», к логической мотивированности – именно это не простилось и не могло быть прощено преступнику, от которого с омерзением отворачивались даже уголовники-христиане, имеющие на совести крови и поболее, чем безбожник Раскольников. «Содержательнейшие» состояния томления, вожделения, наития, предчувствия предчувствий свести к «чёрствой» и «пустой» логике – это ли не преступное выхолащивание души?
Игнорирование психической содержательности человека и возвеличивание до степени приоритетных рассудочных функций – вот «философское» преступление Раскольникова, преступление не столько перед жизнью даже, сколько перед тем, кто её дал. Мыслить – бросать вызов Богу: приговор или диагноз, ставший уже банальным в мировой культуре. Соответственно, наказание такого особо опасного преступника осуществлялось не через исправительные учреждения, а путём обращения (возвращения?) в лоно Христово, в царство немысли, предмысли, где недоказуемые априорные ощущения предпочитаются безупречно доказанным концепциям. Уберите «томления» и «вожделения», всё это одухотворяющее вещество жизни – и вам просто нечем крыть, абсолютно нечего противопоставить хищному уму. Поэтому логике Раскольникова противостоит не другая, более совершенная логика (это внешний, идеологический уровень противостояния), а собственно плоть романа с его исключительным вниманием к психологическим состояниям героя – состояниям, непосредственно свидетельствующим о наличии души (в проявлениях ума души нет, что, согласимся, справедливо). Собственно, состояния эти (муки совести, души) и есть наказание Раскольникова.
Произвольность, ирреальность мотивов преступления настолько далека от нормы, что Достоевскому пришлось изрядно потрудиться, чтобы страдания полусвихнувшегося героя могли захватить людей, дружащих со здравым смыслом.
Герои Достоевского изначально и по определению далеки от полюса душевной гармонии, сбалансированности. Вызывающая неадекватность реакций на мерзости жизни оправдывается тем, что реакция исходит из представлений о высшей справедливости, оправдывается, так сказать, высокой болезнью. А то, что реакция зашкаливает, это даже хорошо, ибо свидетельствует об озабоченности клиента.
Достоевский вольно или невольно вместе с неестественным стремлением к абсолютной справедливости (идущим, кстати, от идеи) поэтизировал также неадекватность и неуправляемость ставших неестественными реакций, рассогласованность психики с действительностью, подавая это как неукротимое стремление к правде. Условный, истерический реализм Достоевского сводится в плане содержательном к реализму психопатологии.
Это особенно отчётливо просматривается в образе «положительно прекрасного» человека – Софьи Мармеладовой. Она – отдельно существующая ипостась Раскольникова, его живая, неискалеченная душа. Если быть точным – вымученная идея «живой души», не самодостаточный образ-персонаж, а некая рубрика или параграф, рупор и свод авторских идей.
В данном случае монотонная Соня «интересна» нам своей функцией – от начала и до конца схематичной функцией: она есть олицетворение «добра». Гордыня ума героев, Софии, никогда не приводит к счастливому финалу. Блаженны нищие разумом (они же, по Достоевскому, богаты духом).
Соня есть тот самый «сюрприз», тот самый аргумент, а лучше сказать, общий логический ход, который является коронным в идейном противостоянии разуму. Ход этот многократно апробирован, чтобы не сказать затаскан, он архетипичен, а потому тривиален. Если это последний решающий аргумент, то значит это только одно: разумных аргументов против разума попросту нет. Сам факт иррационального нельзя рассматривать как довод против рационального (а это и есть, по существу, главный пункт художников всех времён и народов).
Превратив Соню в аргумент, писатель поглумился в том числе и над законами художественности. Соня, строго говоря, и есть «эстетическая вошь», продукт разложения эстетики классического реализма, то самое пресловутое насилие над реальностью. В результате мы вынуждены анализировать не реальные смыслы «живого» образа, часто противоречащие конструкции романа, а разбирать спекулятивный реестр условных пороков и неописуемых добродетелей.
Достоевский отвлеченен до того, что нет на страницах его романов мужчин и женщин, есть жертвы неправедной борьбы с «живой душой» и выхолощенная плоть условных антиподов. У героев Достоевского нет пола, строго говоря. Пол им не нужен, он мешает, отвлекает. Им нужна чётко промаркированная позиция в противостоянии ада – рая. Вот почему Достоевским чаще интересуется богословие, нежели непредвзятое, неангажированное литературоведение. Достоевский сам себя сделал инструментом в борьбе за души, а инструмент такой всегда и только – миф. Достоевский творит мифы – и сам превращается в миф. Относиться к нему как к философу – означает самому становиться мифотворцем.
Философствование Достоевского опирается на тезис об антагонизме «диалектики» и «жизни». Лицемерный, в сущности тезис, ибо философии («диалектике») отводится чисто служебная роль под эгидой религии, обладающей якобы уникальным каналом связи с божественным, высшим миром. Психология такого конструирования понятна: в низшем мире верхней границей жизни является смерть, и это не только не укрепляет душу, но, наоборот, делает её болезненно-напряжённой, и тут ни математика, ни позитивно ориентированная философия не защитят. Защита приходит не с плацдарма знаний, а от веры, дающей надежду на преодоление смерти, детища второстепенного мира, – вечной жизнью, если не в Абсолюте, то около него, так сказать в его конторе, а не в конторе Порфирия Петровича.
«Преступление» – это философия, а «наказание» – уже реакция религиозной философии. Чтобы так запутать проблему, надо действительно впасть в детство, думая, что «по-взрослому» держишь Бога за бороду. Однако оборотной стороной детских заблуждений часто выступают пророчества, предчувствия – основа художественных открытий, психологическая основа чуда.
Без диалектики, без философии разобраться в «философии» Достоевского невозможно: можно только разделять его иллюзии, мифологизируя при этом человека, творчество и личность самого Ф.М. Достоевского, гениального путаника библейского масштаба.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































