Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"
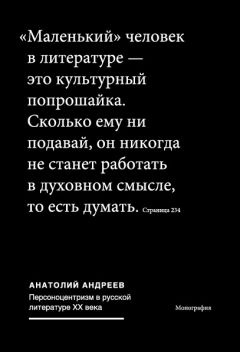
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Ответ прост, и он покоробил бы благородного Аносова, блаженно незнакомого с логикой бессознательного: а затем, что искать счастья в чувстве, в любви, которая «сильна, как смерть», заполнять «каждое мгновение дня» «мечтами о Вас… сладким бредом», гораздо легче и приятнее, нежели не уронить человеческое достоинство, оберегая его умом и силою характера. Неумение получать наслаждение от выстраивания личности, от самопознания, от страсти называть вещи своими именами, от возможности любить и быть мужчиной – все это толкает к блаженству примитивному, чувствительно-сентиментальному и беззащитному, на которое грешно и кощунственно поднять «палицу разума».
Писатель Куприн, очень и очень неглубокий художник, весьма поверхностно затронул и отразил реальную природу человека с ее реальными «хорошими» и «плохими» свойствами. Романтизм, основанный на императиве благих намерений, – наиболее типичная и популярная в таких случаях краска и стратегия. А уж куда ведут благие намерения – это дело десятое. Мечтать не думать. Поэтизация и абсолютизация исключительно женского начала (хорошего много не бывает), той любви, которая «должна быть трагедией», «величайшей тайной в мире», которой не должны касаться «никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы», – это заблуждение сродни религиозному. И то, и другое эксплуатируют любовь. Любовь, по словам одного из героев «Поединка», «станет светлой религией мира». Звучит очень благородно и прогрессивно. Да такая бездумная и жестокая по отношению к человеку любовь только и может быть «трагедией», «величайшей тайной в мире» etc. Такая любовь и кончается только смертью. Из любви к жизни – выбираю смерть… Ужасно благородно.
Возразим повествователю: надо уметь любить жизнь, надо разумно любить жизнь, надо разумно любить, ибо все, что ни делает культурный человек, – он делает разумно. Разумно – не обязательно с «расчетами, компромиссами и жизненными удобствами», «пошло», как и не обязательно отсутствие всего вышеперечисленного следует считать высоким романтизмом (то есть рафинированным гуманизмом). Это не более чем издержки «крутой», бескомпромиссной женской логики. Разумно – значит с чувством меры, а не с презрением к чувству меры.
Аносов – проповедник «такой любви, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость». Аллах акбар, как говорится в подобных случаях. Если бы повествователь понимал, что он сказал устами героя, то и спорить было бы не о чем. Радость, кайф, блаженство подавай – но только не труд. Ну что за труд отдать жизнь? «Маниаку» это – за милую душу. А вот думать, понимать – трудиться в поте лица – тут уж увольте. Пусть думают те, кто не способен любить и мечтать.
Вот что скрывает повествователь, когда заставляет горячиться темпераментного дедушку. Некое подобие глубины появляется в рассказе тогда, когда иллюстрацией любви «бескорыстной, самоотверженной, не ждущей награды» выступают две истории, «два случая похожих», один из которых был «продиктован глупостью, а другой… так… какая-то кислота… одна жалость…» Золотые слова! В первом случае с молодым «новоиспеченным» прапорщиком закономерно произошло следующее: этот «свежий и чистый мальчишка» «положил свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы». «Вдобавок – морфинистки». Она была жена полкового командира. «Костлявая, рыжая, длинная, худющая, ротастая… Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома». Но сердцу не прикажешь. Разве можно управлять таким чувством, как любовь, и разве мужчина был виноват в нем? «Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на мороз звать ее лошадей». Словом, та самая любовь, которая есть величайшая тайна в мире.
«К рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних, испытанных пассий». А что же «раб и кавалер»? А он, «говорят, целые ночи простаивал под ее окнами». «Ревновал он ее ужасно». Финал этой истории, «продиктованной глупостью», был предсказуем и жалок. Чтобы доказать свою любовь «старой лошади», юный прапорщик бросился под поезд. «Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало». «– Ох, какой ужас! – воскликнула Вера». «И пропал человек… самым подлым образом… стал попрошайкой… замерз где-то на пристани в Петербурге…»
«А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж – ничего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался: «Оставьте, оставьте… Не мое дело, не мое дело… Пусть только Леночка будет счастлива!..» Такой олух!» Чудо и тайна. «Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двумужественном браке». Это ж сколько надо мужества, чтобы жить в «двумужественном» браке ради счастья любимой! А дальше Вера услышала самое жалкое: «Ты, может быть, думаешь, что этот капитан (муж Леночки – А.А.) был какая-нибудь тряпка? Размазня? Стрекозиная душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом. Под Зелеными Горами он шесть раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от двухсот человек осталось только четырнадцать. Дважды раненный – он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него богу молились.»
«Но она велела… Его Леночка ему велела» «ухаживать за своим любовником Володей», «за этим трусом и лодырем Вишняковым»: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится – уйду из дому и никогда не вернусь. И детей заберу». И храбрый капитан ухаживал. «На ночлегах под дождем, в грязи, он укутывал его своей шинелью» – «как нянька, как мать». Вот он был какой. Любовь стала для него светлой религией.
Можно вспомнить и третий случай: жалкую историю с подпоручиком Ромашовым из «Поединка». Правда, это несколько иная история, и тем не менее Ромашов вполне годится на роль того самого главного любовника. Самое интересное во всех этих случаях то, что писателю и повествователю лучше всего удаются образы отъявленных стерв, «этаких полковых Мессалин», которые издеваются над святой и вечной любовью (и поделом), предают ее и цинично эксплуатируют тех, кто имел глупость полюбить раз и навсегда и не имел ума и достоинства, чтобы не превращаться в шута горохового.
Повествователю бы и Желткова сделать «попрошайкой» или «размазней», на худой конец – «стрекозиной душой». Так ведь нет, смертию смерть, якобы, попрал. Как будто для того, чтобы «самым подлым образом» уйти из жизни надо много ума и силы духа. Желтков едва ли не реабилитировал в глазах повествователя весь род мужской, хотя на самом деле имел к последнему косвенное отношение. «Умиротворенное выражение» на лице покончившего с собой Желткова княгиня Шеина «видела на масках великих страдальцев – Пушкина и Наполеона». Ни больше, ни меньше. С помощью женской логики чиновник контрольной палаты попал во вполне приличное мужское общество.
Повествователь не понимает, что можно быть львом и тигром в отношении турецких солдат и одновременно «стрекозиной душой» в отношении Леночки. Храбрость на поле брани и в делах военных не есть свидетельство того, что и на любовном фронте герой завоюет и покорит сердце дамы. Можно быть властелином и господином в бою – и в то же время рабом чувства: на тебя молятся солдаты, а ты с протянутой рукой выпрашиваешь любви и молишься на «нехорошую» Леночку, на свою слабость. Это разные измерения человека, разные стороны характера и силы духа – наблюдение тонкое, однако употребленное повествователем не по назначению. Сила и слабость, гордость и «попрошайничество» уживаются в человеке. Это правда. Но на какой основе уживаются, и при чем здесь великая тайна любви?
Дело в том, что героизм – это своего рода безрассудство, эмоциональный порыв, это «сила минус разум», что в результате дает слабость. Герой привык служить не рассуждая: родине, любви – не важно; главное при этом – переживать чувство долга, подчиняться чувству. Оборотной стороной героического как отношения чувственно-эмоционального является благоговение перед любовью. Герой в бою и неудачный герой любовник – это разные стороны одной медали, «сила» и «слабость» героя растут из одного корня. Перед нами человек чувствующий, но не мыслящий. Не мужское это дело – терять голову, в бою ли, в любви ли. И сила, и слабость героя – сомнительный аргумент в пользу любви.
Любовь, эта светлая религия мира, может дать крылья – а может унизить и покалечить, если мужчина превращается в пажа и раба. Вот и Желтков туда же: «Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность». Любовь – может быть и зла. Любовь нельзя абсолютизировать: романтизм может обернуться «кислотой» и «мелодекламацией» (выражение Николая Мирза-Булат-Тугановского) по законам диалектики, живой мысли. По законам философии, честно отражающей жизнь. Вот этой злой иронии судьбы никак не хочет замечать повествователь, убежденный, что есть «любовь как таковая», «настоящая»; все остальное – жалкая имитация великого чувства, суррогат и подделка. А любовь бывает разная – это во-первых. Во-вторых – и не в любви дело, когда попирается достоинство. Скажи мне, кто ты и я скажу, какая у тебя будет любовь. Генералу – генералово, капитану – капитаново, прапорщику – прапорщиково, а «телеграфисту», соответственно, желтково. Чувство невозможно отодрать от человека и распорядиться им как «вознаграждением». Качество чувства зависит от качества человека: вот глубокая постановка проблемы. Но это уже не Куприн, это иная тема, а посему не станем отвлекаться.
«Гранатовый браслет» построен, с одной стороны, на тяге к мечте, а с другой – на страхе и боязни реальной природы человека. В общем и целом – на лжи. Нам угодно в школе делать вид, что важна только мечта; нежелание понимать человека, будто бы, не имеет никакого отношения к жизни. Главное – мечта, благие намерения и благородные побуждения. А то, что они мостят дорогу в ад, – мелочи и пустяки, дело десятое. Стоит ли заострять на них внимание духовно озабоченных юношей и девушек?
Так ученики получают первый урок реальной жизни – урок лицемерия на уроках, где преподается высокая литература, призванная бороться прежде всего с лицемерием. После этого стыдно становится неглупым ученикам глупой мечты, превращающей человека в ничтожество. Жизнь, как и положено, оказывается привлекательнее, богаче, содержательнее «жалкой» мечты. Мечтать тоже надо уметь, и делать это, конечно, следует разумно.
Если все изложенное здесь кто-то изволил понять в том смысле, что «Гранатовый браслет» вовсе не следует читать, и надо поторопиться с тем, чтобы вычеркнуть его как вредоносную мелодраматическую «кислоту» и «декадентство» (Николай Мирза-Булат-Тугановский) из истории русской словесности, то мы вынуждены его разочаровать. Не мечтайте, читатель. Читать «Гранатовый браслет», конечно же, стоит, но не с целью отрабатывать способность благоговения, а с целью прививать умение анализировать. Надо изучать это произведение, как, впрочем, и все остальные, с пользой и расчетом. Такое изучение приносит впоследствии жизненные удобства: наслаждение от правильно «поставленной» системы духовных ценностей.
Образ Первой мировой войны в художественной структуре поэмы С.А. есенина «Анна Снегина»
Тема Первой мировой войны не заняла в русской литературе того места, которое, по идее, должно было занять подобное эпохальное событие мирового масштаба. Эта война не стала фактором духовного потрясения нации, способным породить феномен «потерянного поколения», как это случилось в странах Западной Европы; такого рода феномен не мог не отразиться на европейской духовной культуре в целом и в художественном творчестве в частности (особенно в литературе и живописи – достаточно вспомнить одно только чрезвычайно продуктивное направление экспрессионизм).
И вовсе не потому, что Россия не принимала участия в мировой войне или не ощутила всей «прелести» бессмысленной бойни. Принимала и ощутила, конечно. Более того, если говорить о некой абсолютной величине потрясения, вызванного войной, о потрясении, которое может быть измерено и описано в соответствующих категориях по шкале экономической, политической, нравственно-философской, то Россия, безусловно, в полной мере ощутила на себе воздействие мирового катаклизма, соприкоснулась со всем комплексом проблем, связанных с понятием «война мирового масштаба в ХХ веке».
Однако Первая мировая, повторим, парадоксальным образом не стала фактором колоссального воздействия на нацию, не вошла в ментальность русских как судьбоносная точка отсчета. Почему?
Ответ, каким он видится гуманитариям-литературоведам, лежит на поверхности: Первая мировая война в исторической ретроспективе не стала самоценным и центральным событием для Российской империи, она явилась лишь прологом к потрясениям и катаклизмам такого масштаба, что катастрофа Первой мировой просто померкла на фоне Октябрьской революции, гражданской войны и, мягко говоря, «проблем», связанных с последующим построением нового общества. Исторический шок от внутриреволюционных событий на одной шестой части суши планеты Земля оказался для русских несопоставимо большим, нежели шок от Первой мировой, как это ни прискорбно. Отечественной стала не Первая мировая война, а Великая Октябрьская социалистическая революция. Первая мировая оказалась в тени Великой Октябрьской.
Показателен в этой связи художественный опыт А.А Блока (который, кстати, служил вблизи фронта, на Пинщине, где и получил звание офицера): на революцию он мгновенно откликнулся знаковой поэмой «Двенадцать» (январь 1918 г.), куда «упрятаны» отголоски войны, а вот события Первой мировой не стали непосредственным поводом для создания философско-эпического полотна. «Черный ветер. Белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем белом свете» – это всемирный резонанс от революции в одной, отдельно взятой стране, а не от мировой войны.
Разумеется, мы отдаем себе отчет, что затронутая нами тема обладает известным потенциалом исторической неоднозначности. Возможно, не будь пролог таким кровавым, не было бы и самой революции. Но здесь, увы, уместно вспомнить о сослагательном наклонении в истории и в этой связи уточнить: мы говорим не о фактической историко-культурной значимости Первой мировой, не о ее удельном историческом весе, не о восприятии этой войны как звена мировой истории (и о сопутствующих такому восприятию спектру исторических ракурсов); мы говорим о ее восприятии русским литературно-художественным сознанием. Нас интересует то, как виделась и оценивалась война русскими писателями и поэтами.
Почему мы остановили свой выбор на лиро-эпической поэме Сергея Есенина?
Во-первых, выбор значительных и знаковых произведений, в которых мотивы, связанные с Первой мировой, стали художественной тканью или, если угодно, фактором художественности, у нас не особенно велик. События Первой мировой «аукнулись» в немногих произведениях Л. Н. Андреева (далеко, кстати, не выдающихся по своему художественному уровню), впечатляюще и концептуально отражены в эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон», обозначены в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго», исследованы в известной хронике А.И. Солженицына «Красное колесо», так или иначе затронуты в прозе К.М. Паустовского, И.П. Катаева, М.М. Зощенко, в некоторых других заметных, оставивших свой след в литературе произведениях. (Отметим, что «биография писателя и Первая мировая война» – это особый поворот темы, который является для нас второстепенным.)
Во-вторых, почти во всех названных произведениях (за исключением драмы Л. Н. Андреева «Король, закон и свобода» (1914), его повести «Иго войны» (1916) и – с некоторой натяжкой – «Анны Снегиной») события Первой мировой воспроизводятся уже не по горячим следам, а в формате необходимой автору философии истории, события эти, так сказать, «видятся на расстояньи»; отсюда, с одной стороны, высокая степень идеологического обобщения (преобладает либо «советская», либо «антисоветская» интерпретация), с другой – субъективизма, которые мешают воспринимать объективную реакцию мыслящей интеллигенции на те события.
В-третьих, лиро-эпический дискурс применительно к избранной нами теме обладает одним несомненным преимуществом: непосредственный поэтический отклик имеет не только художественную (как в данном случае) ценность, но и историческую. Есенин – очевидец и участник событий. В 1916 г. его призвали на военную службу и прикомандировали к Царскосельскому военному госпиталю в качестве санитара.
В-четвертых, Есенин – поэт первой величины, национальный и, без натяжек, мировой классик, масштаб его дарования, включающего в себя исключительную чуткость не только к душевным движениям, но и социальным колебаниям, дорогого стоит и как инструмент сканирования общественных интересов. Доминанту общественных настроений, их баланс Есенин улавливал тонко и безошибочно. Первая мировая в контексте колоссальных национальных потрясений глазами Есенина – это уникальный художественно-исторический документ.
Итак, нас будет интересовать образ Первой мировой войны как компонент художественной структуры лиро-эпической поэмы «Анна Снегина».
Произведение было написано в январе рокового для поэта 1925 года. В декабре Есенина не стало. Печать итоговости, несомненно, так или иначе различима в этом выдающемся произведении.
Первые четыре части поэмы посвящены периоду с апреля по октябрь 1917 г., периоду, когда война фактически уже закончилась, а революция еще не началась; последняя, пятая, часть поэмы ненадолго переносит нас в июнь 1923 г.
Таким образом, в поле зрения поэта оказываются шесть лет, при этом ни Первая мировая, ни октябрьские события, ни гражданская война, ни социалистические преобразования сами по себе в поэме не описаны. Исторические события становятся едва ли не досадным вкраплением в личную жизнь. Вот как это выглядит в поэме (цитируется по изданию: Есенин С.А. Полн. собр. соч.: В 7 т. – М., 1995–2002 г., курсив мой – А.А.):
Я рад и охоте…
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер,
Как месяц, вкатился Прон.
«Дружище!
С великим счастьем!
Настал ожидаемый час!
Приветствую с новой властью!»
Пока Сергей Есенин охотился, развеивая тоску, в стране свершилась революция и к власти пришли большевики.
Главный художественный принцип поэмы – частная история, о которой некорректно было бы сказать, что она разворачивается на фоне исторических событий (такая формула, механически соединяющая историю и историю жизни, по сути неверно отражает насыщенную диалектикой художественную методологию); здесь частная история становится возможной благодаря такого рода событиям, не переставая при этом быть частной, даже интимной.
Иными словами, Есенин реализовал модель личности в достаточно редком модусе, а именно: личное, оставаясь таковым, непосредственно отражает общественное бытие. История (а не интересы государства!) становится личным делом – но только личность при этом не превращается в героя, движущую, хотя и слепую, силу истории (это как раз широко распространенное явление), а пропускает ее через ум и сердце. Личность не служит истории, не ощущает себя ее орудием, а, скорее, превращается в ее жертву, поскольку «избежать» истории не представляется возможным. Подобное органическое (не механическое!) соединение социоцентризма с персоноцентризмом возможно только во дни эпохальных перемен, и подобный симбиоз позволяет верно отразить сам дух экзистенциально-исторических перемен.
Лирического героя поэмы Сергея Есенина можно сравнить с героем другого «романа в стихах» – с Евгением Онегиным. Последний мог позволить себе роскошь отвлечься от истории и выстраивать личное бытие именно и принципиально как личное, весьма условно зависимое от истории (хотя Отечественная война 1812 года была для Онегина не пустым, далеким звуком, а живым, вчерашним звуком: Татьяна Ларина вышла замуж за «важного» генерала, скорее всего, героя Отечественной; чего ж вам больше!). Подобный аристократизм был, помимо всего прочего, еще и исторической привилегией Онегина.
Сергей Есенин, герой поэмы «Анна Снегина», не может уклониться от истории как от некой разбушевавшейся стихии («буря», «суровые, грозные годы», блоковский «черный ветер»), которая в качестве среды обитания входит в его духовный состав. Любой человек, даже Евгений Онегин, в ту эпоху (с апреля 1917 г. по июнь 1923 г.) обречен был стать историческим человеком: в этом состояла правда жизни, управлявшая логикой формирования исторической личности. Аристократизм не то чтобы перестал быть адекватным жизни – он (на время?) перестал быть жизнеспособным (что художественно «доказывает» история Анны Снегиной).
В таком контексте образ Первой мировой становится частью духовной истории личности. Война вторгается в поэму как точка отсчета, как глубоко личная история:
Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я – игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу», и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-ый год. (…)
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу…
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.
Герой поэмы Есенин, по сути, дезертировал не с войны, как это сделал реальный Сергей Александрович в 1916 г., – он пытался дезертировать с социального фронта, как Онегин; но разве можно дезертировать с мировой войны, с революции, которая затеивалась как планетарная («мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем» – глас народа из «Двенадцати»), с гражданской войны, где «недобитые буржуи» «снегины» шли на закабаленных «оглоблиных», – разве можно дезертировать из истории?
Если и можно, то лишь только в частную, личную жизнь. Вот почему Анна Снегина появляется в поэме как непосредственное продолжение истории, как ее желательная позитивная версия – как то самое сослагательное наклонение.
В разговоре с Анной Сергей Есенин касается темы войны лишь намеками, либо вообще демонстративно уходит от темы:
«Я вам прочитаю немного
Стихи
Про кабацкую Русь…
Отделано четко и строго.
По чувству – цыганская грусть».
«Сергей!
Вы такой нехороший.
Мне жалко,
Обидно мне,
Что пьяные ваши дебоши
Известны по всей стране.
Скажите:
Что с вами случилось?»
«Не знаю».
«Кому же знать?»
«Наверно, в осеннюю сырость
Меня родила моя мать».
Наедине с собой поэт куда как более откровенен:
Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!
И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароют еще!
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судоргу щек.
Нет, нет!
Не пойду навеки!
За то, что какая-то мразь
Бросает солдату-калеке
Пятак или гривенник в грязь.
Это зерна поэтически выраженных настроений потерянного поколения. Ведь «стихи про кабацкую Русь» – это своего рода движение сопротивления. «Кабак» как альтернатива «фронту» – это единственное, что остается не устоявшему на ногах, заблудившемуся в бурю человеку. Обратим внимание: стихи «отделаны четко и строго». Продуманы. Это осмысленная позиция: личный бунт против бессмысленности исторического движения.
Есенин как-то четко сформулировал: «Я последний поэт деревни». Это мягко сказано. На самом деле, у него были основания выразиться короче, точнее и безнадежнее: «Я последний поэт». Ведь поэтизировать можно только то, что так или иначе связано с личностным измерением. Если жертвой истории становится личность, то поэты гибнут первыми. Просто в силу своей невостребованности, ненужности, становясь лишними в буквальном смысле.
Но «потерянные» настроения лишь фрагмент, лишь момент в контексте, который складывается фатально, независимо от воли человека (главный герой обреченно роняет: «тех дней роковое кольцо»). Деревенская Россия живет своими интересами («Прогнали царя…», «Сплошные мужицкие войны – дерутся селом на село»), и все происходящее действует на Сергея Есенина (главного героя поэмы, напомним, а не известного всем классика) точно так же, как и война «за чужой интерес» – угнетающе, губительно. В конце концов, в октябре 1917 он «быстро умчался в Питер, развеять тоску и сон».
Так вот, мужики озабочены вовсе не тем, что они «игрушка», что их, эту «сермяжную рать», словно пушечное мясо, «сгоняют на фронт умирать», что война превращает их в «уродов и калек». Гораздо более их волнуют «новые законы», а также «цены на скот и рожь». Они спрашивают у «охотника» и «беззаботника», который интересен им не как поэт, конечно, а как человек, который «с министрами, чай, ведь знаком»:
«Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?»
И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он – вы».
О войне – вскользь, и только в связи с «пашнями господ». Деревенская, нутряная Россия («Расея… Дуровая зыкь она», – по словам мужика, мельника) озабочена сугубо своим, приземленным, мужицким интересом, который для поэта также оказывается чужим.
Гораздо ближе он принимает к сердцу происходящее не в социальной, а в личной жизни. Вместе с Оглоблиным Проном, героем новой жизни, Сергей Есенин направляется к Снегиным «просить» помещицу отдать свои «угодья» «без всякого выкупа» с мужиков – то есть вместе с большевиком едет экспроприировать, «грабить награбленное». (Справедливости ради отметим, что роль Есенина в предстоящем революционном действе неясна; не исключено, что поэт решил воспользоваться нелепым предлогом «именем революции» как поводом для личной встречи; и таких «темных» мест в поэме предостаточно). Этот Прон, по словам жены мельника,
Булдыжник, драчун, грубиян.
Он вечно на всех озлоблен,
С утра по неделям пьян.
Однако дело приняло лирическо-исторический оборот: у Анны на войне погиб муж.
«Убили… Убили Борю…
Оставьте!
Уйдите прочь!
Вы – жалкий и низкий трусишка.
Он умер…
А вы вот здесь…»
Как язвы, стыдясь оплеухи,
Я Прону ответил так:
«Сегодня они не в духе…
Поедем-ка, Прон, в кабак…»
Вот, собственно, построчно все, что в поэме так или иначе связано с войной. Немного, да, – при этом ровно столько, сколько занимала война в сознании «народного» поэта.
Вскоре, разумеется, вслед за 17-м, неотвратимо наступили «суровые, грозные годы», которые шли «размашисто, пылко». Наступило время Оглоблина Прона, и этот «булдыжник» делится с Сергеем Есениным как «самым близким» (!):
Дружище! (…)
Теперь мы всех р-раз – и квас!
Мы пашни берем и леса.
В России теперь Советы
И Ленин – старшой комиссар.
Это как раз тот случай, когда, выражаясь в сермяжной стилистике, снявши голову – по волосам не плачут. Какая уж тут Первая мировая, когда со страной происходит такое, что никаким немцам и не снилось! Горько-иронически звучат слова мельника (из его письма «беззаботнику» 1923 года): «Теперь стал спокой в народе, и буря пришла в угомон». Какой уж тут «спокой», когда Оглоблины становятся героями времени! Брат Прона, Лабутя, «хвальбишка и дьявольский трус», «поехал первый описывать снегинский дом». Деникинцы «чикнули Проню», а Лабутя в пьяном угаре требует себе «красный орден». Крестьяне сбросили иго Снегиной, чтобы новая власть в лице вечно пьяного Лабути защищала их интерес?
При этом Лабутя не представляет собой нечто инородное или экзотическое, он плоть от плоти «дурового» народа. Он «такое» же, как народ: «Он – вы».
Как потом выяснится, это было затишье перед еще более грозной бурей.
Почему же поэма о «буре», вызванной «черным ветром», названа столь поэтически – «Анна Снегина»?
С одной стороны, налицо дань традиции: эпос в стихах «Анна Снегина» демонстративно апеллирует к роману в стихах «Евгению Онегину», это даже не столько литературная реминисценция, сколько культурная цитата. С другой – подобное название столь же демонстративно задвигает главного героя, Сергея Есенина (вновь очевидная перекличка с Евгением Онегиным), в тень, хотя вся поэма держится на мировосприятии главного героя, Анна Снегина – всего лишь эпизод, штрих его исторической биографии.
Как свести концы с концами?
Тут самое время вспомнить о том, что поэма написана в лиро-эпическом ключе, не в лирическом, не в эпическом, а буквально: в лиро-эпическом. Лирический образ Анны Снегиной становится эпической, исторической характеристикой. «Снег», символ чистоты, свежести, первозданности, в сочетании с «негой», вызывающей ассоциации с чем-то дворянским, аристократическим, онегинским – это характеристика ушедшей навсегда России, той России, где личность была далеко не последней фигурой истории: «Далекие милые были!.. Тот образ во мне не угас». Личностное начало образа Анны Снегиной подкрепляется тем, что поэт Сергей Есенин продуманно сделал героем своей поэмы поэта Сергея Есенина, подчеркнув тем самым глубоко личный характер эпоса.
Снегина, в свою очередь, по смыслу и поэтической логике рифмуется не только с Онегиным, но и Есениным, как зимний снег – с осенней сыростью («Наверно, в осеннюю сырость Меня родила моя мать»). Снегина – это лучшее, что было в Есенине; более того, это возможная, но, увы, навсегда утраченная, «милая» перспектива Есенина, которая находится теперь далеко, за семью морями. Собственно, в прошлом. Более того, Снегина – это родовая характеристика, это лучшее, что может быть в поэте. В личности вообще.
Отсюда тоска по личности – частые ностальгические перепевы, буквально прошивающие поэму насквозь и связанные с временами года, с переменами, с неотвратимостью перемен, с фатальным круговым движением – то ли вперед, к личности, то ли вспять, от нее: «Но вы мне по-прежнему милы, как родина и как весна»; «Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное в нас»; Есенин (осень); милая Снегина (зима)…
Анна «беспечным почерком» пишет в письме Сергею из Лондона (высказывая то, что лежит на душе у поэта, но который уже не может позволить себе роскошь говорить то, что думает; отсюда горький комментарий к ее письму: «Я в жисть бы таких не писал»):
Я часто хожу на пристань
И, то ли на радость, то ль в страх,
Гляжу средь судов все пристальней
На красный советский флаг.
Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна…
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна.
В «Анне Снегиной», как и в поэме А.А. Блока «Двенадцать», передано движение самой истории, только движение, увиденное и оцененное не народом, а глазами личности. Вот эта лирическая формула – то ли на радость, то ль в страх – также становится принципом эпического повествования. Было Радово – стало сплошные корявые Криуши. Радость ушла. Движение от эмоционально-семантического концепта «Анна Снегина» (за которым сквозит «Евгений Онегин», «Сергей Есенин») к иному концепту, «Лабутя Оглоблин» (карикатурный Ослябя новейшего времени), не может не расцениваться как трагическое. В этом контексте Первая мировая – это из того времени, когда у Анны, в которую был влюблен Сергей, был муж Боря, который воевал за ту Россию, которой не стало. Это ностальгическое, даже мифическое время, связанное с возможностью проявляться человеку как личности (Онегин, Снегина, Есенин). О том времени можно сказать «мы все в эти годы любили», или «война мне всю душу изъела» или что-нибудь еще, связанное с умом и душой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































