Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"
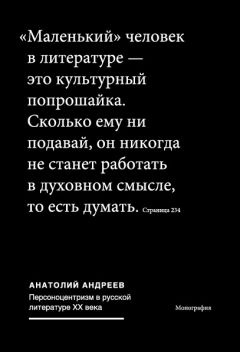
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Вот где подлинный выбор и подлинная свобода: цивилизация или культура? Человек или личность?
А еще точнее и адекватнее так: совместить (гармонизировать) цивилизацию и культуру (человека и личность) – или «свободным» волеизъявлением выбрать ценности цивилизации, которые ее же и загубят?
Абсолютизация политической составляющей свободы – это ставка на порядочность неразумных людей. Выбор, например, между либералами и консерваторами – это умный вариант глупости. Выбор культуры (ставка на гармонию) – это глупость и сумасшествие в контексте нынешней цивилизации, но это подлинно умный шаг.
В контексте культуры – в целостном информационном контексте – и свобода, и достоинство, и любовь, и все на свете обретают свой завершенный человеческий (гуманистический) облик.
Что выбрал Набоков? Это риторический вопрос. Он бессознательно выбрал то, что «выбирают» все. Он идеально затерялся в толпе.
Ни свободы, ни достоинства, ни любви, ни мужчин, ни женщин у Набокова нет.
У него есть только гениальная проза.
8
Если иметь в виду все вышесказанное, становится понятно, что и героя-личности у Набокова попросту нет. Есть выдуманные персонажи – а героя, литературного типа – нет, ибо нет содержания. Из пустоты, из ничего, и родится ничего. И говорить, по большому счету, не о чем. Но!
Но теперь самое время возвратиться к мифу об уникальном писательском даре Набокова. В чем, собственно, заключается этот дар?
В том, чтобы бежать впереди паровоза, впереди локомотива цивилизации, впереди толп пигмеев, заботливо указывая им дорогу в красивое будущее, где роятся бабочки и нежатся нимфетки. Чем не рай для опарышей?
Никакой духовной уникальности не было. Уникальность Набокова в том, что он даровито воплотил безликую закономерность: предать культуру самым изысканным, «культурным» способом – так понизить культурную планку, чтобы она показалась всем недосягаемой. Это фокус, гипноз, магия: иллюзион и спецэффекты.
Справедливости ради сразу же хочется сказать несколько слов в защиту Набокова: не он это выдумал, не с него это началось. Не он первый и не он последний. Дело в том, что индивидоцентризм как тип духовной ориентации (точнее, бездуховной духовности) возник не сегодня и не вчера, и уж, конечно, не Набоков был его первооткрывателем. «Набоковщина», как водится, возникла задолго до Набокова. Беда (которая может стать предпосылкой победы) художников всех времен и народов заключается в том, что помимо выразительной составляющей художественности есть еще и содержательная ее сторона. В беду, проблему или трагедию это невинное обстоятельство превращается потому, что указанные две стороны по природе своей несовместимы. Нужен совершенно особый, поистине уникальный дар, чтобы соединить эти две стихии. В «Евгении Онегине» они как раз и совмещены: это высшее искусство. А можно быть дьявольски одаренным как «изобразитель» – и при этом заниматься почти не искусством: это искусство казаться великим художником.
Чтобы понять это, надо уяснить следующее. Все три указанных вектора – индивидо-, социо– и персоноцентризм – суть проекции трех информационных уровней человека – тела, души и духа, – уровней, составляющих в совокупности информационную целостность человека. Человек един и неделим. Целостен. Но! Но – при этом все состоит из диалектических нюансов. Тело и душа (отчасти) как своего рода целостность настроены на выразительность, на чувственно воспринимаемую изобразительность и выразительность, на «красоту», на стиль; а вот другая «часть» души (под частью имеется в виду ограниченная функциональность), смыкающаяся с духом в иную целостность, источают уже содержательность – семантические поля, концептуально сопряженные в «системы систем», воспринимаемые уже абстрактно-логически. С одной стороны – «индивидо» и «социо» (психика); с другой – «социо» и «персоно» (сознание). Выразительность проявляется преимущественно через образы, содержательность – через понятия.
В принципе – подчеркнем еще раз – понятия могут передаваться через образы, и тогда смысл становится стороной – неотделимой «стороной», свойством – выразительности (закон художественности); однако (и тоже в принципе) образы могут существовать и сами по себе, не слишком обремененные смыслом – как улыбка знаменитого кота, условно отделенная от лап и усов. Такая гносеологическая возможность в принципе существует.
Для Набокова это обстоятельство стало бедой, с которой он не справился, и одновременно победой – в том смысле, что исключительная выразительность его творений толкает к поиску потаенных концептуальных глубин, которых там нет и в помине. В этом и заключается феномен «набоковщины» – феномен утонченного эго-, индивидоцентризма. Нельзя присутствовать в номинации великий художник и при этом игнорировать смысл; вот почему поклонники дара писателя приписывают этому дару пророческую пронзительность. Это смешно, это унижает Набокова, а не возвеличивает его. Его истинное величие в другом – в том, что его хочется поставить рядом с Пушкиным, хотя настоящее место Набокова в ином ряду.
Набоков – провозвестник и знак гибельной «культурной» ориентации. Сегодня пустота, зашифрованная под стильность и эстетику, считается собственно культурой, художественностью как таковой. Самое впечатляющее ее проявление, конечно, – это TV. Перед взором потребителя – стильная рамка: стильные наряды, прически, пейзажи, мизансцены – все и вся. Мастерство, профессионализм. Глаз не отвести… от пустоты. Это особого рода специализация. Элитарный Набоков как предтеча массового TV – в высшей степени актуальная тема. Набоков находится в одном ряду с «черным квадратом», только в противоположном конце этого разношерстного ряда.
Анализировать Набокова – анализировать стиль, маскирующий пустоту. И занятие это по-своему увлекательное. И все же не царское это дело – в пустоте ковыряться, со скальпелем-фрейдизмом в одной руке и словарем поэтических дифирамбов – в другой. Вот почему я отказался от мысли говорить о Набокове в традиционном формате «анализ художественных текстов писателя» (что сказать, к примеру, о блестящем романе «Король, дама, валет»? Великолепной «Машеньке»? Гениальном, но нечитабельном «Даре»? О россыпях рассказов-бриллиантов? Скучная пустота – их общий знаменатель!) и сосредоточился на анализе особой культурной ситуации, – анализе того содержания, что рождает пустоту под видом «глубины».
Надо сказать, что у литературы того типа, что представлена гением Сирина, есть почтенная и бесспорная классика, ведущаяся с седой древности. Начинается этот ряд, несомненно, Гомером; из этого же ряда – де Сад, Флобер, Джойс, Пруст; из писателей отечественных в него по праву следует поместить Гоголя, Бунина, М. Булгакова (я намеренно останавливаюсь на фигурах, достойных упоминания; а сколько «эстетической мути» встревожено сегодня!). Правда, почти все перечисленные писатели попадают и в другой ряд – тот, персоноцентрический, где блистает автор «Евгения Онегина». И тем не менее «культурная» родословная Сирина впечатляет. Ему, как говорится, нечего стесняться. И у поклонников его таланта – крепкие тылы.
Я также являюсь поклонником таланта Сирина – ровно настолько, насколько индивидоцентризм является способом воплощения персоноцентризма. А он таки является, отдадим должное диалектике, жертвой которой пал Сирин.
Вот почему о Набокове стоит говорить всегда. Он не загадочен, а классически парадоксален: это писатель, образцово попавший в образцовые диалектические клещи, о которых он и слышать ничего не хотел. Другим наука, если они способны за блестящим стилем Набокова разглядеть серую пустоту.
А если нет… Что ж, не они первые и не они последние в ряду тех, где одним из первых – Набоков. Он не сумел совершить невозможное, но почти убедил нас в том, что это возможно.
Такова магия таланта.
«Громадная воздушность» Михаила Булгакова
1. Виват, Мессир, или Философия зла в романе «Мастер и Маргарита»
1
Тот, кто не желает замечать ничего, кроме свободы, вечно попадает в самую жесткую зависимость от иллюзий. Свобода в мыслях – порядок в мыслях; свобода в душе – хаос в голове.
Кажется, мы соблюли все необходимые формальности, чтобы в модном ключе приступить к разговору о модной теме, безбожно скомпрометированной в модном романе. Придумано броское название, есть веский зачин, что-то вроде эпиграфа-камертона, намекающего на фундаментальность темы и задающего некий «философский» формат разговору.
Все это необходимо нам для того, чтобы пренебречь модным дизайном, актуальным обрамлением и приступить к делу по существу, а именно: называть вещи своими именами. Вечное – вечным, популярное – популярным, смешное – смешным, а глупое – глупым. Для этого и необходим порядок в мыслях.
Хочется начать с очевидного: прочитав легкий, искрящийся остроумием роман, испытываешь чувство очищения, того самого почти забытого ныне «катарсиса» – древней пилюли, воздействующей на сам строй души. Духовное омовение подобного рода – знак и симптом творческой мощи, подлинного вдохновения, которое корнями своими уходит в стремление к свободе, в неприятие регламента, в оппозицию дисциплине. Импровизационный дискурс и ничем не сдерживаемый полет фантазии становятся едва ли не идеей, чуть ли не главным смысловым ощущением романа. Идея свободы, реализованная не столько как идея, не в плане концептуальном, сколько на уровне ощущений, стала для романа путеводной звездой, или, менее поэтически, художественным принципом. Вся романная ткань структурирована дыханием свободы. Роман насыщен чувствами, семантическая прокладка которых – «я свободен».
Сама фактура – это непредсказуемость, нешаблонность, восхитительное легко-мыслие; роман – это материализованная свобода. Точка опоры – всесилие, всевластие свободы.
Задан и вектор свободы: добро (пусть даже в форме зла).
Сама фантастика выполняет функции реалистические; дело не в фантастике как таковой, а в неограниченности, безмерности, нестесненности фантазии. Фантазия позволяет конструировать любые миры, создавать любые образы. Психология свободы и обостренное чувство справедливости – вот чем дышит роман. Так и хочется воскликнуть: здесь свободный дух, здесь веет свободой. В контексте тоталитарной, духовной и политической, несвободы этот бессознательный импульс смотрится весьма протестантно. Но эта архетипическая по отношению к человеку и творчеству ситуация несводима к конкретно-историческим передрягам, поэтому не станем опускать роман до конкретных коллизий, принижая его культурное величие. Дело, повторим, не в злобе дня, а в природе творчества. А уж то, что природа эта пришла в противоречие с политическим режимом, – дело, конечно, серьезное, но далеко не первостепенной важности.
Итак, роман одухотворен порывом к свободе. Полет, свободный полет – аж в никуда. Неважно. Главное – чтобы свободный. И это сильная сторона романа.
Однако если мы ограничимся сказанным, то обнаружим свое неумение читать художественные тексты, в которых замыслы автора очень часто противоречат вложенным в него смыслам. При всем своем свободомыслии, точнее, свободолюбии – перед нами самый что ни на есть охранительный роман.
Охранительность его, тяжеловесная традиционность, противоречащая воздушной легкости грез и фантазий, сказывается и в типе героев, и в типе их отношений с миром (в типе идеалов, если хотите). И типы эти, можно сказать, безнадежно устарели. Все эти сказки про Иешуа и Мастера исчерпали свой культурный потенциал, хотя и пользуются огромным спросом. Кстати сказать, потому и пользуются спросом, что потенциал исчерпан. Один из самых передовых, продвинутых, современных романов оказался романом вчерашнего дня. Обратим внимание: в романе почти нет характеров (состоящих из совокупности типов), доминируют типажи, типы (как характеристика структуры персонажа, что подразумевает одномерность, сатиричность, героичность или – высшая сложность! – трагичность действующих лиц). Опять же: архаический тип мышления в авангардном исполнении. Уши средневековья торчат из эпохи индустриализации. Все эти притчи про Га-Ноцри и Воланда – о той интеллигенции и для той интеллигенции, которая сегодня своей верой «в Бога» довела культуру до стадии деградации. Эта интеллигенция жить не может без веры в чудеса, без Азазелло и Бегемотов. Это культура «душевных порывов», она не хочет и не умеет думать, мыслить. И роман стал евангелием для недумающих. Эта интеллигенция пыталась и пытается делать Булгакова и его роман инструментом борьбы за демократию – ту самую демократию, которая сразу же отменит потребность в романах концептуальных. И если роман «Мастер и Маргарита» стоящий, он одним из первых падет жертвой демократии.
Импровизация ведь чем хороша, тем и плоха: сложно стихию полета и непредсказуемости увязать с концептуальной целесообразностью, с выстроенностью, предсказуемостью фантазий. Роман тут же перестает «дышать» или его легкое дыхание сбивается, он утрачивает аромат свободы. Импровизация по природе своей чужда духу культуры, духу одухотворенной мысли. Импровизация – дитя поэтического начала; «и нечто, и туманна даль» – это стихия душевная, но не духовная. В собственно духовное, культурное начало ее превращает (или не превращает) «нечто» противоположное импровизации, а именно: культурный регламент, порядок, идея, шкала ценностей. Дисциплина мысли, наконец. Таким образом, импровизация хороша в рамках порядка, которого для непросвещенного взгляда как бы нет. Душевный порыв к свободе тогда лишь до конца реализует свой культурный потенциал, когда приходит к идее свободы. Таковы художественные возможности импровизационного (свободного) начала. «Вдруг», «некстати», «случайно» в романе, детище культуры, сопряжены с идеей порядка.
И роман, конечно же, учитывает это обстоятельство. «Мастер и Маргарита» написан уже после величайших достижений реалистической прозы. Нельзя делать вид, что реализма не было. В этой ситуации остается только, так сказать, усовершенствовать реализм, вступая с ним в полемику. Вот почему вся чудовищная чертовщина условна, это не серьезно-мифологическая дьяволиада, а карнавальное шоу масок. В метафизичность зла никто не верит, да и не требуется здесь веры. Здесь безусловна добытая реализмом истина: человек есть существо духовное, целиком и полностью созданное, однако, на базе бездуховности.
Роман именно об этом, а не об инфернальной шайке романтизированных разбойников, творящих добро от безысходности.
Если это так, то у нас есть все основания рассматривать роман в контексте русской классической, то есть реалистической прозы, в контексте психики и сознания как основных языков культуры, в контексте той проблематики, которая создала феномен русской литературы XIX века.
В этой связи сразу же обозначим главное: главным героем романа является не ум и не ума холодные наблюдения, но душа, муки душевные. Душа-христианка. Герои не мыслят, они переживают. Сама избранная культурная ситуация резко ограничивает возможности романа, казалось бы. А роман между тем блестяще состоялся. За счет чего?
За счет формы, стиля, исполнения, «изобразительной силы таланта». Тайна романа Булгакова состоит в том, что он пуст и банален по содержанию, но многозначителен и колоритен по форме, современен по культурному коду (сегодня истина – то, что может быть выражено невнятной притчей). В известном смысле – противоречив, ибо язык архетипов, которыми говорил Булгаков, несводим к пустоте. Пустота – результат неспособности так выстроить отношения архетипов, чтобы, с одной стороны, сквозила иерархия смыслов, а с другой – тяжести, весомости смыслов как бы не ощущалось. Вот это и есть божественная легкость, и не Пилат с Иешуа сами по себе ее гарантируют. Божественную тему не надо путать с божественной легкостью. В романе Булгакова мы находим: «Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича (Бездомного – А.А.) – изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался писать…» «Полное незнакомство с вопросом» не мешает «изобразительной силе таланта»: Булгаков это отлично понимал.
Люди в романе Булгакова действительно остались такими, какими они и были всегда: культура так и не стала их второй натурой, их сутью; они целиком и полностью остались существами природными. Духовное измерение человека, духовная его составляющая вновь мило вынесена за скобки. В качестве культурной регуляции вновь предлагаются психологические манипуляции с «бедным разумом».
Вот она, пустота…
2
А теперь обратимся к другой чудесной грани романа: кажущейся перенасыщености содержания при фактической пустоте.
Существуют произведения, в которых познавательный потенциал гораздо менее развлекательного, а кажется, что наоборот. Самый яркий пример подобного рода – «Мертвые души» Гоголя, конечно. Слабость Булгакова, которую он питал к Гоголю, духовно-эстетического происхождения. Подобное тянется к подобному. «Мастер и Маргарита» – именно такой роман, который читаешь с удовольствием и хвалишь за смыслы, которых там нет и в помине. Сатира, эта оборотная сторона героики (в том числе героики романтической, булгаковской), является, как мы уже сказали, явно архаическим типом содержания, и чтобы она ожила, вообще жила, необходимо «исполнить». Все дело в исполнении.
Разумеется, корень «содержательной пустоты» следует искать в самой природе художественности, в природе образного мышления. Нельзя выражать что-то, и при этом ничего не сообщать, то есть не сообщать чего-то содержательного. Вот эти «сообщения», идейно-концептуальные посылы, вольные или невольные, и станут предметом нашего анализа (ибо анализ возможен только там, где есть содержание, где есть что анализировать, препарировать, где есть возможность разрушать созданное). Смыслы определяют уровень художественности в большей степени, нежели умение скрыть отсутствие смыслов.
Итак, мы указали на главные темы или смысловые плоскости романа: таковыми являются свобода, данная нам в идеях и ощущениях; добро и зло; наконец, душа как отправная точка, средоточие культуры. Конечно, есть еще любовь и творчество; однако это уже следствие, продукт побочный, а не самоценный. Любовь, творчество, власть, подлость, верность чего-то стоят, приобретают содержательность только в контексте иного, более высокого измерения: света, покоя, царства сатаны. Будем же и мы мыслить контекстами, сопрягая вещи главные и важные и отделяя их от второстепенных. Мы же пишем не «роман о романе», а статью о смысле и ценности культуры. Мы же не передаем непередаваемые ощущения; мы просто думаем.
С чем прежде всего связывают концептуальность «Мастера и Маргариты»?
Поскольку никаких особых «идейных соображений» в главах, посвященных Москве и безобразной шайке Воланда, отыскать без натяжек сложно, идейную глубину романа часто связывают с «романом в романе», с романом Мастера об Иешуа Га-Ноцри и Понтии Пилате. Давайте разберем саму культурную ситуацию. Чего испугался Понтий, почему он предал Иешуа, словно Иуда, и что он вообще предал?
Если бы Понтий спас Иешуа, то рисковал бы потерять власть и все, что с нею связано: положение, деньги, чувство собственной значимости. Возможно, и саму жизнь. В лице Иешуа он предавал не столько конкретного человека, но, так сказать, власть истины, «царство истины», то есть нечто вечное. Он предавал определенные принципы, правила жизни. Понтий выбирал между сиюминутным и вечным. Причем, вечное выбирается разумом, сиюминутное – психикой, чувствами. Дело в том, что жить сегодня, сейчас, сию минуту, не откладывая на потом и даже презирая это «потом» – это императив инстинктов. Умри ты сегодня, а я завтра. Это и есть победа, которая чего-то стоит. Она измеряется временем жизни здесь и сейчас. Формула «после нас – хоть потоп» означает, что мы ценим жизнь только как свою жизнь. Это принцип природной, силовой, неразумной регуляции. Людей, которые живут по такому принципу, и обвинять-то не в чем. Какой с них спрос, если они не ведают, что творят, не понимают, не отдают себе отчет? А вот если понимают, но поддаются слабости, страху – инстинкту, не разуму! – то с них уже спрос культурный. Понтий как человек культуры совершил зло, а как существо природное вел себя предельно естественно. Как человек культурный он мог быть только либо героем, либо злодеем. Где здесь какая-то особая, невиданная глубина?
Не случайно знаменитый вывод Воланда о том, что «люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их», был сделан в театре Варьете (цирке), куда слегка испорченные, но в общем и целом адекватные себе люди, пришли за зрелищем. Там же они поддались и другой своей «вечной» слабости – любви к деньгам («любят деньги, но ведь это всегда было»), точнее, к тому, что могут обеспечить деньги: власти, положению… В конечном счете – сытой жизни. Вот он, вечный двигатель жизни: хлеба и зрелищ (можно было бы сказать, натуры и культуры, если бы под «культурой», зрелищами, не имелась в виду ипостась натуры). Пожрать и повеселиться – все классическое содержание докультурного существования. В этом смысле вся жизнь – театр. И даже цирк, если угодно. Именно такие люди – обыватели – всегда выбирают сиюминутные блага, что им вечность? Пилат был не лучше и не хуже людей из цирка. Он был обычным человеком, легко меняющим моральные (культурные) принципы на аморальные (природные). Понтий – просто жлоб, если отбросить библейский антураж. Этот римский ставленник, прокуратор Иудеи, просто родной братец Римского или того же Степы Лиходеева. Правда, всадник оказался с трагической прокладочкой: в этом добром человеке как-то осела капля добра.
Итак, истину, живущую в вечности, выбирают очень немногие. Кто именно? Мастер, Бездомный, Маргарита. Значит ли это, что они умны? Люди, выбравшие истину, могут быть и умны, но этого не скажешь о персонажах романа. Парадокс и одновременно традиционность романа в том, что герои Булгакова вечность выбирают не сознанием, не разумом, а все той же душой, которая обычно живет одним днем, а прикидывается вечно живой. Булгаков здесь крепко стоит на своем: бывают, бывают души, которые загадочно ориентированы на бессмертие. По отношению к таким душам вопрос «почему?» звучит глупо. Бывает. Истина превращается в душевную категорию: «И доказательств никаких не требуется…» И «не надо никаких точек зрения!» Профессор Воланд был по-своему прав.
Таким образом, следов разума в «концептуальном» романе загадочно обнаружить не удается. Души, только души, подлые или благородные. И подлинная специализация Булгакова – подлые души, антигерои (почему он и тревожил постоянно тень Гоголя, создателя вечных образов «мертвых душ»).
Люди не изменились: подлость как была, так и осталась их родовой отметиной – именно тем, что и делает их людьми. Вот почему – «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Зло по отношению к подлецам и мерзавцам оборачивается добром. А что есть добро по отношению к людям благородным?
Поскольку у Булгакова благородство представляет собой комплекс душевный, но никак не мировоззренческий, то оно, благородство, схематически обозначено героико-романтической краской как некий условный полюс: надо выбирать «царство истины», рад бы служить Ее Величеству Истине, а также Родине, Женщине и Любви. На таких героях хочется видеть погоны (не случайно благородные люди у Булгакова составили цвет «белой гвардии»).
Мир поделен на героев – и сатирических героев, и никакая революция, никакой сталинизм не в силах отменить это роковое и вечное соотношение. Благородные страдают, на подлецов сложно найти управу. Разве что Воланда заставить опуститься на почти оставленную Творцом Землю. Трагизм – классическое завершение героико-сатирической триады. Трагедия Мастера состоит в том, что он усомнился в вечности истины, поддавшись давлению сиюминутного. Самое же сильное и жизнеспособное у Булгакова, подчеркнем, – сатира, комическое выворачивание наизнанку святого.
У тех, кто читает роман Булгакова как очередную версию Евангелия, принято считать, что «роман в романе» – зело отличен качеством художественности от текста, так сказать, фонового, второстепенного, потому как менее святого. В этом есть большие сомнения. Все «ощущение свободы» романа о всаднике Понтии Пилате и чудаковатом Иешуа Га-Ноцри сосредоточено в осовременивании стародавней фабулы, с одной стороны, за счет элементов детектива, а с другой – за счет актуальной психоаналитической техники. Это бессознательная проекция нашего культурного сознания на ту культурную ситуацию, за счет чего и достигается эффект вечности. Свобода – в неожиданности вариаций. Булгаков силен прежде всего в гротеске и создании с его помощью мира небывалого, фантастического, хотя и легко узнаваемого. Как у Гоголя: «И вот заведение!» Передается дух и атмосфера реальности с помощью того, чего в реальности никогда не увидишь. Вот перед вами регент с треснувшим пенсне. Почему регент прислуживает профессору черной магии – еще понятно: был руководителем церковного хора, возносившего молитвы во славу Божию, – стал приспешником сатаны, Фаготом. Как говорится, от великого до смешного – рукой подать. «Часть той силы…»: везде выпирает корень абсурдности или, более культурно, диалектичности. Подобных диалектических перевертышей в романе предостаточно: это симптом того, что нет тверди, все зыбко, плывуче, текуче… Все – в том числе и зло. Вспомним падшего ангела Азазелло с внешностью демона, вспомним бал у сатаны, где культ зла и чествование злодеев и подонков превращается, по сути, в благотворительную акцию. Маргарита превращается в ведьму, Коровьев – в рыцаря, Бегемот – в худенького юношу-пажа, поэт Бездомный – в историка, «историк» и «немец» Воланд – в князя тьмы, всесильный прокуратор Понтий Пилат – в подследственного, подследственный из Галилеи Иешуа Га-Ноцри – в посланника «света»; наконец, реалистический дискурс романа плавно перетекает в постмодернистский… Практически каждый не сатирический персонаж предстает этаким оборотнем. Даже если перевернуть начальные буквы Мастера и Маргариты – вы получите начальную букву Воланда (на латинице).
И только добро, если оно есть, не подвержено переменам, легкомысленным переворачиваниям и кульбитам. Оно абсолютно. Точка опоры. Кремень. Доказательство существования Бога, предъявленное Воландом, впечатляет: «Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?» (выделено мной – А.А.) Получается: вся резвость романа – в рамках «распорядка» и «управления», в основе всего – Бог и добро.
Так получается теоретически. К счастью, серьезного и скучного добра в романе нет, как нет и серьезной борьбы со злом. От этого выиграла бы только теория. Игровая, карнавальная, сказочно-притчевая стихия романа вполне уместна, ибо такими средствами выразительности, таким языком, такими героями и ситуациями, – короче говоря, в таком формате серьезно говорить о добре и зле в принципе невозможно. Есть добро и зло: почувствуй разницу. Только и всего. Сказка ложь, да в ней намек: это принимается. Дальше намека дело не пошло. Но разве сказки любят за истину?
Итак, вернемся к выразительной стороне романа. С регентом как таковым все более-менее ясно. Но треснувшее пенсне и клетчатые брюки уже не придумаешь – а они-то и создают образ регента. Черт знает что такое! Нелепость какая-то. Идея-то, повторяем, ясна: смешное – это великое и серьезное, вывернутое наизнанку. Но попробуйте так буднично-празднично вывернуть! Вот это лихое и веселое ощущение и передает треснувшее пенсне.
Зачем кот необыкновенной величины водит гривенником по усам? В точности неизвестно, но несомненный комический эффект достигается небывалый. Не так интересно то, что кот едет на подножке трамвая и собирается платить за проезд, как то, что он непонятно из каких побуждений водит гривенником по усам. Конечно, вспоминается примета: если деньгами прикоснуться к усам или бороде, к растительности, деньги, словно впитав силу дурного волоса, также будут «расти», их будет больше. Деньги правят миром. Кот ведет себя по-людски: молится на деньги, пародирует людей. Вот она, реальность фантастики – свобода! Ритуал суеверия в исполнении черного кота – это нечто неподражаемое. Но тут не только деньги к усам; тут мы соприкасаемся с мифологическим пластом сознания. Кот, будучи персонажем их мифов, архетипом, затронул иные архетипы.
Однако даже если отвлечься от «приметы», от содержательного плана, то все равно смешно. Удивительное чутье на «незаметное» комическое – и это при изобилии комического «выпирающего». У читателя возникает почти физическое ощущение, что писателя «понесло», что творец ничем не скован, он настроен на штуки, штучки и еще те штукенции. Вот где подлинный Булгаков, вот блеск его дара! Припечатать подлые души, полюбоваться ими, радостно распнуть на вечном кресте!
Под стать неуемной фантазии и особое, «нечеловеческое» по нюансировке чувство языка. Новых слов у Булгакова вы почти не найдете, словотворчество – не его стихия; эпитеты и метафоры – не основной его козырь (хотя и здесь он мастер). Он силен в создании едких или щемящих (словом – колоритных) интонаций. Вот несколько примеров. «Исключительное что-то!» (Борменталь о Шарикове); «Мама, светлая королева, где же ты?» (из «Белой гвардии»); «Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец» (о Воланде); «…он испуганно обвел глазами все вокруг дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту» (о Воланде); «Я – историк, – подтвердил ученый (Воланд – А.А.) и добавил ни к селу ни к городу: – Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!»; «Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстакана водки. (…) И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Степа кое-что припомнил» (о Степане Богдановиче Лиходееве). Практически в каждой фразе романа, и вообще всей художественной прозы писателя, вы найдете что-нибудь подобное. У Булгакова нет интонационно пустых фраз. «Изобразительная сила таланта» – изумительна. С помощью самых обычных слов создаются едва уловимые смысловые сдвиги, и эти семантические обертоны и лепят образ. Свобода, совершеннейшая свобода в обращении со стихией языка и образным рядом. Ни к селу ни к городу. Импровизация, зрелище. Браво. Но!
У этой свободы есть своя цена, и о ней мы уже сказали: вольная воля оборачивается пустотой, легкость – пустотой же. Странно и обидно: такой романище превращается в милый пустячок. Но что же вы хотите, если художественное исследование природы человека подменяется мифами о ней! Свобода не замечать главного, свобода в чувствах оборачивается ограниченностью подлинной духовной свободы. Свобода думать не значит думать правильно; правильно думать – думать свободно. Затронул этот архетип – отвечай. С глубиной шутки плохи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































