Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"
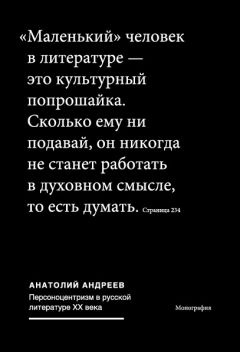
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Все зло – от неумения мыслить. «Русские цветы зла» – это другое название старой и знаменитой русской болезни: неумения и нежелания думать, умом понимать. Чего-чего – а этого добра на Руси всегда хватало. Другая литература – это способ думать лобными местами, способ думать другим местом. Это глупость, божий дар, а не зло. Зачем же путать божий дар с яичницей?
3
Но закончить хотелось бы вовсе не на пронзительной русской ноте. Дело в том, что природа зла – это проблема не русская, а, как принято говорить в глобальном мире, общечеловеческая. Автор проекта в определенном смысле прав – но не в том смысле, на котором он настаивает. В другом.
Правильно: социальная оболочка зла (объект критики «другой» литературы) – это именно оболочка, разновидность зла или его ипостась, но не суть. Убежденность художников-мыслителей XIX века в том, что человек добр по природе, хотя иногда случаются отклонения, – часто именно социального свойства – в XX веке сменилось убеждением в том, что человек зол по природе, несмотря на некоторые его добрые черты, размывающие категорический диагноз. Зло развели с «социальной обусловленностью» (человека в те времена благородно трактовали как «совокупность (а то и «ансамбль» – А.А.) общественных отношений») и сделали имманентным свойством души, сделали моментом природы человека. И в том, и в другом случае точки отсчета оказались сомнительны, малокультурны, вот почему добро с таким восторгом уступило злу. Миф быстро и эффективно может вытесняться только другим мифом. Все это получилось, конечно, весьма художественно, и эстетически выразительный потенциал зла не ставится под сомнение. Под сомнение ставится сама возможность художественной литературы определить и выявить сущность зла. А ведь именно эту миссию решила взвалить на себя литература. Кто же, если не она? «Вторичность» художественной литературы в отношении познания, ее ограниченная культурная содержательность – вот поучительный итог «злобной» эпопеи. Литература как душевный продукт обозначила свои экзистенциальные берега и ниши: от беспредельного добра – к бесконечному злу. Литература оказалась всеядной и в то же время – себетождественной, везде она не больше, чем литература. В лучшем случае – индикатор, показатель, следствие, но не способ выяснения причин, и уж тем более не возбудитель вируса добра или зла.
Упрек классической русской литературе XIX века в том, что она сделала из добра миф и цеплялась за него – серьезный упрек. Здесь опорный тезис таков: из добра можно сделать только миф. Сомнений в благих намерениях мифотворцев ни у кого нет; однако пустой и малосодержательный миф быстро опрокидывается и оборачивается контрмифом. В мифологическом поле мифы стоят друг друга. Белый миф – всегда плохой аргумент, плохая защита и услуга культуре, ибо рано или поздно вывернется наизнанку черным мифом. Получается: те, кто настаивали на доброй природе человека, объективно вызвали к жизни злое начало. В личном плане – они без вины виноваты, в плане культурном – виноваты в том, что кажущееся приняли за сущее.
С другой стороны, следует понять, что «другая» литература явилась на свет только потому, что ее породила литература «нормальная», никакая не другая. И та и «другая», по большому счету, порождены одним типом художественного (и не только художественного) мышления, а именно: тем типом, который специализируется на вычленении и абсолютизации момента, свойства, состояния. Это не спектральное, но одноцветное, черно/белое мышление. Чтобы исчезла другая литература, нужно другое мышление, а не литература противоположного типа. Вот почему безнравственные забияки, с одной стороны, такие непримиримые, а с другой – всеядные, миролюбивые и склонные к идеологии плюрализма (хотя, казалось бы, духовно нормальная литература убивает литературу «другую»): они не хотят рубить сук, на котором сидят. Они изображают из себя тень добра, пятна на солнце, приспешников дьявола, антипода Бога. Они, видите ли, играют: «другая» литература просто не может быть серьезной, как пародия или карикатура.
Под видом интереса к добру и злу, вроде бы, исключительно человеческим свойствам, именно человека литература и не замечает. Она теряет этот многомерный объект, увлекаясь всегда зубодробительными коррективами.
Русские цветы зла – это, на первый взгляд, «объективная» констатация сегодняшнего, сиюминутного равновесия и равноправия добра и зла – с той только разницей, что зло несомненно присутствует в человеке и сопутствует всем его добрым начинаниям, словно тень, а вот добру, «предмету», отбрасывающему тень, определили статус надежды, статус благих намерений. Зло, несомненно, есть, а добро – это еще как посмотреть. Роль добра в культуре оказывается весьма туманной и двусмысленной; это определенно сдерживающее – но при этом весьма эфемерное начало. Подобный культурный баланс сам по себе свидетельствует о неблагополучии, о реальном крене в сторону зла, о фактическом засилье зла при формальном «равновесии». Сама постановка вопроса о «равноправии» добра и зла свидетельствует о непонимании природы зла. Необходимо все же дать научно выверенное определение, ибо оно, будучи научным, всегда становится осиновым колом, которого опасаются мифы. Зло – это такое противостояние природы и культуры, при котором культура уничтожается культурными средствами. По форме мы имеем противостояние двух типов культур, а по существу – противостояние натуры и культуры. Зло непременно начинается там, где культура уже отделилась от натуры, но еще не осознала этого.
Глупость – вот культурная база и основа зла. Оборотная сторона ситуации «мало смысла» – такое положение вещей, когда вполне возможно «много красоты». Нечего сказать – говори красиво. И вот саму красоту приняли за аргумент в пользу зла! Тут не просто подмена понятий произошла, а сказалось непонимание сути вещей. Великая триада – Красота, Добро, Истина – ставит красоту в такой контекст, где она «освящает» высшие культурные ценности и одновременно несет не себе их отпечаток. Красота становится как бы индикатором Добра и Истины. Вот почему «цветы зла», будучи проявлением красоты, бессознательно ассоциируются и с Добром, и с Истиной. Зло явочным порядком помещено в самый высокий и благоприятный культурный контекст. Отчего это произошло? От глупости, то есть от такого уровня мышления, которое явно неадекватно глубине и сложности поднятой проблемы. Великая триада состоит из компонентов взаимосвязанных, и в то же время относительно автономных. Степень автономности красоты такова, что она, красота, проявляет свои качества и в контексте «цветы зла». Красота сама по себе прямо не свидетельствует ни в пользу Добра, ни в пользу зла. Вот почему словосочетание «эстетика зла» – это не выдумка злоумышленников и не рецидив дурного вкуса. С точки зрения стиля, если зла не существует, то его следовало бы выдумать: уж очень роскошны и экзотичны цветы этого ядовитого плода. Масса стилевых возможностей, колоссальное расширение эстетическое палитры – это не пустяковый аргумент. Он не столько серьезный, сколько реальный. И с ним следует считаться. Глупо делать вид, что «другой» литературы нет или что она вся сплошь плохая. Более того, у представленных в антологии авторов (не у всех) можно найти много по-настоящему художественных вещей. И это, конечно, не аргумент в пользу «другой» литературы, или, если угодно, всего лишь красивый аргумент, слабый по существу. Хорошие произведения не только красят «другую» литературу, но и становятся ей приговором. Короче говоря, винить литературу за то, что в ней появились цветы зла, – просто глупо, что является самым типичным проявлением зла.
Обратим внимание: данное нами определение зла «оптимистично» в том смысле, что диалектично, оно не абсолютизирует зло, не изолирует эту категорию от переходных и противоположных, от полутонов и оттенков и тем самым «заставляет» зло контактировать с добром в режиме «открытого» диалога. Строго говоря, зло – это функция определенной культурной меры или величины по отношению к другой величине. Если культурная величина ориентирована на культуру – то это функция и «стиль» добра; но та же величина, тяготеющая к нивелированию и самоуничтожению, промаркированная отчетливым вектором «от культуры – к натуре», – есть подлинное зло.
Чтобы осознать возможности зла, обозначить его, так сказать, культурный потенциал, необходимо дать определение добра как нравственной, мировоззренческой и ценностно-культурной категории. Добро, что вытекает из определения зла, – это культурное (разумное) движение в сторону культуры (разума, Истины), это динамика, а не устойчивое самотождественное качество с неизменными признаками. Поскольку реально существует развитие культуры, всеобщее движение в сторону разума – постольку добро не может считаться мифической категорией. В этом смысле и в таком контексте Добро связано с Истиной, и Красота, освящающая такой союз, становится нравственной категорией, цветами добра. (Отметим такой нюанс: Истина может быть весьма жесткой, и такую «суровую» истину часто принимают за зло. Но это, опять же, мышление по аналогии: то, что приносит боль, не хочется считать истиной; истину хочется видеть доброй, белой и пушистой. Зло в принципе ориентировано на то, что противоположно Истине, хотя «внешне», по формальным признакам может быть похоже на нее.) Добро (как и зло) – это вектор, а не результат (с поправкой на то, что вектора не может быть без определенного результата). Культура, хоть и низкая культура: вот зона, где добро, плод всегда более высокой культуры, скрещивается со злом, переходит в него, становясь плодом (результатом) культуры более низкой. Понятно, что добро и зло – это насквозь диалектичные стихии; тем более актуальным становится определение их принципиальных границ. Ни о каком механическом разграничении духовных территорий или душевных зон (социальных, биологических и проч.), подведомственных исключительно добру или злу, и речи быть не может.
Иное дело, когда речь заходит о том, что в сегодняшней литературе и культуре, и не только русской, но и мировой, сложно указать на тип героя, где закрепились бы и прогрессировали ростки Добра. Отсутствие героя такого типа, якобы, говорит о слабости добра, о его «исчерпанности». Такого героя не видит В. Ерофеев – но это не значит, что такого героя нет вообще и быть не может. «Что дальше?» – такова финальная фраза, даже финальный абзац статьи; формально концовка здорово отдает плюрализмом, готовностью к любому повороту событий. В том числе и к откату к добру. «Принимаю, что было и не было…» Вялый фатализм, ленивая отмашка идеолога зла. Однако сама фактура статьи (смесь эмпирики с метафизикой), сам контекст, увязывающий добро с морализаторскими мифами, делают такое «добро» бесперспективным культурным проектом. В таком «добре» нет ничего хорошего.
Хочется возразить. «Дальше» – надо внимательно посмотреть назад и оглянуться вокруг себя. Тип «лишнего», маргинала, человека «злого», с точки зрения моралистов, и «доброго», с точки зрения «других» критериев, положенных в основу «другой» литературы, – тип тотально лишнего является реальным и чрезвычайно перспективным. С одной стороны – горе от ума, с другой – неприемлемая аморальность, с третьей – сомнительная принципиальность, отдающая ветхозаветным нравственным стержнем, – вот вам эскиз «доброго» человека сегодня.
«Русские цветы зла» – это очень самоуверенный манифест. Он отражает ту реальность, что «думающее» немассовое искусство балуется злом (надо быть слепым, чтобы не замечать этого), а добрые мелодраматические сказки о победе добра над злом, всякого рода «фэнтези» оставлены массовому искусству. В подобной культурной ситуации живет не только Россия, но и весь цивилизованный мир. Иначе сказать, появление «цветов зла» – это симптом кризиса. Можно выдавить из себя «что дальше?», но это не заявка на обновленную систему ценностей. Сам факт того, что природой человека стали заниматься литературы и литературоведы по совместительству – плохой знак. Сон разума рождает цветы зла. Вот почему глупо ругать эти цветы: поруганные, они не становятся цветами добра. Цветы зла завянут или начнут дурно пахнуть только тогда, когда на соседней клумбе заблагоухает нечто достойное просвещенного внимания.
Вот что должно произойти дальше.
Парамонов: «Конец стиля» – конец мышления?
1
Книга Б.М. Парамонова «Конец стиля» (М. – С-Пб., 1999), несмотря на бравую недиалектичность названия (впрочем, идеально отражающего содержание), читается захватывающе, как детектив, то есть как интеллектуальный ребус.
Чем привлекло меня вышеозначенное сочинение?
Во-первых, хочется отдать должное (а отдавать должное – моя слабость) лихой раскованности, даже бесшабашности, местами почти свободе мыслей и концептов. Привлекло прямо-таки завидное умение дерзко называть вещи своими именами, "остранивать", заземлять красоту, эту циничную содержанку. Не книга, а восхитительный сеанс окончательной детабуизации, снятия ограничений, срывания масок и смирительных рубашек с культуры. А где стыдливо покоились фиговые листочки (их, кстати, и срывать не надо: опадают при лёгком прикосновении)? Интимные места человечества хорошо известны: секс, еврейство, тоталитаризм (как-то: фашизм, коммунизм), святость искусства, культуры (бога почтенный Борис Михайлович почему-то старается обходить стороной. Так есть бог или нет, Борис Михайлович?). Получился этакий эротический контакт с культурой.
Во-вторых, сам "свободный", преодолевший цензуру культурных репрессий и табу тон является как бы вызовом моей концепции, рядом с книгой Парамонова превращающейся в реликтово-репрессивного монстра. "Моей" – можно было бы и пережить. Но для меня "моя" означает "не моя", а научная, претендующая на объективность, ничья. Если бы я не прочитал "Конец стиля", то наивно сказал бы "вызовом культуре", но теперь-то я понимаю, что вызов культуре и есть условие освобождения человека. Становится мучительно больно за бесцельно прожитые. Собственно, меня и не просили беспокоиться и постоять "за культуру", однако слишком уж лакомый кусок передо мной. Не устоял. Надеюсь, Борис Михайлович меня поймёт: эгоизм он числит большим достоинством человека, собственно, единственным. Вот и я туда же. Впрочем, может быть и такое, гораздо менее (или более?) романтическое объяснение: комплекс провинциала. С другой стороны, когда караван культуры повернёт назад, хромой верблюд окажется первым. Где провинция, где столица? Кто знает?
Думаю, моя растерянность импонировала бы Парамонову как еще одно доказательство нежизнеспособности репрессивной культуры, загнавшей себя в тупик.
Слабым утешением остаётся то, что никто не смеётся в этом мире последним.
Психоаналитизм уместен там, где исследовать приходится феномен "чистой" идеологии, т. е. постигать то, как реальные потребности прикрываются фальшивой мотивировкой, сублимируются. Тогда флер идеологии развеивается "как сон, как утренний туман", и мы вновь лицезреем прелести натуры, натурхама или, без экспрессии, человека. Тот ли перед нами случай, когда на каждого мудреца Фрейда найдётся свой психоаналитик? Уместен и оправдан ли разговор о концептах, мифологемах и философемах Парамонова в психоаналитическом ключе?
Иначе: что перед нами: дурной сон идеологии или…
Или – это не обязательно собственно интеллектуальная система идей, собственно философия, теория познания; это может быть и некий отважный реализм, который противостоит всем идеологиям, но сам не является их преодолением, просто выигрышная оппозиция культуре – натурой (собой, собственным жизненным опытом: "Худшее из лицемерий – отрицать свой собственный опыт ("Дом в пригороде")).
Что ни говори, а Парамонов занял круговую оборону (часто тактика такой обороны – нападение), ибо тема и исток этого блестящего ума (фундаментальные умы редко бывают столь блестящи: не всё золото, что блестит; кстати, в книге это доходчиво разъяснено) – культуроборчество. Сам баррикадный импульс ассоциируется с чем-то вроде «ты борешься, Боря, – следовательно, ты неправ». Жизнь выше морали, искусства, культуры – вот тема Парамонова. Живой человек (а всякий писатель и поэт, даже философ – живой человек, и творчество в известном смысле есть проекция живой плоти в знаки), «живой» (см. замечательную главу об Эренбурге «Портрет еврея») в отличие от пригнетенного и изувеченного культурой так влечёт биофила Парамонова. И вот его культуроборческое сознание выискивает жемчужные зёрна жизни в навозе культуры, в «говне» мысли, как изволил выразиться острый на язык автор. Этим объясняется зачастую поразительное мелкотемье для столь масштабного замаха. Гора рождает мышь, но зато какую мышь: способную колотить золотые яйца.
Начать с того, что автор выступает за демократию-постмодерн как способ нивелирования культуры в совершенно недемократическом, элитарном – концептуальном, следовательно, культурном – ключе. Значит, его вряд ли поймут те, кому это адресовано. Зато книга интересна тем, кто не равнодушен к культуре мысли, кто разделяет с Парамоновым слабость подвергать критическому рассмотрению всё, даже антипатии к большевикам и симпатии к постмодерну.
Книга в своём роде великолепна и неуязвима. Следуя принципу "остранения", смещая угол зрения и, соответственно, семантические пласты (вслед за Шкловским остранение трактуется "как способ обновлённого переживания бытия"), автор всегда будет прав, ибо разные пласты действительно-таки присутствуют. Остранение эффективно работает только применительно к идеологии, в том числе и в первую очередь – к искусству. Это забава, основанная на возможности сдвига идеологического восприятия в иную столь же идеологическую плоскость, и потому она действительно может считаться "странным" способом познания. "Остранение" выступает каким-то неполноценным видом познания: оно ничего не объясняет, а только оглупляет процесс познания; надо быть "сдвинутым", чтобы так познавать, и приготовиться к тому, что итогом познания будет серия сдвигов, не более того.
Нерепрессивность культуры, строго говоря, понимается как возможность сдвига, идеологических подвижек. При этом в остранение, понимаемое не только как технология, но и стратегия, заложен вектор движения: от иллюзий – к реальности. Спектр же и логика сдвигов-остранений не интересуют эту постмодернистскую потеху, ибо "спектральный" анализ отдаёт уже репрессией, внесением порядка пусть и в бесконечную, но всё же поддающуюся упорядочению "странную" стихию.
Таким образом, "остранение" можно интерпретировать как в свою очередь идеологическую функцию сознания, функцию освобождения из идеолого-репрессивного плена – с целью познания?
Нет, с целью освобождения. На этом точка. Логика реальности осознаётся как приговор искусству, словно искусство не является моментом реальности, плотью от плоти, пусть даже искусство действительно искажает или, если угодно, сублимирует реальность. Если искусство есть, значит, оно кому-то нужно. Это не каприз, а потребность. А потребность нельзя взять и отменить (как водится под предлогом борьбы с репрессиями).
Остранение (его апологеты-парадоксалисты должны оценить иронию ситуации: они первые угодили в ловушку, уготованную для простаков от репрессивной культуры) выступает недиалектическим актом дискредитации искусства как феномена ложного, вредного, вуалирующего суть человека и тем самым отвлекающего его от прямого назначения, а именно: борьбы за существование, за хлеб насущный. Вспоминается Пётр Великий, который варварскими способами боролся против варварства, тож прорубая окно в Европу.
Дискредитация, однако, не есть познание, также как и остроумие с эрудицией не есть аргумент (тут мы немного забежали вперёд).
Если "остранить" сам принцип "остранения" ("пусть странен я, не странен кто ж?"), мы с грустью увидим в нём давно известную элементарную диалектическую сноровку, не более того. Грусть, понятное дело, надо расценивать как форму сочувствия Колумбу от культуры, вдруг обнаружившего, что открытый им материк давно известен, нанесён на карту, обжит и освоен. И всё, о чём так хлопочет Борис Михайлович, становится действительно смешно, как он и старается в этом уверить всех, а прежде всего самого себя. Sorry. Парамонов впечатляет шизофреническим умом и сумасшедшей адекватностью его воплощения. Блестящие выпады и эскапады делают этого супервиртуоза, интеллектуального д Артаньяна неподражаемым. Он обаятелен даже в глупости, даже в идиотизме (что при желании можно считать признаком ума). Он сумел поставить дело так, что его и заподозрить в глупости – компрометантно. Себе дороже. И всё же Борис Михайлович прежде гениален, а потом (потому) умён. Иначе говоря, он (по большому счёту) схож, типологически подобен тем культурным героям, которых он неутомимо и методично, хотя и несколько однообразно, одним и тем же финтом свергает с пьедесталов. Возникает впечатление, что сам он как человек, чрезмерно ангажированный культурой, мстит ей за то, что она отвлекает его от дела жизни (т. е. от самой жизни). Пафос его довольно-таки ядовитой книги – деконструктивен, смертоносен, несмотря на то, что метит он в культурные оковы, удушающие жизнь. Жизнию жизнь поправ?
Культура – штука тонкая, и связь её с натурой, с которой они срослись пуповинами, настолько банально кровна, что истребляя культуру – испепеляешь жизнь. Стоит ли играть головой Гоголя в футбол ("головой Гоголя нужно играть в футбол", настаивает Учитель, загадочно выступающий за искоренение самого института "учительства")? Не приходило ли в голову Парамонову то простое соображение, что её, голову, можно использовать и по-прямому назначению – думать?
Однако объяснимся. "Смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно", по словам поэта, представителя, правда, репрессивной культуры. Над чем же смеётся раскрепощенный Борис Михайлович? Надо всем, кроме, кажется, антисемитизма и того фантома, который и он с почтением именует Бог. Злой пересмешник, Парамонов сам попадает в смешную ситуацию, когда то ли он смеётся, то ли над ним смеются (и это не тот случай, когда способность смеяться над собой – первый признак ума: над тобой смеются не вслед за тобой, умным, а опережая тебя, недалёкого). Смеяться надо всем – значит игнорировать гениальную дифференциацию Спинозы: не смеяться – а понимать; это значит смешивать научное и эмоционально-оценочное (идеологическое) отношение, т. е. ставить телегу впереди лошади, что, согласимся, смешно. Генеральная, сквозная установка книги элементарна, как хлопоты кобеля: культура – ложь, а правда в инстинктах. Вот почему русский неоницшеанец неутомимо ёрничает: дескать, все, все кривлянья и гримасы культуры сводятся (через психоанализ или же минуя таковой) к простым и честным импульсам, исходящим из зоны жизни, из нерепрессивной тяги "потрахаться", то есть из того, что находится по ту сторону морали, по ту сторону добра и зла. При этом диалектика взаимоотношений репрессивной – нерепрессивной культур его мало интересует, оттого так скудна палитра эмоций: от зубоскальства до скалозубства.
Самое интересное – прав Борис Михайлович, но как-то так прав на 50 %, что сразу и не поймёшь, правду говорит он или врёт (бессознательно, конечно, врёт, оказываясь сапожником (психоаналитиком) без сапог (во власти бессознательного)).
А всё из-за пренебрежения культурой. Та данность, что человек есть скотина и грязное животное – хорошо известна (виноват, известна, но плохо усвоена, и в этом смысле просветительский культурный подвиг Парамонова следует оценить по-достоинству). Но вот остановиться на "этом", сложить лапы и в "эпатажном" стиле покуражиться, объявив признание "этого" единственно возможным прогрессом – не есть ли это перебор, то самое классическое расшибание лба, когда требуется-то всего лишь соблюсти ритуал моления?
Понять культуру – не значит отвергнуть культуру. Сама эссеистическая форма уместна там, где речь идёт о научно-популярном изложении материала (для тех, конечно, кто видит разницу между наукой и её адаптацией к человеку из народа, излюбленному герою антибольшевика Парамонова). Борис Михайлович даже и весьма популярен (положение обязывает?), и даже сама "темнота" изложения снискивает ему популярность (народ охотно верит тому, чего не понимает). А как обстоит дело с научной стороной популяризируемых взглядов?
Мне по душе метод Парамонова: за деревьями видеть лес, за частным – общее. Поэт действительно всегда больше, чем поэт, ибо в его творчестве сказывается больше, чем он сказал (поэзия ведь глуповата, и поэт не ведает, что творит). Отдавая должное Борису Парамонову как поэту культуроборчества, воспользуемся возможностями метода.
2
Архетип ситуации, бесконечно воспроизводимый в книге (все разные культурные сюжеты – об одном и том же): культура, тем более культура высокая (речь идёт в основном о художественной культуре), есть гнусная и лицемерная сублимация. Она заслоняет жизнь, уводит от жизни, неверно её интерпретирует. Фокусы психики причудливо отливаются в монолит идеологии, и потому венцом теории познания выступает психоанализ, распутывающий эти психоклубки и показывающий их виртуальную природу. «Ах, Вася, скажите, отчего это соловей поёт? – Жрать хочет, оттого и поёт»: таков, в интерпретации Парамонова (цитата – из Зощенко), немудрёный культурный механизм сублимации. Или (из Чехова): «Если зайца долго бить по голове (репрессировать – А.А.), он и спички научится зажигать» (т. е. овладеет неким культурным навыком). Вывод: «бедный заяц Бердяев» («-121», статья о взаимоотношении гомосексуальности с культурой). Смысл: бердяевский вариант экзистенциальной философии – «вариант гомосексуальной маскировки». Соответственно, «творчество – это индивидуальная смелость, превращающая комплекс в норму». В таком случае какова ценность сублимации, творчества художественного, и даже научного?
А никакой, естественно. (Тут нужна не смелость мысли, а смелость "голого короля", уверенного, что "сдвиг" есть норма.) Никакой. "Творчество при таком понимании демистифицируется, любая жизнедеятельность, требующая усилий, становится ему равна." Хочется воскликнуть: "Ой ли, Борис Михайлович? Любая ли? Равна ли?"
Но мы сохраним, как нам и предписано, мину серьёзно-репрессивную, не будем выбиваться из стиля, не станем скоморошничать, а спросим ответственно: а как Вы измеряете тщету духовных усилий золотаря, золотопромышленника и златоуста? Вы что же, всерьёз полагаете, что деньги, этот всеобщий эквивалент, не пахнут? «Жизнь выше морали» и «жизнь, имеющая моральное измерение, которое не подавляет жизнь, сообщая ей, вопреки умозрительным опасениям, высшее витальное качество» (это уже моя позиция) – всё едино? Весь мир бардак, все люди, понимаешь, не люди, так что ли?
И Вы предлагаете закрыть проблему уже самим фактом наличия жизни? Вначале была жизнь, а слово было о жизни, и слово было глупым, потому как сублимированным. И всё?
Как говорят в таких случаях, не густо. А еще культурные люди выражаются так: мне кажется, коллега несколько неправ, утверждая, что Земля имеет форму чемодана. Мне тоже, признаться, кажется, что Борис Михайлович несколько того, хватил лишку.
В сущности, перед нами либо религиозное сознание в его авангардном варианте (так сказать, дань просвещенному времени), либо вульгарный материализм, который вполне может быть формой сознания религиозного. Парадокс-с.
Послушаем, однако, Парамонова дальше (цитаты, и предыдущие, и несколько последующих, взяты из программного эссе, давшего название всей книге): "Ценность человека определяется фактом его эмпирического существования, и демократия не считает себя вправе предъявлять ему дальнейшие – культурные – требования, вырабатывать в нём нормальное, нормативное "я". Фактичность и есть ценность, это данное, а не заданное, наличествующее, а не долженствующее быть." Звучит прогрессивно. А вот ещё: "Стиль бесчеловечен. Стиль идеологичен, как всякое мировоззрение, но демократия принципиально отвергает мировоззрение, идеологию, она занята исключительно решением текущих проблем, её метод – частичная социальная инженерия (Карл Поппер)". Что мне здесь нравится, так это честность. О масштабности личности Бориса Парамонова можно судить уже по масштабности заблуждений. Цель литературы "как формы сознания" – её конец ("Ной и хамы"). Или вот ещё цитата ("Ион, Иона, Ионыч (конец русской литературы)"): "Литература – русский коллективный невроз", и "патогенная его подоснова несомненна". После таких автопсихоаналитических пассажей, надо полагать, Парамонов – это никакая не литература, книга его не книга, да и поэт он не настолько, чтобы прописаться там, где "местопребывание поэзии". Обсудим и это.
А вот уже, судя по всему, осиновый кол в гроб литературы как культуры ("Голая королева"): "Высота художественной культуры находится в прямо пропорциональной связи с угнетённостью и отсталостью масс" ("Пушкин стоит псковского оброка": преподносится как цинизм "барственного эстета" Герцена; на самом деле читай "не стоит". Стоит – или не стоит, или – или: вот по какой познавательной технологии изготавливался кол. Грубая работа.) "В высокой культуре страдают и народ и творец"; "современная культура" же "борется со страданиями, хочет избавить людей от страданий. И это избавление происходит за счёт духовных вершин: меньше страданий, но меньше и вершин". Читая такое, хочется воскликнуть: Парамонов себя под Лениным чистит – не в смысле стиля, нет, в смысле овладевания всем идейным богатством мировой культуры. Но зная, как Парамонов относится к Ленину и культуре, я удержусь от восклицания. Вот такой "демократический поворот" темы (глава из цитируемой работы называется "Демократия как эстетическая проблема"). "Эстетика демократии – (…) то, что называют "постмодернизм" ".
Отсюда следует ("Красное и серое"): Коммерциализация искусства – громадный культурный сдвиг" (чем хуже для духа – тем лучше для человека, ибо, как выяснилось, человек и дух – не едины суть). Или: "Учитесь торговать – и вы спасётесь", т. е. искупите культурные грехи ("Поэт как буржуа"). Продолжим "Красное и серое": "нерепрессивная культура" видит свою задачу в том, чтобы превратить человека "не в гражданина, а в потребителя". "Высокий художник служил эксплуатации потому, что закреплял нормативность культуры в творчестве красоты. (Нет, всё же обширна тень Ильича! – А.А.) А жизнь некрасива, и в этом качестве имеет право на существование. Это и есть радикальнейшее из прав человека: право быть собой в своей эмпирической ограниченности, жить вне репрессий нормы". Вот она, "радикальная смена духовных вех" ("Бессмертный Егорушка"). Ей-богу, Борис Парамонов с его тягой к отчётливости и недвусмысленности формулировок мог бы претендовать в культуре на большее, нежели на "интеллектуальный эпатаж".
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































