Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"
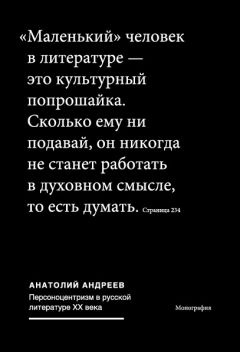
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Или, в русском варианте: чуткость к добру, несомненно, лучшее, что есть в человеке, однако уязвимость и беззащитность доброты приводят в отчаяние. А убери добро, опять же, жизни не станет…
Русский патриотический писатель, оставшись без героических идеалов и не приобретя новых, персоноцентрических, неизбежно впадает в трагизм, обладающий, по закону искусства, эффектом катарсиса: это не смерть, а сопротивление смерти. Трагическое в искусстве в самом себе заключает противоядие. Трагизм исцеляет, ибо несет в себе не капитуляцию, но протест, от которого рукой подать до гибельной победы.
И тем не менее из песни слова не выкинешь: на смену не ведающему сомнений героическому сознанию пришло сомневающееся в себе трагическое. С точки зрения культуры, личности – несомненный шаг вперед. А вот с точки зрения героя, не очень-то почитающего личность, это шаг в беспросветность.
Следуя закону целостности, пронизывающему жизнь, культуру, творчество, и даже отдельно взятое предисловие, обратимся к раннему, одному из лучших рассказов – «Уроки французского» (1973). Возможно, в нем и заключены зерна ненатужного оптимизма.
В «Уроках французского» описаны послевоенные голод и разруха (действие рассказа отнесено к 1948 году), которые как-то светлее и перспективнее сытой разрухи 1990-х. Мы смотрим на жизнь глазами жадного до впечатлений одаренного мальчика. «Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время».
Учительница с солнечной Кубани Лидия Михайловна преподала сибирскому мальчишке весьма специфические уроки – уроки правильного, достойного отношения к жизни. Сейчас это назвали бы гуманизмом. Тогда это было нечто французское, отдающее уважением к личности, вполне экзотическое, плохо стыковавшееся с действительностью. И мальчик на всю жизнь усвоил уроки человечности. Мальчишеское и женское начала здесь удивительно гармонично дополняют друг друга.
Я бы закончил сборник именно этим рассказом. Все впереди. Всегда все впереди. Надо учиться усваивать уроки – и у нас все получится. А если впереди трагедия…
Что ж, и к ней надо отнестись как к назначенному уроку.
Таков смысл мудреного урока, который можно извлечь из предлагаемого сборника рассказов русского писателя Валентина Распутина, – урока русского.
Золотой шнурок, или Конец литературной эпохе
Очень легко понять, почему грядущее обновление литературы ожидается и приветствуется в плане стиля (прогнозируется не обновление стиля, выражающего обновленное содержание, а стиля как такового): потому что в плане содержания, по-видимому, комбинации близки к исчерпанию. Именно по этой причине – по причине семантической исчерпанности – заговорили о конце истории, культуры, актуализировались апокалиптические умонастроения (устремленность которых – конец света); в этом контексте предвкушаемый конец литературы – всего лишь звено в цепи, всего лишь следствие печального культурного прогноза. Конец всему предполагает и конец литературы. В таком контексте обновление стиля становится симптомом конца литературной эпохи.
Содержание, гуманистическое содержание, если понимать его как совокупность известных нам семантических компонентов (элементов), уже действительно ничем не удивляет. Иначе сказать, неизвестных компонентов, скорее всего, просто не осталось. Экстенсивный путь семантического развития находится в кризисе, если не в тупике. Интенсивный путь, понимаемый как неожиданные комбинации известных, освоенных уже элементов, тоже видится не очень перспективным. Само комбинирование – действо сегодня предсказуемое и технологически, и по ожидаемому результату. Ничего нового литература (а также искусство в целом, и культура в целом) сказать уже не может: такова бессознательная точка отсчета во всей этой кучерявой «конечной» логике. Следовательно, согласно этой же логике, остается одно: пусть литература по-новому говорит о старом. Пусть говорит – пусть удивляет стилем. Нечего сказать – говори красиво.
Тут интересна даже не сама логика, а то, что она воспринимается как разумная логика и выдается за язык разума. Получается: мы имеем дело со всеобщим кризисом, и даже разум не в состоянии с ним справиться. Разум признает свое бессилие и честно признает свою неспособность управлять культурной ситуацией.
Здесь есть логика – но та логика, которая привела сегодня к семантическому тупику. Действительно, если посмотреть на смысловое содержание, доступное человеку, как на огромное неосвоенное поле, имеющее, однако, конечные параметры, то предыдущие эпохи действительно осваивали нечто новое, чем и входили в историю литературы. Человек – добр: это один клин семантического поля; человек – зол: это другой клин. На добро и зло можно посмотреть с разной степенью глубины: например, новая технология «диалектика души» обнаруживает новый пласт старых клиньев. Можно служить Богу или родине – а можно только «себе любимому»: это опять что-то новенькое в «познании» человека. Тематическая новизна только кажется безмерной: можно любить, а можно любить любовь, а еще можно ненавидеть любовь, можно думать, что ты любишь, а на самом деле ненавидеть; можно не любить любовь, а можно любить не любить и т. д. На самом деле темы вполне исчислимы, их до обидного немного. Как бы то ни было речь всегда идет о новом кусочке необозримого, но все же конечного поля, «вспаханного», так сказать, с определенной глубиной.
Если дело обстоит именно таким образом, то получается печальная картина: кто не успел – тот опоздал. Самые лакомые куски достаются первым, сомнительная заслуга которых прежде всего в том, что они первые (это количественный, а не качественный показатель). Появился Лев Толстой в нужное время в нужном месте – ему достался жирный кусок целинного клина. Клин освоен, больше здесь делать нечего, желающих просят не беспокоиться: их ожидает жалкая участь эпигонов. Им достанутся крохи с барского стола. Движемся дальше, на север, юг, восток и запад одновременно. Кто-то первый застолбил «черный квадрат», кто-то – «Матренин двор»: тоже неплохо, главное – быть первым. Так мы и освоили почти все поле; а если и нет, то рано или поздно это случится. Золотой век не может длиться вечно.
Еще раз повторим: здесь присутствует логика, но логика, ограниченная рамками одного поля. Действительно, это поле человечество освоило. В количественном отношении обозначен некий предел. А теперь зададимся вопросом: каковы же качественные духовные характеристики этого «поля»?
В рамках привычной логики хочется воскликнуть: да здесь все характеристики, ибо это поле – все, что у нас есть. У нас нет другого поля – вот в чем дело. Было бы другое поле – была бы другая логика. А так круг замкнулся и ограничился пространством одного поля, одного измерения. Других точек отсчета нет; есть, правда, чудеса, о которых столько наговорила литература, но в них мало кто верит. «В чудесах тех мало проку…» Следовательно, проблема семантической исчерпанности упирается в проблему системы координат, в проблему точки отсчета. Сама категория «точка отсчета» может родиться там, где подразумеваются несколько точек, несколько полей.
Если к проблеме гуманистического содержания подойти не «литературно» и не с позиций «благих пожеланий», а «рассудочно и разумно», то обнаружится какая-то невероятная вещь. Вся «литературная» эпоха человечества нещадно эксплуатировала один-единственный тип управления информацией (в святой простоте даже не догадываясь об этом!), а именно: в гуманистическом пространстве мир осваивался не столько абстрактно-логически, не столько сознательно и системно, сколько образно и бессознательно. Практически все наши беды нажиты «литературным мышлением», которое лепит мир под свои потребности. С точки зрения души, которая и является инструментом «мышления» в литературе, мир хаотичен, он есть «таинственное нечто» и, само собой, непознаваемое. К этому «нечто» можно только приспособиться: это является самой благородной формой капитуляции. Непостижимому миру – непостижимую логику. С точки зрения разума, мир (макро– и микрокосмос) внутренне структурирован, в нем присутствуют законы, в том числе законы души, согласно которым мир обязательно должен быть «беззаконным». В литературном ключе освоение мира (сведенного к формату одноплоскостного поля) происходило как приспособление к нему. Сейчас мы сыто констатируем: мы неплохо приспособились к миру. Исчерпанность освоения мира мы свели к исчерпанности приспособления – и замечательно (то есть душевно) приспособились к тому, чтобы не замечать еще одной – познавательной – возможности освоения, которая открылась нам в процессе приспособления. «Приспособительный» тип управления информацией исчерпал свои познавательные возможности.
Вот и получается: возможности познания мы «по умолчанию» оставили за наукой – и по-настоящему новая информация поступает оттуда, с того поля. А литература (искусство и – шире – образно-психологический способ освоения мира) по-прежнему успешно адаптирует познание под свои приспособительные возможности. Получается, что наши знания о мире, в принципе, расширяются и умножаются, познание развивается, меняются наши представления о мире, но в то же время ничего не меняется: ничего нового литература уже не говорит. И все это очень «таинственно».
К счастью, проблема познания выходит далеко за рамки литературы, хотя сама литература предпочитает это не замечать. Оно и понятно: целую эпоху литература была инструментом познания душ, она привыкла к этому своему боевому статусу «быть на передовой», быть в авангарде культуры, и теперь сопротивляется новому порядку вещей. Разум указывает место литературе, а не наоборот – к этому очень сложно приспособиться. Суть нового порядка вещей сводится к тому, что в гуманитарном пространстве пробивает себе дорогу новый, познавательный тип управления информацией, а именно: абстрактно-логический (что не является большой новостью) в новом качестве (вот здесь и сокрыто по-настоящему новое) – что позволяет всесторонне-диалектически осваивать «мир», осваивать в рамках тотальной диалектики. А это предполагает скептическое отношение к идее одного поля. «Пространство», «фактура», «вещество» объекта освоения видятся совершенно иными.
Спасение литературы придет оттуда, откуда она его совсем не ждет – со стороны науки. Это и будет подлинно новая, другая литература – органически продолжающая традиции литературы предшествующей, великолепной.
Качество мышления обновляет представление о содержании, а новый тип содержания определяет возможности нового стиля: вот спасительная цепочка и логика, адекватная реальности. В противном случае литературе действительно остается либо по-новому описывать «ничто не новое под луной» (а само описание, будучи способом приспособления, – вечно актуальный литературный прием), либо придавать стилю то экспрессию, то импрессию, то притчевость, то магичность, то наладить сюр-, то мета-, то метаметафоричность – короче говоря, обновляться в рамках стиля, то есть пышно загнивать, как и всякой вещи в себе.
Все сказанное легко подтвердить примерами сегодняшних стилевых поисков и экспериментов, но результат столь удручающе убог на фоне классики, что литературные факты часто невозможно отнести к феномену литературы. Ведь что ни говори, а литература всегда является способом реализации литературного таланта. Нет таланта – нет и литературы. Поиски есть – а литературы нет. Все же в качестве трагикомического курьеза, занесенного под рубрику «эксперимент», сошлемся на «текст» А. Синявского «Золотой шнурок». Сразу «текст» читать нельзя: можно не заметить его пророческой новизны и принять эту «передовицу» за бездарный бред. Тут надо не вкусу доверять и здравому смыслу, а чему-то «иному». Этот «текст» является тестом на наличие у вас этого самого «иного» (то есть на отсутствие здравого смысла). Да что там! Автор и не собирается скромничать; перед нами, по мысли автора, «в какой-то степени образ новой русской прозы». Становится жутко и интересно. Жутко интересно. Причем вот до этого момента – до момента, когда неспешно потечет новая русская проза, – А. Синявский вполне вменяем и по-своему логичен. Его «теорию» и собственно «текст» стоит воспроизвести хотя бы для того, чтобы уяснить себе, что ожидает новую русскую прозу на путях обновления. Итак…
«Как и некоторые другие, я ощущаю, что нужна новая русская проза. Старая проза надоела – если не читателям, то писателям, надоела самому развитию русской литературы.» Далее – совершенно верная мысль о том, что один образец, застолбивший нишу на «поле», превращает попытки перекрыть его в литературные потуги, которые «не имеют отношения к развитию русской словесности». «После «Матренина двора» повторять тот же вариант в бесчисленных образцах – русской, казахской, киргизской прозы – бессмысленно.
Не вижу я выхода и в заострении политических тем. Ни в переводе социальной энергии на сексуальную. Короче говоря, складывается ощущение – тупика.» Несколько запальчиво, но в принципе верно. Следует только заметить, что до «Матренина двора» «комплекс праведника», ставший содержательной основой так называемой «деревенской прозы», был уже давно освоен русской литературой – от Пушкина до Шолохова.
«В качестве тоже тупикового, но интересного состояния (выделено мной – А.А.) (…) я хочу привести кусок прозы, над которой и об которую бьется сейчас Абрам Терц. Для меня это в какой-то степени образ новой русской прозы. Текст называется – «Золотой шнурок»».
За это «тоже тупиковое» А. Синявскому хочется многое простить. «Интересное» оставим на его совести. А сейчас внимание – пошел «текст», в котором, надо полагать, содержатся ответы на многие животрепещущие вопросы.
«– У вас ли мой прекрасный башмак? – Да, он у меня. – У вас ли мой золотой шандал? – Нет, у меня его нет. – У вас ли мой новый платок? – Нет, у меня его нет. – Какой сахар у вас? – У меня ваш хороший сахар. – Какой сапог у вас? – У меня свой кожаный сапог. – У вас ли мой гусь? – Нет, у меня свой. – У вас ли мой старый нож? – У меня красивый нож. – Какой фонарь у вас? – У меня ваш старый фонарь. – Есть ли у вас новый стол? – У меня старый стол. – Есть у вас большой дом? – У меня большой, красивый дом. – Есть ли у вас маленький хорек? – Да, он у меня. – Есть у вас золотой нож? – У меня золотой нож. – Есть ли у вас серебряный шандал? – У меня оловянный шандал.
– У вас ли мой золотой шнурок? – Он у меня.» И т. д. «Текст» большой. Хотя несколько меньше «Слова о полку Игореве». Как говорится в таких случаях, ай да сукин сын, ай да матерый человечище! Думается, «золотой шнурок» А. Синявского – это именно та роскошная веревочка, на которой вздернула себя «другая» (в смысле новая) русская проза. Сколь веревочка ни вейся… В русской литературе всё знаки, всё символы, везде содержание. Начиналась русская литература с трагического распятия на кресте, с голой героики «Слова о полку Игореве», а заканчивается «интересным состоянием» – самоликвидацией на шнурке. Воистину, от великого до смешного – один цикл. Впрочем, можно считать эту смерть продолжением жизни. Так сказать, смертию смерть поправ. Можно считать как угодно. Но сегодня рука мастера уверенно тянется к «золотому шнурку», к чистой витиеватости, не отягощенной даже талантом, к неким стилевым новациям, к бессодержательности. «Тупиковое, но интересное состояние» – вот и вся перспектива. Не случайно «Золотой шнурок» украсил собой рубрику «Русские цветы зла». (То, что написано А. Синявским – «текст» ли? «произведение» ли? может, просто «шедевр»? – взято из книги «Русские цветы зла», составленной Виктором Ерофеевым. М., 1998, Изд. Дом «Подкова».) Тоже циклическая мера: начинали с добра, за здравие, с «золотого слова» Святослава, а кончили шнурком-с (в «тексте» всё строго на «вы»). Но зато каким: не простым, а опять же – золотым! Помирать – так с музыкой. После «Войны и мира» «Золотой шнурок» должен прозвучать если не гордо, то громко. Как хлопок дверью.
Можно считать «Золотой шнурок» «образцом» или «образом новой русской прозы», началом начал (у глупости ведь нет ни начала ни конца, она – везде…); лично мне этот «шнурок» представляется концом агонии. Литературная эпоха, а вместе с ней литературное «мышление», исчерпали себя. Шнурок повис. «Прекрасные башмаки» изношены. Шнурок отдельно – башмаки отдельно. Дальше – да здравствует эпоха нелитературная, в которой возродится другая литературная эпоха. И начнется она не со шнурков и башмаков – а с обновления ценностной парадигмы, с обновления содержания. Собственно, с головы, откуда и начинаются все процессы разложения и возрождения.
Золотой шнурок… Ну надо же.
Цветы зла на почве свободы
1
Антология «Русские цветы зла», составленная Виктором Ерофеевым (Москва, Издательский Дом «Подкова», 1998, изд. второе, исправленное), сама по себе, то есть качеством представленных в ней текстов, не заслуживает просвещенного внимания. Но она любопытна как симптом явления, породившего феномен другой литературы. Была одна литература – стала другая. Сегодня уже достаточно хорошо известно, когда кончается одна литература и начинается другая: всегда там и тогда, где и когда обнаруживается новая парадигма культурных ценностей, новая (или обновленная) культурная ориентация. По-старому говоря – там, где возникают новые идеалы.
Но «Русские цветы зла», кажется, решили удивить мир тем, что едва ли не сознательно избрали ориентацию антикультурную, и в этом смысле другую. Идеологом, манифестировавшим эту удивительную и, я бы сказал, умопомрачительную программу, выступает, естественно, составитель антологии. Неизвестно, насколько авторы, представленные в «родной прозе ХХ века», всё «лучшие писатели», разделяют позицию человека, объединившего под одной крышей Шаламова, Пьецуха, Толстую, Астафьева (приличный, но в данном случае не слишком впечатляющий художественный уровень) с Приговым, Львом Рубинштейном, Кисиной и самим Виктором Ерофеевым; тем не менее следует отдать должное составителю антологии, который, по собственному признанию, не любит литературные антологии: он отбирал произведения, так или иначе отмеченные печатью зла, можно даже сказать, овеянные духом зла. У него на это есть вкус и чутье. Правда, что есть зло Виктор Ерофеев, большой мастер наводить тень на плетень, не спешит прояснять. Оно и понятно: во-первых, и самому неясно, а во-вторых, зло должно быть привлекательно таинством, должно пахнуть цветами, должно быть красиво и опрятно и при этом не даваться в руки, быть мистически неуловимым, иначе коммерческий проект с немалыми культурными претензиями просто с треском провалится. А это и было бы наихудшим из зол. Сегодня рынок не прощает внятности. Тайна и загадка – вот чего жаждет публика, падкая, к тому же, на всякое зло.
Но Бог, судя по всему, хранит другую литературу, несмотря на то, что эпиграфом к книге избрана какая-то мутная и двусмысленная по отношению к Хранителю банальщина: «Зло – это то, что отдаляет нас от Бога и людей» (мудрость сия, как тут же указано, почерпнута из разговора с монахами Ново-Валаамского монастыря). Зачем Богу благоволить к злой литературе – загадка. Виктор же Ерофеев с помощью зла, как водится, творит благое дело: вносит «зубодробительные коррективы» в застоявшийся культурный расклад. «В итоге русский классический роман уже никогда не будет учебником жизни, истиной в последней инстанции». Дело сделано. Будьте любезны принять к сведению: «Мое поколение стало рупором зла, приняло его в себя, предоставило ему огромные возможности самовыражения. Это решение было подсознательным. Так получилось. Но так было нужно». «Итак, зло самовыразилось. Литература сделала свое дело». (Здесь и далее цитируется программная статья Виктора Ерофеева, давшая название антологии.)
Итак, бессознательное тяготение ко злу, нащупывание неких «добрых», конструктивных возможностей зла – вот сверхзадача другой литературы. Выправление «гиперморалистического крена», наивно заданного русским классическим романом, который «блестяще не справился» с непосильной, потому как, надо полагать, неверно сформулированной задачей: обосновать «философию надежды» – вот вам культурная миссия другой русской литературы, культивирующей цветы зла. С одной стороны – путаники-титаны Лев Толстой с Достоевским, а с другой – их уважаемые, вольно дышащие оппоненты Пригов с Виктором Ерофеевым. Получается диалог, карнавал и полный хронотоп.
Нас, повторим, интересует не столько качество «онтологических» текстов, составляющих пестрый, но хиловатый букет «русских цветов зла», сколько завуалированная, стыдливо оформленная претензия «подкорректировать» ту замшелую литературу, где самовыразилось добро. Кстати сказать, сама формула «цветы зла» по умолчанию делает точкой отсчета добро, «формулу цветка», что ж еще? Следовательно, не надо делать вид, что «в жизни нет ни справедливости, ни логики, а есть какая-то пульсация, мимолетные сны, жалко, и ничего не поделаешь» – не надо делать вид, что нет и быть не может универсальной шкалы ценностей и что зло запросто можно сделать формой добра. Эти мефистофельские штучки – если не примитивный цинизм, то пижонство. Короче, это не тянет на культурную позицию, хотя «красивыми словами» нам дают понять, что автор искушен и в кознях добра. Но вот этот формат – культурная позиция, точка отсчета в культуре – просто выпирает из эссеистических, полубессознательных манифестаций человека, не любящего литературных антологий.
Вот этим форматом мы и займемся. Автору антологии может показаться, что его неверно поняли, не так проинтерпретировали. Сам виноват: надо внятно говорить, чего тебе надобно, а не мистифицировать зло. «Подсознательные решения» по определению требуют истолкования.
2
На зеркало неча пенять, неча скулить, что, дескать, злые люди доброй киске не дают украсть сосиски – нечего обвинять культуру в том, что она этих добрых людей, озабоченных «властью зла», ставит на место, словно нашкодивших (бессознательно) милых тварей. «Русские цветы зла» – это всего цветочки; дойдет ли дело до ягодок?
Все вокруг как-то уверены, что современные писатели, фатально и брутально тяготеющие ко злу, избрали свободу по соображениям культурным. Свобода – это культовое их словцо, их пароль, их незыблемая, и даже абсолютная ценность. Кто против свободы? Обнажи свое тоталитарное лицо! Какой-то подозрительный вечный бой со сгинувшим социализмом, собственно, с бесплотной тенью ведут энтузиасты типа Владимира Сорокина и тех «злофилов», иже с ним. Ну, просто на страже каких-то рубежей. Границу на замок. С кем вы сражаетесь, господа, кого боитесь? Свобода, оно, конечно, супер, и вы уже почти герои, но зачем же так карикатурно хлопотать?
Все это наводит на размышления, потому как очень бессознательно. Думаю, их толкование горького слова «свобода» объясняет все. Одним из самых впечатляющих и модных проявлений свободы стала свобода от необходимости быть личностью, высокоразвитым в духовном отношении человеком, если выражаться словами, которыми могут поперхнуться литературные злопыхатели. Демократия, к которой так стремились из обручей социализма диссидентские полки, идущие хотя и вразнобой, но в одном направлении, – это когда не стыдно быть самим собой. Не стыдно своих желаний и хотений – потому не стыдно, что существует и греет где-то в области души святая вера в то, что нет и быть не может никаких культурных ценностей-универсалий. Нет «верха» и «низа», нет точки отсчета. Что душа желает – то и хорошо. Свобода объединенных ненавистью к социализму (не к «злобной» природе человека, заметьте, а к социализму, пытавшемуся идеализировать эту природу) быстро обернулась свободой безнаказанно и вполне легально, на полном культурном основании попирать культуру. Хам и опарыш стал мстить культуре за свою культурную несостоятельность. Если культура все – то я ничто. Это никуда не годится. А если взять и по старинке переиначить: «кто был ничем, тот станет всем» – и очень простым, весьма доступным и демократическим способом, а именно: ничем мы объявим культуру. И будем плясать от нуля. А там – иди проверь. «Регламентирующая» и «репрессивная» высокая культура с ее абсолютизированной установкой на самовыражение добра и «жестокий» социализм объединились в одно «устрашающее» для прогрессивного коллективного бессознательного семантическое поле, а свобода и неизбежное, увы, зло – в другое, гораздо менее страшное. Давайте восхищаться парадоксами тех, кто «мыслит» бессознательным способом. Вот эта духовная планка и стала отправной точкой отсчета, Джомолунгмой и Меккой в современной «другой» литературе. Вот та почва, из которой поперли все цветы, собранные в антологию, и неизбежно завяжутся ягодки, если цветочки вовремя не потравить культурой. Пусть цветут сто цветов – но не надо специально выращивать цветы зла. Это либо идиотизм, либо в буквальном смысле злой умысел.
Здесь надо иметь в виду следующее. Строго говоря, перед нами все тот же древний, как онтологическое зло, сюжет всей человеческой трагикомедии, человеческого бытия: противостояние культуры и натуры. Все собственно человеческие конфликты растут из этого корня, все цветы и добра, и зла. Делать вид, что нет зла, то есть начала природного, замешанного на инстинктах, – глупо и недальновидно; но делать вид, что, культивируя зло, угождаешь если не добру, то истине, – это хуже, чем зло: это глупость. Средствами литературы (сиречь культуры) убивать культуру – это что-то новенькое в конной авиации, новенькое в масштабах злоумышленников от литературы, конечно. Само по себе зло в культурном обличье – это давно не новость, еще со времен возникновения культуры.
Ядро культуры – система ценностей. Чему вы поклоняетесь? Злу?
Нет, конечно. Это кокетничанье, не более того. «Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк». Просто мурашки по коже. Это способ привлечь внимание, заработать деньги. Успешно продать пустую информацию, как бы имеющую отношение к культуре. А этот импульс имеет уже непосредственное отношение ко злу. Продавая такую информацию, писатели выдают себя с ушами: они не верят в культуру, они просто зарабатывают деньги – на самом святом для «гиперморалистической» литературы, «доказывая», что всякую литературу следует рассматривать всего лишь как род бизнеса. Отрицание культуры – вот настоящее зло. Эти бессознательные господа заигрались, будто щенки в погоне за собственным хвостом. «В самом писательстве обнаруживается род болезни, опасной для окружающих, что еще более подрывает верования в созидательные способности человека.» «Род болезни», «верования», «созидательные способности человека»: все это оборотная сторона гиперморализма – гиперцинизм.
По большому счету, в другой литературе нет ничего другого, ничего такого, что могло бы заставить иначе посмотреть на природу человека, суть которой обусловлена взаимопритяжением и взаимоотталкиванием двух начал, натуры и культуры. Природа человека характеризуется не стремлением к добру или почитанием зла. Это заботы разных групп писателей, и это в принципе неверная постановка вопроса. Природа «природы человека» заключается в поле напряжения, которое создается двумя полюсами: натурой и культурой. Уберете один из полюсов – и вы потеряете человека. Собственно, сила и специфика культуры проявляется в преодолении натуры. Соответственно сила зла заключается в умении поставить бессознательное выше сознания, в умении обнажаться, в твердолобой принципиальности в упор не замечать культуру. Вот в этом умении Ерофееву не откажешь. И классическая литература с божественной легкостью превращается всего лишь в фиговый листок. «Другой» акцент – мы все звери, господа, спасайся, кто может! – всего лишь спекуляция на специфике исторического момента, бессознательная реализация сознательной установки: лови халяву конъюнктуры, но смотри, чтобы никто при этом не поймал тебя за руку. Ну, и ловите, назначайте себе цену. Только при чем здесь классическая русская литература? Сопоставлять свою «цветочную» продукцию с литературой, имеющей отношение к способам духовного самоопределения, к способам духовного производства, – это тоже своего рода ловля халявы. У великой русской литературы хватает своих недостатков, и она никогда не была истиной в последней инстанции, не переставая при этом быть учебником жизни (и к сожалению, и к счастью, учебником была и остается). Дело не в ошибках литературы, а в том, что литература, любая литература, является далеко не самым лучшим способом думать, мыслить, анализировать. Другая литература вообще не имеет отношения к серьезному смыслопроизводству. Карикатура и пародия – это, в конечном счете, паразитизм и выражение концептуальной немощи.
Другая литература, если уж быть совсем точным, – это мутация или модификация духовного вируса под названием «обывательщина». Вирус этот классическая русская литература изводила на корню, – и при этом прекрасно отдавала себе отчет, что он бессмертен. Более того, он является условием жизни, и даже ее гарантом. Обыватель – это и есть плоть от плоти натуры, существо безмозглое, но хитрющее. Девиз тогдашних больших добряков, носителей зла, был прост и общедоступен: «Собрать все книги бы да сжечь!» Правильно: книги, умные книги, всегда мешали и мешают жить, они регламентируют и репрессируют, ибо задают высокие нравственные нормативы. Отбирают свободу не любить книгу. Сегодняшний обыватель уже кучеряво плетет словеса, полагая, что украшает, поэтизирует зло: «Любите и храните книгу, этот вечный источник знаний о цветах зла!» Но суть и там и тут великолепно и трогательно согласуется с природой вируса: инфицировать, разлагать, убивать. Оскал натуры, а не ирония культуры перед нами.
Вот почему – вернемся к тому, с чего начали, – сама по себе другая литература – ни уму ни сердцу. Нельзя сказать, что эта литература популяризирует зло как имманентное свойство культуры, в частности, свободы; она несет зло в том смысле, что является формой противостояния культуре. Не стоит другой литературе льстить себе тем, что она невольно доносит до читателя скромное обаяние зла, прельщает очарованием гадости, заставляет пускать слюни по поводу запретного, но сладкого плода. Дело отнюдь не в том, что выдающееся качество литературы вводит в заблуждение относительно привлекательности и самой природы зла. Дескать, такая изумительная литература, что и со злом смириться готов. Чистая победа чистого искусства. «Чтобы выразить силу зла, в русскую литературу пришло поколение далеко не слабых писателей.» Чего здесь больше: глупости, провокации или дремучей самовлюбленности, решать читателю. Мы же обратим внимание на следующий императив культуры: писатель, талантливый писатель, вообще не может «выразить силу зла», не выражая при этом мощь и неистребимость добра. Культурная продукция не может быть «злой», то есть по определяющей своей тенденции антикультурной, саморазрушительной, несущей гибель. Цветы зла, если они художественно впечатляющи, всегда амбивалентны: гимн смерти неизбежно превращается в гимн жизни. Эта «формула цветов», как и всякое «острое блюдо», состоящее из парадоксально совмещающихся ингредиентов, требует кавычек, иронически корректирующих прямой и неточный смысл. Подчеркнем: далеко не всякую продукцию поместишь под этой по-своему изысканной рубрикой. «Цветы зла» – это все же цветы, умение создавать красоту, по определению нейтрализующую «злобный» потенциал. Если убогий Пригов – цветы зла, то что такое бездарность? Если Рубинштейн и Кисина готовы дружить со злом, то это еще не основание приписывать им талант. Да и «лобные доли», то бишь «места», Виктора Ерофеева (речь идет о рассказе «Сила лобного места», смело помещенного в боевитую антологию, в компанию «лучших писателей», «далеко не слабых писателей»: таков скромный вклад автора в это «злое» дело) – это сухая трын-трава, а не пикантный и многозначительный дискурс де Сада.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































