Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"
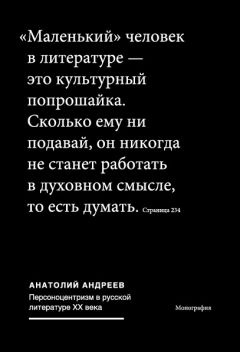
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Поэтому: «И сердце по-старому бьется, Как билось в далекие дни».
О новом времени можно сказать только осторожно и двусмысленно: «Теперь там достигли силы»…
Итак, образ Первой мировой войны в лиро-эпической поэме «Анна Снегина» становится, как и все, связанное с образом Снегиной, многоплановой «подготовкой» 17-го, этой новой роковой точкой отсчета. Анна Снегина далеко, в Лондоне, не в России; но она жива («Вы живы?.. Я очень рада… Я тоже, как вы, жива»). В России остался последний поэт Сергей Есенин, «уж старик по годам», пока живой, то ли на радость, то ль в страх. Слабая надежда пульсирует и в заключительных строках поэмы: «Мы все в эти годы любили, но, значит, любили и нас», которые перекликаются – роковое кольцо! – с заключительными строками первой части: «Мы все в эти годы любили, но мало любили нас».
В заключение хотелось бы вспомнить такую строку из поэмы, которая как-то теряется, несмотря на то, что она является сокровенным признанием героя поэмы: решил лишь в стихах воевать. Против кого или, точнее, за что воюет поэт?
Он отстаивает ту культурную тенденцию, имя которой персоноцентризм. Разумеется, любая война «изъедает душу», и «стихи про кабацкую Русь» являются тому красноречивым примером. И тем не менее – это культурная форма сопротивления. Поэт воюет не против Лабути, Прона или революции; он протестует против исторического уничтожения личности, близко принимая к сердцу эту печальную историю.
Война против любой войны, будь то война мужицкая, гражданская или мировая, война за право не воевать, война в стихах за право иметь возможность быть и оставаться личностью – это единственная известная истории гуманистическая война.
Собственно, настоящая литература только этим и занимается.
Правда войны и правда о войне:
два типа литературы
Война и литература – связаны между собой неразрывно, однако весьма и весьма противоречиво. Дело даже не в том, что существует великое множество произведений о войне; дело в том, что именно среди них мы обнаружим не просто великие произведения, но творения ключевые для культуры человечества. «Илиада»: вот оно, первое слово, и слово было о войне. Именно «Илиада» во многом является точкой отсчета в мировой культуре. Другое слово, «Слово о полку Игореве»: это уже начало начал славянства. Нам дорого «золотое слово, со слезами смешанное». Праздник со слезами на глазах: вот зачатки диалектического отношения к войне, отлившиеся в неплохую формулу. «Война и мир» – это роман романов, это роман такого класса, что комплименты неуместны; возможно, это просто лучший роман человечества. На лучший роман ХХ века вполне может претендовать «Тихий Дон».
Складывается впечатление, что если бы не было войны, то и литературы бы не было. То ли война рождает литературу, то ли литература не может существовать без войны. Но война и литература – тема вовсе не благостная и отнюдь не однозначная. Это, так сказать, не мирная, взрывоопасная тема. Союз «война и литература» органичен в определенном ключе, в определенном ракурсе, и отыскать его – непростая культурная задача.
Если народ вел справедливую войну (а глас народа – глас божий; там, где народ, – там и справедливость), то это еще не основание считать литературу, в которой отражена такая война, превосходной. Бывают и священные войны, безо всякой иронии. Но строго говоря, и священная война – не аргумент для литературы. Для литературы аргумент – степень художественности, талантливости, гениальности. А предпосылкой высочайшей художественности является (безо всяких исключений) то, что метафорически определяют как глубина содержания. Глубина художественного содержания является характеристикой информационно-концептуальной; следовательно, наличие в произведении, где эстетические параметры приоритетны, духовной (неэстетической) программы является тем обязательным условием, которое является прямым и непосредственным показателем глубины. Духовная программа, данная нам в ощущениях (эстетически отраженная и воспринятая), – вот святая святых произведения. Еще проще: все упирается в масштаб личности творца, которая (личность) задает масштаб художественного мира. Применительно к данной теме это означает: скажи мне, насколько всесторонне ты видишь войну, и я скажу, какое произведение может получиться.
Такая глубина содержания не задается войной автоматически; дескать, не надо ничего выдумывать, просто опиши страдания – и все: они скажут сами за себя. Предметом литературы никогда не были страдания, даже не страх и героизм сами по себе, и даже не душа; всегда и только – природа человека (которая, как часто кажется, коренится в душе). Поэтому война для литературы – это «находка» в том смысле, что ставит человека в экстремальные, пограничные условия, где проблемы плана экзистенциального обнажаются до своей первородной глубины и до страшного просто. Не война страшна, а человек. И не война задает глубину, а последняя раскрывается в обстоятельствах войны. Иначе сказать, война становится способом раскрытия глубины, а не самим содержанием.
Поэтому сразу следовало бы развести разные функции и возможности литературы: изображение войны как бед народа, как иллюстрация патриотизма, как, если угодно, социальный заказ – это одно (это, так сказать, план очевидный); а война как условия, в которых раскрывается природа человека, как предпосылка экзистенциальной ситуации – это несколько иное (это установка на многомерность, тяготеющую к объективности).
Большие художественные возможности возникают тогда, когда удается связать войну и природу человека. Это и становится темой литературы, ибо это подлинно культурный поворот темы. Сама же война – это вовсе не литературная тема, поскольку личность здесь теряется, а если не теряется и выдвигается на первый план, то война как тема неизбежно отходит на второй план. Такова диалектика средств изображения и сути изображаемого.
В связи с этим уместно вспомнить если не закон искусства, то литературную заповедь. Существует выражение: смерть миллионов – статистика, смерть одного – трагедия. Хочешь показать трагедию всех – покажи трагедию одного. Лермонтов, который полемически обнаружил Героя Времени в миру, как частное лицо, а не на войне, как защитника народа, в своем романе обронил: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление».
Есть еще одна грань войны, связанная с природой человека. Война в известном смысле является естественной составляющей человека, вообще всего живого; единство и борьба противоположностей: это ведь тот самый предмет литературы, где борьба порой переходит в войну. Война становится, так сказать, атрибутом «мира». Или иначе: война и мир – это метафора единства и борьбы противоположностей, это противоречивое (нормальное) состояние духовного мира. Война в этом контексте становится единственной дорогой к миру, и даже «механизмом» прогресса: через «микровойну», через борьбу противоположностей осуществляется всякая, в том числе духовная, эволюция.
Все это вовсе не так отвлеченно, как могло бы показаться. Обратимся к эпопее Л. Толстого «Война и мир». В данном случае важно отметить, что Толстой заставляет воевать, конфликтовать Запад и Восток – не столько в географическом, сколько в символическом значении; если уж быть совсем точным, то субъектами противостояния становятся рациональное начало, присущее «Западу», западному типу отношения к миру, и начало душевно-психологическое, русское («восточное» по отношению к западу). За Отечественной войной 1812 года скрывается особая, невидимая война, выплескивается наружу столкновение двух культур: тип освоения жизни «от ума» и от того, что умом не понять: «от психики». Толстой прямо и недвусмысленно встал на сторону иррационально-душевного «постижения» смыслов бытия (если подобное непосредственное усвоение смыслов через их «сопряжение» можно назвать постижением). Именно такое «Бородино» интересовало Толстого, именно такое «Бородино» лежит в основе его универсальной концепции. Поле битвы – «человеческое измерение», противоборствующие стороны – психика и сознание.
Условно этот вектор в развитии культуры можно назвать «социоцентризмом», имея в виду мировоззренческий приоритет народного (опирающегося на душевное, которое сплачивает, объединяет) над личным (которое является результатом «разумного» отделения от душевно-народного). «Мысль народная» здесь выступает как путеводная иррациональная установка. Это литература, в центре которой народ и герой, а не личность.
Конечно, подобный опыт постижения мира и человека через войну не мог остаться незамеченным в эпопее Шолохова «Тихий Дон». Если брать, так сказать, «внешний», видимый невооруженным глазом план (концептуально, конечно, невооруженным), то мы наблюдаем гражданскую войну, войну русских с русскими. Историческая и духовно-национальная основа, как и в случае с эпопеей Толстого, не вызывает сомнения, и она в известном смысле самоценна. Однако по существу конфликт, интересовавший Л. Толстого, а также Пушкина, Достоевского (чтобы закрыть вопрос, прибегнем к категоричности: всех без исключения корифеев словесно-художественного творчества), переносится внутрь, в границы одной личности, целой и неделимой. Здесь Бородино – вся Россия, все русское. Внутренний конфликт, окончательно закрепленный в качестве культурной традиции, осознается как личностно продуктивный и, если угодно, эпохальный. Личность становится моментом вселенной; хочешь говорить о народе или о людях вообще – говори о личности.
Что значит ум противостоит душе? В этом случае личность выступает как враг самой себе, русские – русским же; война, к сожалению, продолжает оставаться культурно узаконенным способом разрешения конфликта, способом выяснения отношений (на деле превращаясь в способ самоуничтожения, причем, не только русских – всех людей вообще). Происходящее с одним человеком, с Григорием Мелеховым, становится моделью того, что в принципе может произойти – и происходит сегодня – со всеми. В этом контексте эпопея Шолохова становится символом и знаком целой эпохи.
Достаточно ли сказать, что эпопеи Л. Толстого и Шолохова – о войне? Нет, конечно. Более того: они в принципе не о войне.
Вести серьезный разговор о произведениях, в которых отражена Великая Отечественная война, можно в определенном культурном контексте, ибо это частный случай общей проблемы «война и литература».
Произведений о войне много, но произведений, ставших знаковыми, – как всегда, по пальцам перечесть. Я бы сказал так: Великая Отечественная война поставила литературу в трудное положение, ибо выразить масштабность такой войны – дело вовсе не простое. Это своего рода культурный подвиг. Мало сказать, что это была не рядовая война; это была именно Великая, глобальная, мировая война, война натуры против культуры. Любой мыслимый конфликт можно представить себе в рамках этой войны. Одно из главных противоречий этой войны заключалось в том, что личность, уникальная личность, центр и средоточие культуры, самой логикой событий превращалась в песчинку, в «ничто». Идеология фашизма, опиравшаяся на «закон джунглей», целенаправленно превращала человека, носителя этой идеологии, в животное. Неудивительно, что захватчик стремился превратить «население оккупированных территорий», особенно восточных, в подобие скота: по себе судили о других. Это была война против гуманизма, где вытравливалось веками накопленное человеческое; это была, так сказать, глобальная антикультурная акция по наведению «нового порядка». Высшим достижением культуры с помощью интеллекта, инструмента культуры, пытались сделать низменное в человеке: это не что иное как попытка подрыва гуманистических устоев, самая настоящая антикультурная революция. Ведь дело не сведешь к тому, что фашисты стремились истребить евреев, славян и вообще всех тех, кого они причислили к «низшей расе». Вначале они истребили все человеческое в себе, они же и стали первой жертвой ими развязанной войны. Это была война в том числе и против самих себя – в принципе против всего человеческого и культурного, где бы оно ни находилось. Таков трудновообразимый масштаб этой войны, таково ее «человеческое измерение».
Те, кто победили в войне против фашизма, навсегда заслуживают памяти и уважения. Это тот редкий случай, когда пафос не просто уместен и оправдан, но и необходим. Чтобы сохранить себя как личность, надо стать героем, отказаться от всего личного в себе: это императив особой исторической ситуации. Война и личность, война и «персоноцентрическая ориентация» – вещи трудносовместимые, но когда их все же удается совместить – появляется нечто достойное внимания. Сразу же стоит отметить, что эта тенденция – совместить войну и природу человека – обозначилась с момента появления литературы о войне (хотя и не получила развития). Она отчетливо проявилась в произведениях В. Быкова, Ю. Бондарева, В. Астафьева, Э. Казакевича, Б. Васильева… В литературе подобного типа в центре – именно личность, а народность и героизм – способ ее проявления, но не самоцель.
Нас, однако, будет интересовать повесть В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946) – и не в качестве одной из первых книг о войне, а как особый тип литературы о войне: как образец правдивого (очевидно правдивого!) отношения к войне, имеющего социоцентрическую направленность. Всегда востребованная военная тема реализовалась через тяжелую литературную судьбу военной прозы, как ни странно. Правда о войне с самого начала оказалась вещью тонкой и многоликой; с одной стороны, она очевидна, с другой – никак не дается в полном объеме.
Некая непосредственная, не умом, а честным чувством улавливаемая правда, отражена в этом произведении бесспорно. Будни войны, чувство жизни, страх смерти, надежда, боль – все это правда. Более того, у повести Некрасова репутация первой правдивой книги о войне. «Такие книги пишутся по свежим следам и на одном дыхании,» – заметил как-то сам автор (к этому мы еще вернемся). Какие же книги «пишутся по свежим следам и на одном дыхании?»
Во-первых, они часто пишутся не профессионалами, но непосредственными участниками событий, что служит своеобразной гарантией искренности и безыскусности. Концептуальная обработка материала – это уже свидетельство высшего литературного мастерства, и цена такого мастерства – утрата искренности и подделка «безыскусности». Однако «не профессионал» – вовсе не означает, что автор ничего не понимает в литературе. Понимает, но, к счастью для правды, которую он несет, понимает далеко не все. Объективность для писателя непозволительная роскошь.
Во-вторых, читатель видит только то, что попадает в поле зрения героя (субъектная организация повести – от первого лица, что, кстати, в какой-то мере органично для «не профессионала» и «участника»; по отношению к разбираемой повести выбор субъектной организации профессионально точен: писатель маскируется под «просто участника»). Плюсы и минусы такой подачи материала хорошо известны: с одной стороны, искренность, лиризм и полная свобода, с другой – ограниченность кругозора. Если угодно, в повести действительно отражена «окопная правда» (за которую критика поначалу так ругала «безыдейного» автора: из окопа плохо видна идейная сторона жизни, да и рассуждать особо некогда, не до жиру).
Что видит рядовой участник войны? Мозаику будней, чистую эмпирику, которые усилиями автора (не стоит слишком доверять тезису о его литературной неискушенности!) складываются в некую закономерность. Сюжета нет, все держится на хронологии, то есть на цепи невыдуманных, калейдоскопически чередующихся событий, отражающих, якобы, правду как таковую, «саму жизнь». Отступление – оборона Сталинграда – наступление. Но это уже не хронология и эмпирика, это больше, чем хронология: это внутренний сюжет книги, отражающий поиск составляющих победы. Не личность оказывается в центре внимания, а личность, находящаяся в гуще народа и без него теряющая свою ценность. Тут как раз не история души интересна, а история народа, отраженная в душе.
Какую правду можно передать указанными способами, где неопытность оборачивается формой литературного мастерства (ничего не выдумано, но «взято из жизни» именно то, что следовало бы выдумать)?
Почти полкниги (вплоть до конца 1 Части) не происходит ничего исключительного, никаких подвигов. Автор словно специально усыпляет бдительность читателя «монотонностью правды», чтобы затем незаметно показать ему правду героического. Это будничное героическое. Для передачи такой героики понадобилась отстраненность изображения, которую оценили как «ремаркизм». Это действительно подражание, это действительно влияние Ремарка (хотя в первую очередь – Хемингуэя), но это органично соответствует мироощущению автора. Поэтика «скупой мужской слезы» – сдержанный синтаксис, минимум эпитетов, приоритет фактов над оценкой и аналитикой – приспособлена для передачи «скрытой теплоты патриотизма», центрального нерва всей книги. Как бы отсутствие пафоса становится высшим пафосом; о масштабе тщательно скрываемого чувства читатель судит по отдельным его, «случайным», проявлениям. Это, конечно, модификация «поэтики подтекста», поэтики «подводного течения». Вот характерные примеры.
«– Патронов хватит, комбат?
– Пока хватит.
– Там еще один ящик лежит, у землянки. Последний, кажется…
– В него мина попала.
Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение.
– Не уйдем, лейтенант? – Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые.
– Нет! – говорю я.
Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму».
Так люди попрощались навсегда и приняли решение остаться почти на верную смерть. Без лишних слов. Это именно героизм без лишних слов, героизм, которого как бы нет. (Текст цитируется по изданию: В. Некрасов «В окопах Сталинграда». Генрих Белль «Где ты был Адам?». М., «Молодая гвардия», 1991, с. 175)
Еще фрагмент. «Катер долго не может пристать, пятится, фырчит, брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной, осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много. Очень много. Сперва ходячие, потом на носилках. Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин.
Потом грузят ящики. Закатывают пушки. Топчутся лошади по сходням. Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Против ожидания все идет спокойно и организованно. Даже комбата моего не слышно» (там же, с. 94–95). Сквозь будничную черновую работу проступает «скрытая теплота патриотизма», скрытая решимость победить или умереть. Народ как субъект изображения, народность патриотизма, одна на всех победа и одно на всех поражение – это уже явно школа Л.Н. Толстого. У «неопытного автора» были неплохие литературные учителя.
Таким образом, из ничего, из песчинок правды складывается то, что можно назвать психологическим механизмом победы в среднем и низшем звене Красной Армии, засевшей в окопах. Собственно, в народе. Перед нами своего рода производственный роман, вскрывающий технологию окопной войны. Это производство или способ жизнедеятельности связаны с выработкой некоего «экзистенциального вещества». Не быт (эмпирика), а бытийность войны: таков подлинный фон или подтекст событий. Момент рождения духа победы из беспросветного отчаяния интересует автора. Вот почему гимн победе получился с траурными нотками. Такова правда романа.
Разумеется, тотальное господство эмпирики в хорошем произведении просто невозможно, и некие обобщения пунктиром проскакивают в книге (не забудем: главный герой, лейтенант Юрий Керженцев, – архитектор по образованию и интеллигент по складу души, любящий литературу). Вот достаточно характерные «состояния», которые можно трактовать как философские вкрапления: «Жили, учились, о чем-то мечтали – тр-рах! – все полетело – дом, семья, институт, сопроматы, история архитектуры, Парфеноны» (там же, с. 144). Но это не предел рефлексии, хотя характерный способ обобщать. Жизнь человека на войне – это именно жизнь человека, но не личности:
«– Расскажи-ка лучше… Как-никак – четыре месяца, кусочек порядочный.
– Да что рассказывать, товарищ лейтенант. Одно и то же… – И все-таки рассказывает обычную, всем нам давно знакомую, но всегда с одинаковым интересом выслушиваемую историю солдатскую… Тогда-то минировали, и почти всех накрыло, а тогда-то сутки в овраге пролежал, снайпер ходу не давал, в трех местах пилотку прострелил, а потом в окружении сидели недели две в литейном цехе, и немцы бомбили, и есть было нечего и, главное, потом опять минировали, разминировали. Бруно ставили…
– В общем, сами знаете… – и улыбается своей ясной улыбкой» (там же, с. 241). «История солдатская» становится «историей души человека» во время войны.
А вот высший пилотаж обобщения: «Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом.
Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас – смерть» (там же, с. 84).
Писатель писал со знанием дела. Конечно, это уже не только война, это уже жизнь и смерть. Однако в общем и целом эти «начала экзистенциального анализа» вполне укладываются в рамки предлагаемой «окопной правды»: ощущение войны не переходит в исследование природы человека. В повести социальной правды больше, чем духовной. Причем правды социальной общепринятого порядка: это война с фасада, так сказать, приглядная сторона войны, несмотря на всю ее разрушительность. «Ремаркизм» в таком контексте вполне устраивал сталинизм. У Некрасова народное (по большому счету) счастливо не противоречит официальному, а это уже, если угодно, стихийный соцреализм. Хорошие командиры становятся народными любимцами, плохие, такие как Абросимов, рано или поздно получают свое. Вот почему повести, в которой по формальным признакам не было ничего соцреалистического, сенсационно была присуждена Сталинская премия. Соцреализм и правда объединились перед лицом общего врага. Социальная направленность произведения не вызывает сомнений. Социальная аура сказывается, в частности, в том, что до сих пор художественные достоинства (или недостатки: смотря кто оценивает) повести связывают с факторами социальными: в ней нет ни слова о партии, всего три строчки о Сталине, нет ни одного политработника, нет генералов и т. п.
Что касается стороны «неприглядной», не очень одобряемой официально, то дальнейшее развитие военной прозы шло как раз по пути количественного расширения сторон: вширь, но не вглубь. Все новые и новые грани социальной правды обнаруживали В. Кондратьев («Сашка»), К. Воробьев («Это мы, Господи!»), В. Быков («Сотников»).
Сегодня уже очевидно, что «по свежим следам и на одном дыхании» только такое произведение, как «В окопах Сталинграда», и можно было написать. В идеальном случае – именно такое. Литература о Великой Отечественной могла возникнуть только как литература социоцентрического типа. Повесть Некрасова – своевременная и органичная книга, в этом ее привлекательность и достоинство. В ней были правда чувства и правда жизни, отраженные патриотическим чувством. Правда сквозь призму «скрытой теплоты патриотизма» – вот правда честной книги В. Некрасова. Это была правда войны, правда тех, кто воевал в окопах.
Интересно, как оценивает эту правду сам Некрасов через 35 лет после написания своей правдивой книги. В заметках «Через сорок лет…», имеющих подзаголовок «Нечто вместо послесловия», автор честно (субъективно он всегда был честен) пишет: «Мне часто говорят:
– Считается, что вы написали первую правдивую книгу о войне. Всю ли правду вы рассказали? Всю ли правду вы рассказали? Или что-то скрыли, что-то у вас выкинули? Сядь вы сейчас за нее, когда руки у вас развязаны, изменили ли б вы в ней что-нибудь?
Отвечаю с конца. Сейчас бы не сел. Такие книги пишутся по свежим следам и на одном дыхании». «О правде. Вся ли она? В основном вся. На девяносто девять процентов. Кое о чем умолчал – на один процент.» Вот суть правды: «В мире воцарится мир! Взошло наконец солнце Свободы! Для всех. Для освобожденных народов, для нас, для меня…
Именно в это – что Красная Армия принесла миру мир и свободу! – верил я, когда полупарализованными пальцами выводил на склонах Красного стадиона в школьной тетрадке первую фразу: «Приказ об отступлении приходит совсем неожиданно…»
Но правда превратилась для Некрасова в миф. «Враг будет разбит! Победа будет за нами! Но дело наше оказалось неправое. В этом трагедия моего поколения. И моя в том числе…» (там же, с. 248–263).
Это ведь тоже «правда по свежим следам», правда разочарования, которая есть не что иное, как очередной миф. Не ставя под сомнение искренность и правдивость слов писателя, следует констатировать: одна правда вовсе не отменяет другую, как это казалось Некрасову. Правда книги была в том, что правда присутствовала, но она жила отдельно от других правд, столь же очевидных. Правда «по свежим следам» и правда как универсальная, объективная категория, тяготеющая к совершенно бесстрастной истине, – это разные вещи. Писатель спутал правду войны и правду о войне. Ничего не поделаешь: такова правда жизни.
Серьезная всеобъемлющая концепция требует времени и художественно-философского труда: мировой литературный опыт свидетельствует именно об этом. Пришло время совмещения правд. Это вызов времени, как принято говорить сегодня. Не хотите войн – научитесь совмещать правды: это самая большая культурная задача, стоящая перед людьми. Для этого необходима литература особого – личностного – типа.
У войны как феномена нравственно-религиозного, морально-социального, политико-экономического, психологического, эстетического, философского – множество измерений. Масштаб войны требует соответствующего масштаба литературы (где все упирается в масштаб личности). Если сегодня подводить итоги, то один из итогов отражения войны в литературе будет парадоксальным. Строго говоря, тема именно Великой Отечественной войны, не получила еще адекватного отражения в литературе, ибо тема этой войны – это битва, развязанная фашизмом, война человека против человека в душе и сознании человека. Эта тема в известном смысле деликатна, она не чтобы табуирована или находится под запретом, но чтобы прикоснуться к ней и не поранить, а излечить, требуется колоссальный культурный такт. Чуткие люди внимают рекомендации социума: даже анализировать «чуму ХХ века» не безопасно. Слишком больная и страшная тема. Чтобы не пропагандировать дьявола, приходится делать вид, что его нет. Вряд ли это выход из положения. Фашизм, к сожалению, – одно из проявлений природы человека, и бесчеловечностью фашизма ограничиться было бы наивно. Это поверхность темы, но не глубина ее. Человеку еще предстоит заглянуть в глаза себе.
Я убежден: тема Великой Отечественной войны не снята с повестки дня. Здесь, разумеется, нельзя отдать приказ и заставить написать эпохальное полотно. Но самой логикой культуры материал Великой Отечественной должен быть востребован. Победа в войне против культуры – это великое культурное событие, это достояние всего человечества. Вот почему великие произведения о Великой Отечественной – это дело не только вчерашнего дня и не только поколения войны, это и дело будущего.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































