Текст книги "Персоноцентризм в русской литературе ХХ века"
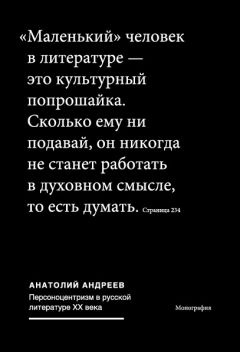
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Кто еще вчера мог предположить, что культура может принять смерть из рук культуры же! Мы всегда испытывали дефицит культуры, тогда как натура перла изо всей щелей, и ее не было жалко: ментальный слой был очень тонким по сравнению с витальным. Любимая присказка «природа возьмет свое» сегодня вдруг перестала успокаивать, ибо сегодня приходится культуру защищать от культуры, и делать это культурными средствами. На самом деле мы как сражались с дремучей природой, так и продолжаем сражаться. В этом смысле «Тихий Дон» – колоссальная культурная профилактика: он не просто возвращает нас к почве, но указывает на зависимость культуры от натуры.
Причем, противостояние натуры и культуры происходит не только и не столько в форме чувств, стихии сердца и души, с одной стороны, и холодного, бездушно-бессердечного рационализма – с другой. Это противостояние очень тонко конкретизируется. На сторону чувств встал и формально возглавил ее интеллект (формально, ибо по существу он представляет интересы чувств), в результате стихия бессознательного резко усилилась, но не перестала быть таковой; а вот полюс сознания остался за «головой», где душевное начало не исчезло, но попало в подчинение к интеллекту особого рода: разуму. Разум как высшая духовная инстанция выражает интересы не души и не ума; он выражает интересы человека в целом. Вот почему логика интеллекта (формальная, одномерная) отличается от логики разума (диалектически многомерной, принимающей к сведению противоречивость человека).
Узенькая полоска, тоненький просвет между интеллектом и разумом, где происходит перераспределение стратегических (мировоззренческих) полномочий: вот куда переместился эпицентр борьбы за выживание человечества. Это и есть тот самый водораздел культуры и натуры, передний край борьбы противоположностей, где выковывается их единство, линия фронта и ахиллесова пята: все вместе.
И Гришкины метания символизируют противостояние разумного начала и интеллекта (за которым стоит дремучая мощь бессознательного). Подвергая сомнению холостую работу интеллекта, Гришка становится культурным героем, несмотря на укорененность в почву (или благодаря ей: это две стороны одной медали). «Спутали нас ученые люди»…
Душевно-мыслительные «состояния» Григория, когда он «мучительно старался разобраться в сумятице мыслей, продумать что-то, решить», сопровождали его всю сознательную жизнь и превращались в духовную работу, хотя внешне всегда напоминали «сумятицу» (2, 5, II). Он прошел несколько этапов в своем становлении и вернулся на круги своя – так сказать, с вершин кургана к почве, и это был не бесплодный тупиковый возврат к мертвой точке, а путь, обогащенный раздумьями и превративший Мелехова в культурного героя. В результате он вновь обрел почву и твердо встал на ноги. «Изварин подолгу беседовал с Григорием, и тот, чувствуя, как вновь зыбится под его ногами недавно устойчивая почва, переживал примерно то же, что когда-то переживал в Москве, сойдясь в глазной лечебнице Снегирева с Гаранжой. (…) Обуреваемый противоречиями, Григорий осторожно расспрашивал о большевиках:
– А вот скажи, Ефим Иваныч, большевики, по-твоему, как они – правильно али нет рассуждают? (…)
– Рассуждают? Кха-кха… Ты, милый мой, будто новорожденный… У большевиков своя программа, свои перспективы и чаяния. Большевики правы со своей точки зрения, а мы со своей» (2, 5, II).
«Рассуждать» можно и «правильно», но это не та «борозда», которая ведет к истине. Интеллект достаточно эффективно обслуживает любые «чаяния». А вот разум относится к ним критически. «Ломала и его усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью, враждебного и непонятного мира. Там, позади, все было путано, противоречиво. Трудно нащупывалась верная тропа как в топкой гати, зыбилась под ногами почва, тропа дробилась, и не было уверенности – по той ли, по которой надо, идет. Тянуло к большевикам – шел, других вел за собой, а потом брало раздумье, холодел сердцем. «Неужто прав Изварин? К кому же прислониться?» Об этом невнятно думал Григорий, привалясь к задку кошелки. Но когда представлял себе, как будет к весне готовить бороны, арбы, плесть из краснотала ясли, а когда разденется и обсохнет земля, – выедет в степь; держась наскучившимися по работе руками за чапиги, пойдет за плугом, ощущая его живое биение и толчки; представляя себе, как будет вдыхать сладкий дух молодой травы и поднятого лемехами чернозема, еще не утратившего пресного аромата снеговой сырости, – теплело на душе» (2, 5, XIII).
Гришка умнее «ученых людей», потому что он пропускает парадоксы жизни через сердце, и мысль у него живет, бьется, пульсирует. Неверная мысль – и сердце холодеет; теплеет на душе – значит, «нащупывалась верная тропа». Он «невнятно думает» всем существом, не только «головой». А умные люди «ничтоже сумняшися» действуют по схеме: идеологический импульс – социальная реакция. Это и называется «стреножить жизню». Гришкино «непонимание» в культурном отношении гораздо выше «понимания» идеологически ангажированных и ослепленных сторон, ибо это «разумное недоумение», а не идеологический идиотизм. Стороны дрались за идеи, за «программы» и перспективы», рожденные интеллектом, «рассуждением», а Гришку интересовал человек. Но объяснить что-либо нашим и вашим, даже самому себе, он был не в состоянии. Вот он, модус горя от ума. Вот она, связь с Пушкиным, Толстым, Достоевским. С мировой культурой. С культурой вообще.
Возникает вопрос: а почему, собственно, правда романа оказалась на стороне Григория? Ведь, скажем, тот же Иван Алексеевич «доходит» до своей «борозды» «ощупкой», – способом, который, на первый взгляд, мало отличается от Гришкиного: «Как я тебя могу убедить? До этого своими мозгами люди доходют. Сердцем доходют! Я словами не справен по причине темноты своей и малой грамотности. И я до многого дохожу ощупкой…» (3, 6, XX).
Тут все дело в духовной одаренности Мелехова, в его способности аккумулировать противоречивые смыслы, «сердцем доходить» до разных правд и видеть их относительность. Курган Гришки повыше будет: вот в чем его беда, которая оказалась для романа золотой находкой и удачей.
Масштаб шолоховской эпопеи очень сложно, если вообще возможно, осознать за столь краткий период времени, прошедший после ее создания. «Большое видится на расстоянье»: это подтверждает культурная практика человечества. Но осознание культурного величия не приходит само по себе, ибо это не озарение и не откровение. Это большая черновая работа: философско-методологическая, эстетическая, текстологическая – словом, культурный, то есть разумный, труд. Великие писатели существуют только потому, что есть великие читатели. Иными словами, шедевр не просто бередит души и будоражит умы, но и обязывает держать культурную планку, поддерживать определенный уровень научного осмысления.
Культурную величину «Тихого Дона» – огромный курган, сверкающий гранями правд! – можно обозреть только силами развитых «разумных» гуманитарных наук, которые мыслят системно и целостно.
Магия таланта, или Разгадка Сирина
Nabokov?.. Сирин?.. Набоков
1
Владимир Набоков справедливо считается одним из тех писателей-чудотворцев, кому удалось разлучить Красоту со Смыслом; при этом несправедливо считается, что подобное разлучение в принципе возможно.
Этим парадоксом и определяется подлинное место Набокова в культуре: он почти совершил невозможное. По большому счету, каждый классик – это более-менее удачная попытка совершить невозможное. Возможное – это всего лишь литература (относительно качественная), на невозможном же оттиснута невидимая печать избранности, уникальности.
Набоков справедливо считается уникальным писателем. Однако мало кто подозревает, что плата за уникальное – банальность.
Начнем с того, что уникальность – противоречивый продукт, и разобраться с уникальным – постичь противоречия. Для Набокова данный постулат актуален вот в каком модусе: Красота – детище Смысла; пытаться их разлучить – соблазнительная, но, увы, дешевая и безответственная авантюра.
Однако существо вопроса еще глубже: в подобной попытке нет ничего личного. И даже еще глубже: Личность никогда не унизится до такой попытки. Почему?
В ответе на этот вопрос содержится ключ к феномену Набокова.
2
О Сирине, который, якобы, превратился в Nabokov`а, предварительно став из Набокова Сириным, испокон веку принято говорить как о загадке; позволим себе не согласиться и возразить: в нем нет ровным счетом ничего загадочного. Есть писательский талант, который всегда загадочен как таковой, а человеческой загадки, делающей талант непостижимым, – нет.
Разгадка загадки в том, что загадки-то и нет.
Разгадка «незагадки» проста: он вовремя, с не делающей ему честь социальной чуткостью отвернулся от социоцентрического начала в культуре (от традиций русской литературы в том числе), но так и не разглядел в отечественной литературе загадочной персоноцентрической ориентации (прохлопал того же «Евгения Онегина», вокруг которого Набоков крутился, как кот вокруг горячей каши, да так ни до чего и не докрутился; вся его заслуга – свел духовно-эстетическую «громаду» к изобразительно-выразительной погремушке, то есть по себе, по своим собственным невыразительным духовным возможностям судил обо всех гениях).
Разгадка в том, что такой уникальный и аристократичный Набоков, непоседа и эстет, самым что ни на есть пошлым буржуазным образом стал истово исповедовать индивидоцентризм. Это и есть его сокровенная религия, то, что он, якобы, ото всех скрывал.
Ничего подобного: он скрывал это лишь от самого себя, ибо нельзя быть художественным гением и при этом скрыть свою сущность. Именно поэтому он так ненавидел психоаналитическую технику разоблачения индивидоцентрических фокусов: в ее свете он тотчас оставался ни с чем, голым шутом при голом короле, без загадки, и даже без надежды как-нибудь эдак потемнить, навести тень на плетень. Психоаналитика делала его тем, кем он всегда и был – мистером Пустотой.
При этом самым сильным его аргументом в пользу собственной непостижимой значимости был такой подразумеваемый загадочный пассаж: Сирин-то неплохо владеет основами психологического анализа. Что неоднократно и убедительно демонстрировал. См. многочисленные перлы в сплошных шедеврах. Просто россыпи психологических находок, добавим от себя, вскрывающих механизм функционирования бессознательного. Дескать, не могу же я, интеллектуал, быть в плену у тех «законов», в которых и сам неплохо разбираюсь.
То простое соображение, что первой жертвой бессознательного становятся глупые психоаналитики как-то счастливо не пришло в голову писателя. Сапожник без сапог; врач, исцелись сам; писатель-психолог, не ври себе – все это вещи одного порядка. Где здесь личность? Где уникальность? Nabakoff пал жертвой закона обезличивания. Как и миллионы его почитателей.
Спутать личность с индивидом: это надо умудриться; для того же, чтобы прочитать «Онегина» в духе индивидоцентризма, – надо запутаться окончательно. Что с большим успехом и проделал Сирин.
3
А чем, собственно, отличается личность (средоточие культурной тенденции – персоноцентризма) от индивида (тенденции антикультурной – индивидоцентризма, эгоцентризма)?
Коротко можно ответить так: между ними – пропасть, располагающаяся в узеньком пространстве, отделяющем разум от интеллекта. Иной тип управления информацией – и возникает пропасть.
Личность является моментом целого, она аккумулирует в себе все свойства целого и, вследствие этого, связана с миром отношениями, которые выстраиваются на принципах тотальной диалектики. Понять личность – распутать ее сложные взаимоотношения с миром. Природа личности – тотальность, космичность. По отношению к культуре это сказывается в том, что личность соотносит все свои поступки с Высшими Культурными Ценностями, руководствуясь при этом разумом. Таким образом, личность является целостной информационной структурой, где витальное (бессознательное) познается ментальным (сознательным), хотя и не подчиняется ему непосредственно. Личность – это информация, структурированная в законах; познай себя – девиз личности.
Индивид же как информационная структура порожден центробежным началом; это уже не момент целого, а только часть последнего; это уже не единица космоса с многомерными связями-отношениями, а пуп земли, начало начал, – карикатурно выпяченная точка отсчета, вокруг которой, по щучьему велению, вертится вся вселенная. Индивид соотносит свои поступки с желаниями и хотениями, издеваясь над разумом при помощи интеллекта. Иными словами, перед нами феномен произвольной абсолютизации, произвольного перекраивания структуры вселенной под свои прихоти. «Закон» (девиз) индивида: вижу не то, что есть, а то, что хочу видеть. Понять такого человека-индивида – значит, уяснить себе, что он руководствуется исключительно собственными ощущениями, прикрываясь интеллектом. Он не познает, а приспосабливается.
Язык личности – разум, язык индивида – чувства. Личность – субъект разумного типа управления информацией; индивид – объект бессознательного приложения бессознательно добытой информации (и интеллект многократно усиливает воздействие бессознательного).
Наконец, роковой нюанс: личность (дитя культуры) распознает в себе индивида (дитя натуры) и выстраивает с ним отношения «по вертикали»: сверху – вниз. Личность «работает» над гармоничными отношениями с индивидом. Именно индивидом прирастает «богатство» личности.
Индивид же «предчувствует» саму возможность дорасти до личности (до верхнего информационного этажа) как вражескую интригу, направленную на самоотрицание индивида, и потому отрицает информационную структуру личности как высшую фазу своего развития. Наступает отчуждение от личности, и человек превращается в собственного врага. Для человека-индивида «быть» означает «не развиваться».
Таким образом, индивид и личность представляют собой модусы натуры и культуры, и отношения их – это отношения ценностных парадигм, но не отдельно взятых субъектов. В этой связи стоит разграничить индивид и личность по культурным меркам (функциям). Индивид является субъектом цивилизации; субъектом культуры является личность.
С этой точки зрения индивидоцентризм в литературе – это культурное обслуживание «натурного», бессознательного.
Кстати сказать, в «Евгении Онегине» дана блестящая формула индивидоцентризма:
А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен – и в романе,
И там уж торжествует он.
Почему же «порок» (мораль индивидоцентризма) «торжествует»?
Именно потому, что «умы в тумане» (хотя шустрому интеллекту кажется, что он все раскрепостил, то есть сделал порок «любезным», нормальным). С этой точки отсчета все и начинается, чтобы ею же и закончиться.
4
Давайте восстановим логику развития литературы, – логику, заложником которой стал неповторимый Набоков.
Вначале было то слово, которое «от Бога», то есть слово нормативно-моралистическое, серьезное, выполняющее целый спектр возложенных на него общественных функций: образовательно-воспитательных, познавательных, мировоззренческо-идеологических. Это было слово в формате «культурного регламента», слово, стоящее на страже тех догм, которые, по святому убеждению писателей, делали человека человеком. Литература по умолчанию становилась способом очеловечивания, а писатели по определению – теми «человеками», которые верили в духовные возможности «слова». В этой цепочке не было места дешевому вранью или манипулированию; принято было бескомпромиссно искать и, как водится, заблуждаться, честно и искренне. В чем в чем, а в благих намерениях такой литературе было не отказать.
И надо признать: литература была инструментом духовного совершенствования и человека, и общества. Это был великий век иллюзий, когда литературные утопии имели колоссальный авторитет. От Грибоедова – до Чехова, Шолохова, Булгакова… Да, были люди в свое время. «Хорошая, качественная, честная литература» и «культурный прогресс» были синонимическими понятиями. Читатели такой литературы были интеллигенцией и, соответственно, «солью земли». Где-то даже пастырями (то есть не только овцами). Властителями дум. Все остальные – паствой, которую надо было просвещать и спасать. Самые умные люди были убеждены, что хорошего человека можно воспитать, прежде всего с помощью хорошей литературы. Измените общество – и вы измените человека: это один вариант, насильственно-революционный; измените человека – и общественные нравы изменятся в сторону улучшения сами собой: это ненасильственный, хотя и не менее утопический вариант. И там и там – ставка на литературу как на инструмент мощного и эффективного психо-идеологического («душевного») воздействия.
Потом случилось то, что и должно было случиться: революции, войны и всевозможные социальные катаклизмы ХХ века (как-то: религиозно-этническая и расовая «неприязнь», терроризм, нехватка ресурсов и т. д.) наглядно показали, что, во-первых, человека воспитать невозможно; во-вторых, улучшению не поддаются и общественные нравы. Реальная природа человека и наши представления о его «духовной природе» оказались по разную сторону баррикад. Война всех против всех приобрела всемирно-исторические формы. В такой ситуации литература и ее функции резко изменились. Наставническая литература пастырей и духовных гигантов мгновенно оказалась прошлым человечества; на авансцену выдвинулась литература как забава и игра (это мироощущение, в частности, стала обслуживать идеология и художественная практика постмодернизма).
Постепенно и неизбежно сложились два полюса: те, кто настаивает на сакральной и культурной миссии литературы против тех, кто не признает за литературой функций «духовного производства». И те, и другие стали говорить о смерти литературы: первые с ностальгическим сожалением и апокалиптическим страхом, вторые – с легкомысленным восторгом отрекшихся от претензий «быть человеком».
Литература «библейской», канонической направленности (старой, доброй, чаще всего, почвенной) и литература «без царя в голове», а также без руля и без ветрил: вот две системы ценностей и две мировоззренческие парадигмы. Первую точнее всего назвать социоцентризмом, вторую – индивидоцентризмом. И устарела старина, и старым на новый лад бредит новизна. Третьего нет и не дано. Куда ж примкнет наш герой-писатель, «куда ж поскачет наш проказник», как говаривали в старину?
Мы все действительно вышли из шинели (если под «шинелью» понимать «доспехи героя», непременную атрибутику «сражения за идеалы»). Нас воспитывали как героев – на литературе социоцентрического типа, то есть литературе, озабоченной ценностями, актуальными для общества в большей степени, нежели для личности. Сначала общество, народ – потом индивидуум, отдельный человек: таково кредо традиционно ориентированной литературы. В центре такой литературы – герой и проблемы, связанные с героизмом: трагизм и сатира (не путать с трагикомизмом).
Главная проблема сегодня заключается в том, что литература современная стала ориентироваться исключительно на индивидуум (не путать с личностью, которая не равнодушна к общественным вопросам!). Современная литература – гейм-литература – исследует феномен индивидоцентризма.
В определенном смысле мы имеем дело со снижением духовной планки и одновременно с повышением планки интеллектуальной (ибо попытаться стать выше «глупого» общества можно только с помощью интеллекта). Индивидуум минус личность – это живот плюс душа, примыкающая к животу. Отдельная особь минус личность – это минус принципы, минус осмысленное отношение; это человек минус культура; в остатке имеем разрушительное эгоистическое начало, потому разрушительное, что озабочено оно развлечением, тем самым «зрелищем», что превращает человека общественного либо в человека толпы, либо в асоциальный элемент (правда, все это пышно именуется «соблюдением прав человека»; о «правах личности», обратим внимание, речи не идет, будто личности вовсе не существует в подлунном мире).
Поесть, поспать, а после меня хоть потоп: вот по большому философскому счету кредо человека, не желающего быть ни личностью, ни героем. Индивид в отличие от личности – существо асоциальное, ибо он не предлагает конструктивных стратегий сосуществования с обществом; его не интересует формат мировоззрения, он живет исключительно мироощущением, феноменами психическими, фантомными, иллюзорными; при этом он парадоксально весьма и весьма почитает интеллект, превращая его в инструмент развлечения и ничего не желая слышать о диалектических «кознях разума», жестко ставящего индивид на подобающее ему место. Пример подобной литературы – творчество В. В. Набокова в целом, в частности его роман «Лолита».
Поскольку в информационном космосе индивида нет «верха» – актуализируется «низ» (то есть ценности варваров: пожрать, поспать). Здесь может быть организован по-своему тонкий мир, здесь может царить эстетика, и даже интеллектуальная игра, заменяющая содержательную пустоту (что еще можно понять) пустотой содержания. Но здесь нет и в принципе не может быть ответственного отношения к личности и обществу. В плане стратегий художественной типизации, в плане пафосной организации «картины мира» мы имеем дело с различными модусами иронии, с модусами деконструктива, пустоты.
Таким образом, от социоцентризма к индивидоцентризму означает (в плане духовно-эстетического движения): от тотальной героики – к тотальной иронии.
5
А теперь представьте, что перед вами стоит задача опоэтизировать индивид, человека, отчужденного от духовной деятельности. Что вы станете делать?
Вам не останется ничего другого, как эстетизировать сомнительные проявления ничтожества, душевно-психологические проявления, само собой, какие же еще (ибо больше за душой ничего нет – zero, пустота), и обратиться при этом к тому фрейдизму, который и самого автора разоблачает как человека без внятного мировоззрения, человека, погрязшего в тенетах мироощущения. В этом контексте и дутый аристократизм превращается в модус пошлой бездуховности. Писатель-аристократ стал певцом пошлости, против которой он так решительно выступал. И Набоков, конечно, не фрейдизма боялся; он боялся себя, личности в себе, своей чуткости к экзистенциальным проблемам, давящим на индивида без его на то согласия.
В этом месте хотелось бы сказать несколько слов в защиту фрейдизма в частности, и психоаналитической технологии вообще.
Мне не приходилось слышать, чтобы о психоанализе говорили как об инструменте духовного совершенствования, как о персональном, личностном инструменте. Фрейдизм в контексте буржуазного индивидоцентризма выступает действительно как инструмент разоблачения коварства психики. Технология извлечения смыслов из глубин бессознательного направлена на то, чтобы изобличить «человека-подлеца». Вот почему «фрейдизм» бессознательно, но устойчиво связан с понятием «мутные глубины потемок души». Психоанализ (анализ психической содержательности, то есть пустоты) попадает в ассоциативную цепочку «бессознательное – деструктивное – безнравственное – деградация». Говорим психоанализ – подразумеваем «негатив», «минус личность». Анализ по умолчанию стал инструментом ковыряния в отстойниках души. Там, где фрейдизм, – там и грязь.
Что ж: за что боролся, на то и напоролся. Это верно, но верно отчасти, тогда верно, когда речь идет о бездуховном человеке-индивиде. Фрейдизм вскрывает то, что есть: пустоту, гуманистическую бессодержательность – цели и мотивы жалких интеллектуалов в лучшем случае. Вскрывает тотальную зависимость человека от того уровня витальной базы, которая берет свое начало в инстинктах. Происходит та самая редукция человека «к паху».
Однако бессодержательность может быть отправной точкой в деле построения личности, персоны; в принципиальном плане можно наполнить духовный мир содержанием. Этим занимается уже не фрейдизм, а сознание, разум человека. При таком типе личности, такой духовной структуре анализ бессознательного не ограничивается разоблачением фокусов психики как таковых; поскольку речь идет о ценностной ориентации, о системе и иерархии ценностей, анализ бессознательного превращается в анализ духовных технологий. Предмет исследования (анализа) принципиально меняется: мы уже анализируем не ту психику, что обслуживает подбрюшье (почти зоопсихологию), а ту, что реагирует на духовные коллизии (так сказать, ментальную психологию). А это уже иная информационная инстанция. Но это возможно, повторим, только тогда, когда речь идет о личности.
У Набокова личностей нет. Нет – и все. Его герои – жалкие индивиды. Зачем ему психоанализ? Он ему не нужен в сколько-нибудь значительном объеме – не нужен постольку, поскольку в его опусах, то есть в его картине мира, не присутствуют такие духовнообразующие полюса, как конструктивная «диалектика ума» и находящаяся в нигилистическом кураже «диалектика души». Вот такой предмет – диалектический спарринг ума и души – не является предметом Набокова. Он им брезгует, не разглядев его культурного потенциала. У Набокова все попроще, это вообще простой писатель (с точки зрения содержательности). Однако начал психоанализа, поверхностной аналитики в его произведениях хоть отбавляй. Иногда это становится собственно содержанием произведения, как, например, в рассказе «Ужас». Но движения, колебания, трепет души – это отнюдь не духовность, это именно суррогат духовности, так сказать, реабилитация индивида, наделение его некой «сверхтонкостью», которая ошибочно принимается за «глубину». Герой трепещет, как бабочка, обозначая как бы бездны глубин. Увы, нет иной глубины в человеке, кроме глубины ума.
6
За доказательствами обратимся к анализу маленького шедевра модерниста В.В. Набокова – рассказу «Рождество», который исследует ту же трагическую дихотомию (экзистенциальную дихотомию, как сказал бы Э. Фромм), что и многие произведения реалистической прозы, например, гениальная повесть Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Мотив преодоления отчаяния перед неизбежной смертью – в центре рассказа. Думаю, произведение это в определенном смысле является ключом ко всему лучшему, что создано Набоковым.
Концепция личности, сотворенная Набоковым, считавшим, что он не создает никаких концепций, не столь глубока и не столь насыщена диалектикой, как у Толстого. Набоков, на первый взгляд, бежит от каких бы то ни было идей (в соответствии со своими знаменитыми эстетическими декларациями). Рассказ вроде бы ни о чем, если не считать содержанием претензию на бессодержательность. «Просто красиво» написан, не более того. И все же мы попытаемся найти ключ к набоковской «чистой, безыдейной» поэтике. А ключ ко всякой поэтике, если она хотя бы отчасти является таковой, всегда лежит в области содержания. Принципиально иные методологические подходы, конечно, существуют, но они давно уже исчерпали конструктивный ресурс своих возможностей.
Присмотримся к сердцевине любого художественного произведения – к принципам обусловленности поведения героя, которые всегда пафосно окрашены (оценены). «Принципы» (точка зрения или логика персонажа) плюс «пафос» (авторская позиция) – вот важнейшие составляющие творческого метода писателя, которые воплощаются в стиле. Творческий метод Набокова чрезвычайно любопытен.
Активных действующих лиц в рассказе – всего двое: некто Слепцов и Тот, Кто повествует о произошедшем: повествователь. В субъектной организации произведения нет ничего необычного: смысловая «стереоскопичность» достигается способом традиционным – путем совмещения разных субъектов речи и, что принципиально, разных субъектов сознания (последние в отличие от первых отмечены разностью мировоззренческих позиций). Если характер Ивана Ильича (героя повести Толстого) прослежен с самых истоков его формирования до сложнейшей трансформации в конце произведения, то характера Слепцова как такового в рассказе нет. Он (характер, то есть специфически структурированная информационная система, в которой сопряжены несколько субъектов сознания, внутренне конфликтующих друг с другом) абсолютно не актуален, в нем нет нужды, поскольку Слепцову доверено быть носителем информации одноплановой, одномерной, непротиворечивой. Слепцов как субъект сознания, выражающий информацию одномерную, является типом, но не характером. Тип и характер, таким образом, – это принципиально разные информационные (следовательно, духовные) возможности. (Отметим, кстати, и такую художественную – следовательно, духовно-информационную – возможность: если перед нами характер героя, пересекающийся в духовном плане с характером повествователя, то мы имеем дело с целым спектром организованных точек зрения, а не с двумя «персонажами». Формально мы воспринимаем два субъекта сознания, но поскольку каждый из них является характером, вбирающим в себя несколько типов, то фактически мы имеем дело с таким «объемным» субъектом сознания, который вмещает в себя иные субъекты сознания. В результате нам предлагается то, что часто называют моделью мира, то есть целую систему отношений, которая состоит из разных позиций – мировоззренческих, духовных позиций. Множество точек зрения, множество типов отношений – вот вам и мир. Из этого следует: небольшое произведение может обозначить информационные возможности большого мира. Собственно, это и значит реализовать художественный потенциал малого жанра.)
Вот почему в рассказе преобладает лирический принцип типизации героя. Психологически поведение героя вполне реалистически обусловлено. Но психологический рисунок «Рождества» не выводит нас на глубокие нравственно-философские проблемы, ибо не обусловлен ими; тип психологизма Набокова (разновидность «тайного» психологизма) ничем не напоминает Толстого. Функция этого «условного» психологизма – иная.
Если отсутствует характер героя – следовательно, нет соответствующей ситуации, конфликта, сюжета и т. д. по всей стилевой парадигме; словом, нет соответствующей поэтики. Что же тогда есть?
Есть иная поэтика, соответствующая иному принципу типизации. Прежде всего, Слепцов один, если не считать слуги Ивана, подчеркнуто эпизодического лица (повествователь по законам рода и жанра «как бы невидим»). Одиночество само по себе есть всегда сублимация смерти; это отчужденность, выброшенность из жизни. И Слепцов пытается что-то противопоставить идее смерти, найти контраргументы в пользу жизни. В этой скрытой, невидимой схватке, которую тонко комментирует повествователь, победителем выходит Слепцов.
Однако сама по себе схватка, которая привела к «рождеству» нового эмоционально-мыслительного (медитативного) состояния, происходит вне всякой связи с конкретными обстоятельствами жизни героя. Сказать о Слепцове «среда заела» – невозможно, потому что вокруг него нет никакой среды. Его социальная обозначенность весьма условна. В данном случае герой Набокова почти метафизичен, вынут из среды, не вырастает из социума и не обуславливается им. Это явно «лирическая» по родовой своей характеристике ситуация. Вот почему Слепцов лишен характера; противоречия же, мучающие его, – вечные противоречия, обусловленные не средой, а природой человека как таковой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































